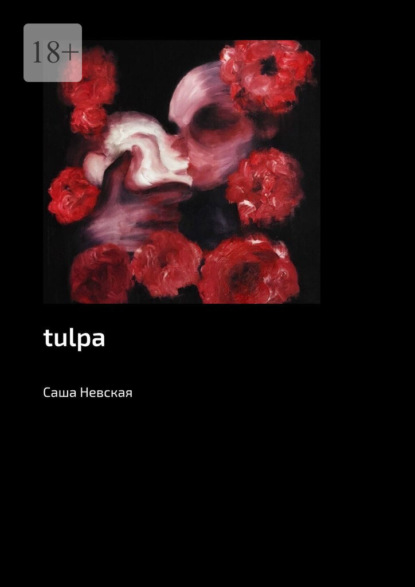По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
tulpa
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
мы оба прошли сотни тысяч дорог до нас,
нас лбами столкнула судьба,
как в дешевом попсовом фильме.
на ТВ говорят, что такую любовь встречают лишь раз —
выключи звук его.
пусть пульсирует кровь в метрономном ритме.
мы научим друг друга любить в особенном, исключительном толке,
хотя оба, изношенные, без слов знаем суть:
важно не клеить, а зацеловывать вазы осколки,
и вновь случайно/нарочно ее не толкнуть.
13.04.21
14:56
нежное нужное
нежное нужное je t`aime
становится жутко неважным
когда губ твоих жженный джем
жалит жилы своей жаждой
рассвет расцелует реки
раскинутых в распятие рук
я – твоя горькая гордая reine
разрежу крови и сердца круг
и вся слаб (д) ость моя – лишь твоя вина
и что ласки твои – личный класс la vie
линия пальцев на теле моем видна
невольные влажные вздохи в ладонь лови
эти строки – лишь блеск ассонансов
и аллитераций к рифме моей любви
как тебе ни один из французских романсов
в экстазе не выкрикнет
ta reine t`aime plus que la vie
15.04.21
04:11
тошнота уникальности: как мантры об исключительности писателей прошлого убивают шедевры писателей будущего
Давайте дружно признаемся: абсолютно бесполезно придумывать себе образ толерантной овечки и задвигать, что работающие со словом любых ипостасей и мастей люди – такие же жители стандартносоциумной обители. Homo Sapiens Sapiens Normal и Homo Sapiens Sapiens Creative (важным замечанием тут станет пометка, что creative в приведенном контексте переводится как творческий, но уж точно не креативный) всегда относились к разным кастам и, не побоюсь этого слова, даже реальностям. Эта многовековая пропасть между видами человеческого сознания ни в коей мере не превозносит Криэйтора как совершенную форму разума – это, скорее, мысль субъективная: для кого-то творцы – Иисусы оскудевших душ, для остальных – те же Иисусы, только с картинной скорбью в глазах и злостными матами – в нынешних реалиях – тащущие крест своей одаренности на Голгофу своей жизни, поправляя сдавливающий полубезумную голову терновый венец (новая пометка-неожиданность: такого мнения о себе придерживается большая часть деятелей искусства, в основном – наделенная реальным талантом, а не раздутым до немыслимых размеров эго).
Вышеупомянутая пропасть между кастами в очередной раз подтверждается их полярно различными установками: общество нормальное требует от своего члена образа под штампом «все как у людей» – с самостоятельно собранным комодом из Икеи, стабильной зарплатой и отпуском с детьми на Азове раз в год; социум же творческий с позором изгоняет из своих рядов участников, не выучивших мантру, подобную сакральному «Ом»: «писать уникально, быть ни на кого не похожим, „быть тем, кем другие не были“ – по Бродскому». Уникальность никогда не была равна оригинальности: поэтому писатель всегда может быть оригинальным – то есть, интересным по стилистике и смысловому наполнению, но уникальным – раз, скажем, в столетие. Поколение зумеров называет это «токсичными установками» – в попытках стать чем-то (или кем-то) по-настоящему выдающимся, пипоэт (так забавно назовем симбиоз писателя и поэта как автора в принципе) изнемождает себя в бэдтрипе отчаянного поиска новейших рифм, метафор, жанров и так далее и тому подобное.
Возьмем в пример кажущейся изначально абсурдной мысль о знаменитой заставке Dream Works с мальчиком, самозабвенно сидящим на полумесяце и зажавшем в пиксельной руке удочку и Боге-рыбаке. Пипоэт (автору этого эссе тоже смешно, но сосредоточимся на значимом) морозной ночью смотрит на полумесяц и думает о том, как бы было неплохо и, вроде как, уникально написать о Боге, безнадежно уставшем от людских Вторых Мировых, Содом и Гоморр и прочих порочных развлечений человечества и занявшемся простыми радостями жизни, одной из которых стала рыбалка в звездном океане на лунном серпе. Но вот незадача-то: сначала он вспоминает ту самую заставку из любимого мультфильма, а потом приходит к мысли о том, что таких текстов предостаточно, и «еще один будет лишним» – снова по Бродскому. Происходит двойной удар по профессиональному самолюбию и дальнейший нокаут по творчеству автора: мало того, что об этом уже точно кто-то строчил, так подобную зарисовку уже воплотили даже визуально! «Нет, это чересчур далеко от уникальности», – подавленно решает он, – «а если Бог-огородник? Бог-цветовод? Бог-собиратель марок? Марок наркотического характера? Но…».
И это самое «но» и недосягаемые мечты об исключительности творчества становятся главной болью и камнем преткновения всех авторов. Они делают на нее неверный упор, возводя ее в идеал, но не замечают, пожалуй, главной истины двадцать первого века: мы уже не живем жизнь так, как другие ее не жили – мы всего лишь копируем, создаем подобие, плагиатим и множество других синонимов к современной фразе «делаем реплику» жизни. Все наши ощущения и переживания уже избиты, измерены, исчувствованы – а значит, и написаны не так важно кем – Достоевским и Крыловым или Васей из соседнего подъезда, увлекающимся граффити и Егора, пишущим стихотворения в стол и на суд собственной матери. Писатели нашей реальности в общем смысле уже априори обречены не быть Пушкиными для русской литературы – но у них все еще остается возможность быть оригинальными, и в этом их сила, которую никакое время не сумеет отобрать.
Сила оригинальности неизбежно сталкивается с уникальностью – как бы невнятно и противоречиво для этого текста это высказывание не звучало. Это весьма просто объяснить знаменитым явлением человеческой психики – а именно так называемым синдромом утенка: человек, ознакомившись с определенной областью и столкнувшись с первым объектом в ней с вероятностью в девяносто процентов будет считать его образцом для подражания для других объектов из этой области. Значит, и читатель, впервые прочитав стихотворение, скажем, пресловутой любовной лирики с теми же цифрами будет считать его лучшим из всего того, что прочитает в будущем. Это и есть вечный круговорот уникальности в искусстве, дающий любому пипоэту шанс стать для кого-то литературным Эйнштейном: пожалуй, достаточно иметь креативный стиль, собственное видение мира и отпустить вечную отравляющую погоню за тем, чего еще не существовало. Получается что-то вроде уробороса мировой литературы.
нас лбами столкнула судьба,
как в дешевом попсовом фильме.
на ТВ говорят, что такую любовь встречают лишь раз —
выключи звук его.
пусть пульсирует кровь в метрономном ритме.
мы научим друг друга любить в особенном, исключительном толке,
хотя оба, изношенные, без слов знаем суть:
важно не клеить, а зацеловывать вазы осколки,
и вновь случайно/нарочно ее не толкнуть.
13.04.21
14:56
нежное нужное
нежное нужное je t`aime
становится жутко неважным
когда губ твоих жженный джем
жалит жилы своей жаждой
рассвет расцелует реки
раскинутых в распятие рук
я – твоя горькая гордая reine
разрежу крови и сердца круг
и вся слаб (д) ость моя – лишь твоя вина
и что ласки твои – личный класс la vie
линия пальцев на теле моем видна
невольные влажные вздохи в ладонь лови
эти строки – лишь блеск ассонансов
и аллитераций к рифме моей любви
как тебе ни один из французских романсов
в экстазе не выкрикнет
ta reine t`aime plus que la vie
15.04.21
04:11
тошнота уникальности: как мантры об исключительности писателей прошлого убивают шедевры писателей будущего
Давайте дружно признаемся: абсолютно бесполезно придумывать себе образ толерантной овечки и задвигать, что работающие со словом любых ипостасей и мастей люди – такие же жители стандартносоциумной обители. Homo Sapiens Sapiens Normal и Homo Sapiens Sapiens Creative (важным замечанием тут станет пометка, что creative в приведенном контексте переводится как творческий, но уж точно не креативный) всегда относились к разным кастам и, не побоюсь этого слова, даже реальностям. Эта многовековая пропасть между видами человеческого сознания ни в коей мере не превозносит Криэйтора как совершенную форму разума – это, скорее, мысль субъективная: для кого-то творцы – Иисусы оскудевших душ, для остальных – те же Иисусы, только с картинной скорбью в глазах и злостными матами – в нынешних реалиях – тащущие крест своей одаренности на Голгофу своей жизни, поправляя сдавливающий полубезумную голову терновый венец (новая пометка-неожиданность: такого мнения о себе придерживается большая часть деятелей искусства, в основном – наделенная реальным талантом, а не раздутым до немыслимых размеров эго).
Вышеупомянутая пропасть между кастами в очередной раз подтверждается их полярно различными установками: общество нормальное требует от своего члена образа под штампом «все как у людей» – с самостоятельно собранным комодом из Икеи, стабильной зарплатой и отпуском с детьми на Азове раз в год; социум же творческий с позором изгоняет из своих рядов участников, не выучивших мантру, подобную сакральному «Ом»: «писать уникально, быть ни на кого не похожим, „быть тем, кем другие не были“ – по Бродскому». Уникальность никогда не была равна оригинальности: поэтому писатель всегда может быть оригинальным – то есть, интересным по стилистике и смысловому наполнению, но уникальным – раз, скажем, в столетие. Поколение зумеров называет это «токсичными установками» – в попытках стать чем-то (или кем-то) по-настоящему выдающимся, пипоэт (так забавно назовем симбиоз писателя и поэта как автора в принципе) изнемождает себя в бэдтрипе отчаянного поиска новейших рифм, метафор, жанров и так далее и тому подобное.
Возьмем в пример кажущейся изначально абсурдной мысль о знаменитой заставке Dream Works с мальчиком, самозабвенно сидящим на полумесяце и зажавшем в пиксельной руке удочку и Боге-рыбаке. Пипоэт (автору этого эссе тоже смешно, но сосредоточимся на значимом) морозной ночью смотрит на полумесяц и думает о том, как бы было неплохо и, вроде как, уникально написать о Боге, безнадежно уставшем от людских Вторых Мировых, Содом и Гоморр и прочих порочных развлечений человечества и занявшемся простыми радостями жизни, одной из которых стала рыбалка в звездном океане на лунном серпе. Но вот незадача-то: сначала он вспоминает ту самую заставку из любимого мультфильма, а потом приходит к мысли о том, что таких текстов предостаточно, и «еще один будет лишним» – снова по Бродскому. Происходит двойной удар по профессиональному самолюбию и дальнейший нокаут по творчеству автора: мало того, что об этом уже точно кто-то строчил, так подобную зарисовку уже воплотили даже визуально! «Нет, это чересчур далеко от уникальности», – подавленно решает он, – «а если Бог-огородник? Бог-цветовод? Бог-собиратель марок? Марок наркотического характера? Но…».
И это самое «но» и недосягаемые мечты об исключительности творчества становятся главной болью и камнем преткновения всех авторов. Они делают на нее неверный упор, возводя ее в идеал, но не замечают, пожалуй, главной истины двадцать первого века: мы уже не живем жизнь так, как другие ее не жили – мы всего лишь копируем, создаем подобие, плагиатим и множество других синонимов к современной фразе «делаем реплику» жизни. Все наши ощущения и переживания уже избиты, измерены, исчувствованы – а значит, и написаны не так важно кем – Достоевским и Крыловым или Васей из соседнего подъезда, увлекающимся граффити и Егора, пишущим стихотворения в стол и на суд собственной матери. Писатели нашей реальности в общем смысле уже априори обречены не быть Пушкиными для русской литературы – но у них все еще остается возможность быть оригинальными, и в этом их сила, которую никакое время не сумеет отобрать.
Сила оригинальности неизбежно сталкивается с уникальностью – как бы невнятно и противоречиво для этого текста это высказывание не звучало. Это весьма просто объяснить знаменитым явлением человеческой психики – а именно так называемым синдромом утенка: человек, ознакомившись с определенной областью и столкнувшись с первым объектом в ней с вероятностью в девяносто процентов будет считать его образцом для подражания для других объектов из этой области. Значит, и читатель, впервые прочитав стихотворение, скажем, пресловутой любовной лирики с теми же цифрами будет считать его лучшим из всего того, что прочитает в будущем. Это и есть вечный круговорот уникальности в искусстве, дающий любому пипоэту шанс стать для кого-то литературным Эйнштейном: пожалуй, достаточно иметь креативный стиль, собственное видение мира и отпустить вечную отравляющую погоню за тем, чего еще не существовало. Получается что-то вроде уробороса мировой литературы.