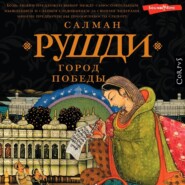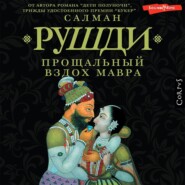По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотой дом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отель, который все так любили, подвергся нападению около 21.45. Расстреляв тех, кто находился у бассейна, боевики двинулись в зону ресторанов. Молодая женщина, работавшая в Морском зале – том, куда юноши приводили девушек, чтобы произвести на них впечатление, – помогла многим бежать через служебный выход, но когда в этот зал ворвались боевики, она сама была убита. В ход пошли гранаты, оргия убийств продолжалась, осада длилась три дня. Снаружи находились телекамеры, собралась толпа, кто?то крикнул: “Отель горит!” Языки пламени вырывались из окон верхнего этажа, вспыхнула и знаменитая лестница. Среди оказавшихся в огненной ловушке и сгоревших заживо были жена и дети управляющего отелем. Боевики располагали поэтажными планами, более точными, чем те, что имелись у сил безопасности. Наркотики помогали убийцам обходиться без сна, а ЛСД, которая не является психостимулятором, в сочетании с другими средствами, которые действуют как психостимуляторы, вызывала маниакальное неистовство с галлюцинациями, и боевики громко хохотали, убивая. Снаружи телекомментаторы сообщали о тех постояльцах, кому удалось выбраться, и убийцы смотрели телевизор, чтобы выяснить, какими путями выходят из отеля. К концу осады более тридцати человек было мертво, в том числе многие из персонала.
Голдены, тогда еще носившие старое, позднее отброшенное имя, жили в самом привилегированном районе, на самом привилегированном холме, в огороженном и охраняемом квартале, в большом современном доме с видом на особняки ар-деко, вытянувшиеся вдоль бухты Бэк-бей, куда каждую ночь стремглав ныряло красное солнце. Можно вообразить их там, старика, тогда еще не столь старого, и сыновей, тоже более молодых: первенца, крупнотелого, гениального, неуклюжего, страдающего агорафобией; среднего, склонного бродить по ночам и рисовавшего светские портреты; младшего, в ком бушевала тьма и растерянность; вероятно, в игру с классическими именами старик вовлек их много лет назад, как с малолетства приучал их к мысли, что они не простые люди, они Цезари, полубоги. Римских императоров, а затем византийских, арабы и персы именовали Кайсар-е-Рум, то есть римскими цезарями. И если Рим был Рум, то они, цари нового восточного Рима – Руми. Это побудило их изучать мистика и мудреца Руми, Джалал-ад-Дина Балхи, его цитатами отец и сыновья перебрасывались, словно теннисными мячиками. Чего ты ищешь, само тебя ищет; ты – вселенная в экстатическом движении; не бойся дурной славы; создай собственный миф; продай свой ум и купи безумие; подожги свою жизнь, ищи тех, кто раздует твой огонь; или: если желаешь исцелиться, позволь себе заболеть, и так далее, пока им не надоели его афоризмы, и тогда они принялись, друг другу на потеху, сочинять собственные: хочешь быть богатым, обедней; если кто?то тебя ищет, значит, ты ищешь его; хочешь стоять правильно, стой на голове.
После чего они перестали быть Руми и сделались на латинский манер Юлиями, сыновьями Цезаря, которые и сами Цезари или станут таковыми. Они принадлежали к старинной семье, которая утверждала, что способна проследить свою генеалогию вплоть до Александра Великого (а тот, по Плутарху, был сыном самого Зевса), так что по меньшей мере могли считаться ровней Юлиям-Клавдиям, происходившим якобы от Юла, сына благочестивого Энея, троянского принца, чьей матерью была богиня Венера. Что же до самого имени “Цезарь”, имеется как минимум четыре его этимологии. То ли первый Цезарь убил caesai — так мавры называли слона? То ли у него на голове густо росли волосы – caesaries? Или он отличался серыми глазами, oculis caesiis? Или его имя происходит от глагола caedere, резать, поскольку он был извлечен на свет кесаревым сечением?
– Глаза у меня не серые, мать родила меня обычным путем, – сказал старик, – и мои волосы, хотя пока и сохранились, поредели; слонов я также не убивал. К черту первого Цезаря – предпочту быть последним, Нероном.
– Кто же в таком случае мы? – спросил средний сын.
– Вы – мои сыновья, – пожал плечами патриарх. – Выбирайте себе имена сами.
Потом, когда настало время уезжать, они обнаружили, что он подготовил им паспорта на эти новые имена, и это их не удивило: их отец был человеком дела.
А вот, как на старой фотографии, жена старика, маленькая печальная женщина, седые волосы уложены в растрепанный пучок, память нанесенных самой себе ран в глазах. Жена Цезаря: обязана быть вне подозрения и прикована к худшей в мире профессии.
Вечером 26 ноября что?то случилось в большом доме, какой?то спор между Цезарем и его женой, она потребовала “мерседес” с шофером и в горе покинула дом, искала утешения у подруг. Так она оказалась в Морском зале любимого всеми отеля, ела сэндвичи с огурцами и пила сильно подслащенный свежевыжатый лаймовый сок, когда галлюцинирующие боевики ворвались, хохоча от счастья, глаза навыкате, психоделические воображаемые птицы над головой, и открыли стрельбу на поражение.
И да, разумеется, страна была Индия, город, разумеется, Бомбей, дом – в том роскошном поселении Уолкшвар на Малабарском холме, и, разумеется, это была атака исламских террористов, отправленных из Пакистана Лашкаре-Тайба, “армией революции”. Сначала напали на вокзал, прежде именовавшийся Терминалом Виктории, VT, а теперь, как все в Бомбее-Мумбаи, переименованный в честь героя маратхи принца Шиваджи, – потом на кафе “Леопольд” в Колабе, на отель “Оберой Трайдент”, на кинотеатр “Метро”, на больницу “Кама и Алблесс”, на еврейский центр “Шабад” и отели “Тадж-Махал” и “Тауэр”. И да, после трех дней осады и боев мать двух старших мальчиков Голденов (о матери младшего мы еще поговорим) была найдена среди погибших.
Когда старик услышал, что его жена заперта в “Тадже”, колени у него подогнулись, и он бы покатился вниз по мраморным ступеням своего мраморного дома, из мраморной гостиной на нижнюю мраморную террасу, если бы слуга не стоял достаточно близко, чтобы его подхватить, но в ту пору слуги были повсюду. Старик остался стоять на коленях, уткнувшись лицом в ладони, его сотрясали рыдания столь громкие, судорожные, словно рвался наружу заточенный в нем зверь. Все время, пока продолжался бой, он оставался в этой молитвенной позе на верхней площадке мраморной лестницы, отказываясь от еды и сна, колотя себя в грудь кулаком, словно профессиональный плакальщик на похоронах, и обвиняя себя. Я не знал, что она поедет туда, восклицал он, как я не догадался, нельзя было ее отпускать. В те дни воздух в городе казался темным, как кровь, и даже в полдень темным, как зеркало, старик увидел в нем свое отражение, и оно ему не понравилось, и так велика была сила его видения, что сыновья видели то же самое, и когда пришла дурная весть, отрезавшая их от прежней жизни, с воскресными прогулками вдоль ипподрома в компании членов старинных и славных семей Бомбея и нуворишей, со сквошем и бриджем, бассейном и бадминтоном и гольфом в клубе “Уиллингдон”, с киноактрисульками и джазом – когда все это ушло навеки, утонуло в океане смерти, – они согласились с тем, что пожелал сделать отец, то есть оставить этот дом из мрамора и разбитый, разодранный город, где стоял этот дом, и всю эту грязную, коррумпированную, больную страну, все, что у них было и что отец внезапно или не так уж внезапно возненавидел, они согласились забыть каждую подробность того, что этот город и дом для них значил и кем они здесь были и что утратили: женщину, чей муж накричал на нее и тем самым отправил навстречу року, женщину, чьи сыновья ее любили, а пасынок однажды так гнусно унизил, что она пыталась покончить с собой. Они начисто вытрут доску, обретут новые личности, переберутся на другой конец света и станут другими, не теми, кем были. Они ускользнут из исторического в личное, в Новом Свете им только личное и нужно, только этого они добиваются: стать отдельными, индивидуальными, одинокими, чтобы каждый на свой лад заключал договор с повседневной, внешней историей и внешним миром – приватно. И ни одному из них в голову не пришло, что это решение родилось из чудовищной веры в свою привилегированность, из убеждения, что они могут вот так запросто выйти из вчерашнего дня и начать завтрашний, словно оба дня не принадлежат одной неделе, выйти за пределы памяти, корней, языка и расы в страну самодельного Я, иными словами – в Америку.
Как же мы оклеветали ее, покойницу, когда в своих пересудах объясняли ее отсутствие в Нью-Йорке супружеской изменой. Ее отсутствие, ее трагедия придавали смысл присутствию ее семьи среди нас. Она была моралью этой истории.
Когда умерла жена императора Нерона Поппея Сабина, он сжег на похоронах десятилетний запас аравийского ладана. Однако в случае Нерона Голдена все благовония мира не смогли бы заглушить скверный запах.
Юридический термин бенами выглядит почти что французским, ben-ami, сбивая с толку несведущих, наводя их на мысль, что это слово означает “добрый друг”, bon-ami, или же “любимый”, bien-aimе, что?то в таком роде. Но на самом деле это слово персидского происхождения и корни в нем не ben-ami, а bе-nаmi. Bе – приставка “без”, а nаm – “имя”, то есть benami – “безымянный”, “анонимный”. В Индии benami называются трансакции недвижимости, в которых покупатель, от имени которого совершается сделка, служит всего лишь прикрытием для реального владельца. На старом американском сленге в значении benami используется beard – “борода”.
В 1988 году правительство Индии приняло Закон о трансакциях бенами (об их запрете), который не только объявил такие сделки юридически недействительными, но и дал государству право конфисковать анонимную недвижимость. Впрочем, оставалось много лазеек, и одним из средств борьбы с этими лазейками предполагалось введение системы “Аадхаар”. Аадхаар – двенадцатизначный номер социального страхования, присваиваемый каждому гражданину Индии пожизненно. При любых сделках с недвижимостью и финансовых транзакциях вменяется указывать этот номер, и таким образом остается электронный след от любой деятельности граждан. Тем не менее тот человек, которого мы знали под именем Нерон Голден, к тому времени уже более двадцати лет как американский гражданин и отец американских граждан, успел обойти новое законодательство. Когда произошло то, что произошло, и все вышло на свет, мы узнали, что дом Голденов принадлежал даме почтенного возраста, старшей из двух смотрительниц особняка, и никаких иных юридических документов не существовало. Но случилось то, что случилось, и даже стены, столь тщательно возводившиеся Нероном, обрушились, и чудовищный размах его преступности предстал перед нами, обнаженный в ясном свете дня. Это случилось в будущем. А пока он был просто Н. Ю. Голден, наш богатый и – как мы убедились – вульгарный сосед.
4
В укромном, заросшем травой квадрате Сада я ползал прежде, чем начал ходить, ходил прежде, чем начал бегать, бегал прежде, чем научился танцевать, танцевал прежде, чем пел, и я танцевал и пел, пока не научился тишине и молчанию и не замер неподвижно, прислушиваясь к сердцу Сада, где летними вечерами сияли светлячки, и не сделался, по крайней мере в собственных глазах, художником. Точнее говоря, будущим сочинителем фильмов. В моих мечтах – режиссером или даже, как некогда торжественно выражались, “автором-сценаристом”.
До сих пор я скрывался за формой первого лица множественного числа и, возможно, буду и впредь, но пора уже представиться. Вот я. Но в каком?то смысле я не особо отличаюсь от моих персонажей, ведь они тоже скрывались от семьи, чье прибытие в мой уголок мира снабдило меня великим проектом, который я до той поры с возрастающим отчаянием себе подыскивал. Если Голдены основательно вложились в истребление своего прошлого, то я, взявший на себя задачу быть их хронистом и, вероятно, их имажинатором – такой термин был выдуман для тех, кто изобретает аттракционы в тематических парках Диснея, – я по натуре склонен держаться в тени. Как говорит Ишервуд в зачине “Прощай, Берлин”? “Я – камера с открытым объективом, совершенно пассивная, не мыслящая – только фиксирующая”[7 - Перевод А. Курт.]. Но так было тогда, а ныне век смарт-камер, которые мыслят за нас. Может быть, я такая смарт-камера. Я записываю, но я не вовсе пассивен. Я мыслю. Я что?то меняю. Возможно, даже изобретаю. Быть имажинатором в конце концов совсем не то, что быть буквалистом. Звездная ночь на картине Ван Гога не похожа на фотографию звездной ночи, и тем не менее это великолепное отображение звездной ночи. Давайте сразу договоримся: я предпочитаю фотографии живопись. Я камера, которая рисует.
Зовите меня Рене. Мне всегда нравилось, как рассказчик в “Моби Дике” не открывает нам свое имя на самом деле. “Зовите-меня-Измаил” – в “реальности”, то есть в жалком Настоящем, что лежит за пределами великой Реальности романа, его могли звать – да как угодно. Он мог быть Брэд, Триг, Орнетт, Шуйлер, Зик. Он мог быть даже Измаилом. Мы не знаем, и, подобно моему великому предшественнику, я предпочту не говорить прямо: “меня зовут Рене”. Зовите меня Рене – вот все, что я могу вам предложить.
Идем дальше. Оба мои родителя были университетские преподаватели (вы замечаете в их сыне наследственную профессорскую нотку?), они купили наш дом на углу Салливан и Хаустон еще в юрский период, когда все было дешево. Представляю вам родителей: Гейб и Дарси Унтерлинден, состоящие в долгом счастливом браке – не только почтенные ученые, но и любимые учителя и, подобно великому Пуаро (персонаж вымышленный, но, как говорит Миа Фэрроу в “Пурпурной розе Каира”, нельзя иметь все сразу)… бельгийцы. В прошлом, спешу уточнить, бельгийцы, давно уже и навсегда американцы. Гейб упорно сохранял своеобразный, утрированный и по большей части искусственный общеевропейский акцент, Дарси прекрасно чувствовала себя в шкуре янки. Профессора играли в пинг-понг (они бросили вызов Нерону Голдену, узнав о его любви к этому спорту, и он разбил их в пух и прах, хотя оба они играли прилично). Они все время обменивались поэтическими цитатами. Они разбирались в бейсболе и, хихикая, прилипали к экранам во время реалити-шоу, любили оперу, вечно планировали общую, так и не написанную монографию об этом жанре под названием “Цыпочка должна умереть”.
Они любили свой город за несходство со всей страной.
– Рим не ессть Италия, – наставлял меня отец, – Лондон не ессть Англия, и Париж не ессть Франция, и сдесь, где мы сейчасс, сдесь не Соединенные Штаты Америки. Сдесь ессть Нью-Йорк.
– Между метрополией и периферией, – вставляла примечание мама, – вечное отчуждение, вечный ресентимент.
– После одиннадцатого сентября Америка притворяется, будто любит нас, – говорил папа. – Надолго ли такая любофф?
– Очень, на хрен, ненадолго, – подхватывала его мысль мама (она часто вставляла ругательства и уверяла, что сама того не замечает. Сами выскакивают).
– Это ессть пузырь, как все теперь говорят, – продолжал папа. – Это ессть как в фильме с Джимом Керри, только в масштабах большого города.
– “Шоу Трумана”, – спешила с пояснением мама. – И даже не весь город в пузыре, потому что пузырь надувается деньгами, а деньги распределены неравномерно.
В этом их суждение отличалось от общепринятого, согласно которому наш пузырь состоял из прогрессивных программ, или же они, как добрые постмарксисты, верили, что либерализм обусловлен экономически.
– Бронксс, Квинсс, может быть, не совсем в пузыре, – рассуждал отец. – Стейтен-Айленд безусловно не в пузыре.
– Бруклин?
– Бруклин. Да, может быть в пузыре. Частями.
– Бруклин прекрасен, – начинал отец фразу, и они в унисон заканчивали свою любимую, сто раз повторенную штуку: – Но он ессть в Бруклине!
– Суть в том, что мы любим свой пузырь, и ты его любишь, – говорил мне отец. – Мы не хотим жить в красном штате[8 - “Красные” штаты голосуют за республиканцев.] и ты – тебе конец пришел бы, скажем, в Канзассе, где не верят в эволюцию.
– По правде говоря, Канзас – доказательство против теории Дарвина, – мурлыкала мама. – Видимо, не всегда выживают самые приспособленные. Порой вместо них остаются самые никчемные.
– А еще сумасшедшие ковбои, – продолжал отец, и мама подхватывала:
– Мы бы не смогли жить в Калифорнии.
(В этот момент понятие пузыря усложнялось, к экономическому противопоставлению добавлялось культурное, правый берег и левый берег, Бигги-но-не-Тупак[9 - Кристофер Уоллес (B. I. G., Бигги, 1972–1992) – исполнитель хип-хопа, лидер Восточного побережья, противостоявший Тупак Шакуру (1971–1996), также исполнителю хип-хопа и лидеру Западного побережья. Оба рэпера погибли в перестрелках, после чего Война Побережий закончилась.]. Но их вроде бы не смущали противоречия собственной позиции.)
– Вот кто ты ессть, – вменял мне отец. – Мальчик в пузыре[10 - “Мальчик в пузыре” (“The Boy in the Bubble”) – песня Пола Саймона (1986), припев которой цитирует в следующей реплике мать. Сама песня апокалиптична: “Дни чудес и дива” – это взрывчатка в детской коляске и т. п.].
– Настали дни чудес и дива, – цитировала мама. – И не плачь, малыш, не плачь, на хрен, не плачь.
У меня было счастливое детство с моими профессорами. В центре пузыря был Сад, Сад был сердцем пузыря. Я вырос в заколдованном мире, укрытом от зла, обмотанный шелковым коконом городского либерализма, отсюда моя отвага, отвага невинности, хотя я и знал, что за пределами этих чар черные ветряные мельницы ждут дурака-донкихота. (И все же “единственное оправдание привилегиям – обратить их на пользу”, учил меня отец.) Я ходил в школу Литтл-Ред[11 - Литтл-Ред (основана в 1921 г., переехала на Бликер-стрит в 1932 г.) считается первой прогрессистской школой Нью-Йорка, ориентированной на критическое мышление, сотрудничество и социальную ответственность.], потом учился в университете на площади Вашингтона[12 - Т.е. в Нью-Йоркском университете.]. Вся жизнь в пределах дюжины кварталов. Мои родители все?таки знали больше приключений. Отец учился в Оксфорде на фулбрайтовскую стипендию, а по окончании вместе с британским приятелем проехал в “мини-тревеллере” Европу и Азию – Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию – в тот вышеупомянутый юрский период, когда по Земле бегали динозавры и можно было, не лишившись головы, совершить подобное путешествие. Вернувшись, он счел, что на этом с него большого мира хватит, и сделался, вместе с Берроузом и Уоллесом[13 - Эдвин Берроуз и Майк Уоллес, авторы книги “Готэм: история Нью-Йорка до 1898 года”.], одним из трех главных историографов города Нью-Йорка, соавтором, наряду с этими двумя достойными джентльменами, многотомной классики, “Метрополиса”, полной и окончательной истории родного города Супермена, где мы все жили, и где каждое утро на порог дома падала “Дейли плэнет”, и где через много лет после старика Супера обосновался Спайдермен – поблизости, в Квинсе. Когда мы вместе гуляли по Виллидж, он указывал мне, где жил некогда Аарон Берр, а как?то раз, стоя перед мультиплексом на углу Второй авеню и Тридцать второй улицы, он рассказал мне полную версию высадки в бухте Кип[14 - Высадка в бухте Кип (15 сентября (https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F)1776 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)) – британская операция в ходе Американской войны за независимость.] и как Мэри Линдли Мюррей спасла американских солдат Израэля Патнэма, попросив британского генерала Уильяма Хоува прекратить погоню за беглецами, а лучше зайти к ней на чай в ее великолепный дом Инкленберг на вершине холма, который потом будет назван ее именем.
Моя мама была на свой лад столь же бестрепетна. В молодости она работала в системе здравоохранения, возилась с наркоманами и кое?как выживающими фермерами Африки. После моего рождения ей пришлось сузить поле деятельности: сначала она сделалась экспертом по воспитанию малолетних, а со временем профессором психологии. Наш дом на Салливан в дальнем от особняка Голденов конце Сада был заполнен любимым хламом, накопившимся за их жизни – протертыми персидскими коврами, резными деревянными африканскими статуэтками, фотографиями, картами и гравюрами первых “Новых” городов на острове Манхэттен – и Нового Амстердама, и Нового Йорка. Имелся уголок, посвященный знаменитым бельгийцам, оригинальная иллюстрация к “Тинтину” висела рядом с Дианой фон Фюрстенберг (портрет работы Уорхола, трафаретная печать) и знаменитым голливудским снимком красавицы-актрисы из “Завтрака у Тиффани” с длинным мундштуком в руках – прежняя мисс Эдда ван Хеемстра, впоследствии обожаемая многими под именем Одри Хепберн. А под ними – первое издание “Воспоминаний Адриана” Маргерит Юрсенар на маленьком столике рядом с фотографиями моего тезки Магритта в его студии, велогонщика Эдди Меркса и Поющей Монахини[15 - Жаннин Деккерс (1933–1985) постриглась под именем Люк-Габриэль… Благодаря песням и фильму “Поющая монахиня” (1965) обрела популярность, вернулась в мир и пела под псевдонимом Люк Доминик.] (Жан-Клод ван Дамм не был допущен в собрание).
Несмотря на это маленькое святилище Бельгии, они без запинки критиковали страну своего исхода, если требовалось ответить на вопрос.
– Король Леопольд Второй и Свободное государство Конго, – могла сказать мама. – Худшие колонизаторы в истории, самая грабительская система в колониальной истории.
– А сегодня, – добавлял отец, – Моленбек[16 - Моленбек-Сен-Жан – район Брюсселя, где около 30 % составляют мигранты. Здесь прятались некоторые из наиболее опасных участников последних европейских терактов.]: европейский центр фанатичного ислама.
На почетном месте, на каминной полке гостиной, уже не первое десятилетие лежала никогда не использовавшаяся пачка гашиша, все еще в оригинальной обертке из дешевого целлофана с официальной печатью афганского правительства в форме луны, подтверждающей качество. В Афганистане при короле гашиш был разрешен и продавался в трех различавшихся по цене и качеству фасовках – афганское “золото”, “серебро” и “бронза”. Но то, что мой отец, никогда не баловавшийся даже травкой, держал на почетном месте в центре каминной доски, было редкостью, легендарной, почти оккультной.
– “Афганская Луна”, – пояснял отец. – Если попробуешь, она откроет третий гласс, шишковидную железу посреди лба, и ты станешь ясновидящим, мало какой секрет утаится от тебя.
– Почему же ты никогда не пробовал? – спрашивал я.
– Потому что мир бесс тайны подобен картине бесс тени, – отвечал он. – Когда видишь слишком много, не видишь нитшево.
– Он имеет в виду, – растолковывала мама, – что а) мы верим в необходимость пользоваться разумом, а не взрывать его, б) этот гашиш, скорее всего, с добавками, он, как говорили хиппи, разбодяжен какими?нибудь ужасными галлюциногенами, и в) есть вероятность, что я была бы решительно против. Не знаю. Он никогда не подвергал меня такому испытанию.
“Хиппи”. Таким тоном, словно у нее собственных воспоминаний о семидесятых не было, словно она никогда не носила дубленку или бандану и не мечтала сделаться Грейс Слик[17 - Грейс Слик (род. 1939) – американская рок-певица, звезда психоделики.].