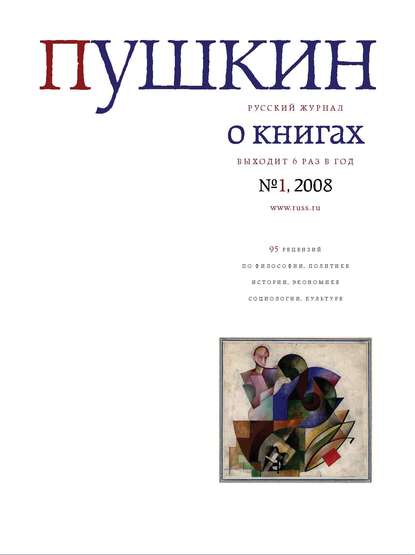По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Их отвратительная готовность предложить мне помощь, когда я в ней не нуждаюсь.
Назовите самую дорогую вещь, которую вы купили, не считая недвижимости.
Новое немецкое издание собрания сочинений Гегеля.
Что действует на вас угнетающе?
Глупые люди, выглядящие счастливыми.
Какой костюм вы бы выбрали для маскарада?
Маску самого себя. Тогда люди думали бы, что это не я, а кто-то, кто хочет казаться мной.
Ваше самое постыдное удовольствие?
Просмотр чудовищно патетических фильмов, вроде «Звуков музыки»
Чем вы обязаны своим родителям?
Надеюсь, ничем. Я ни минуты не горевал об их смерти.
Кого или что можно назвать любовью вашей жизни?
Философию. Я втайне считаю, что реальность существует, поэтому мы можем рассуждать о ней.
Назовите ваш самый любимый запах.
Разлагающаяся природа, например, гнилые деревья.
Говорили ли вы когда-нибудь «Я люблю тебя», не любя?
Постоянно. Когда я действительно кого-то люблю, я могу выразить свои чувства только едкими и похабными замечаниями.
Какой самой неприятной работой вам доводилось заниматься?
Преподаванием. Ненавижу студентов. Они, как и все люди, по большей части глупы и скучны.
Если бы вы могли путешествовать в прошлое, куда бы вы отправились?
В Германию начала XIX века, чтобы прослушать курс лекций Гегеля в университете.
Как вы расслабляетесь?
Снова и снова слушая Вагнера.
Какой самый важный урок, который преподала вам жизнь?
Жизнь – это глупая и бессмысленная вещь, которой нечему вас научить.
Поделитесь с нами секретом.
Коммунизм победит.
КУЛЬТУРА
Европейская культура как товар[16 - David Simpson. Selling European Culture. New Left Review, no. 47, September-October 2007, p, 153–160. Перевод с английского Николая Эдельмана.]
Дэвид Симпсон
Donald Sassoon, The Culture of the Europeans from 1800 to the Present. London: Harper Collins, 2006. 1617 p.[17 - Дональд Сассун, Культура европейцев с 1800 года до наших дней.]
«Не все книги продаются для того, чтобы их читали. Некоторые… продаются для того, чтобы с ними сверяться». Эта сентенция, помещенная в самом низу страницы 1301 книги Дональда Сассуна «Культура европейцев с 1800 года до наших дней», сразу же овладевает нашим вниманием. С учетом объема издания – более 600 тыс. слов, – его размеров, веса, качества печати и бумаги (не совсем, но почти китайская бумага), оно выглядит и воспринимается как книга, с которой следует сверяться в малых дозах, и обладает рядом недвусмысленно энциклопедических свойств (наряду с отличным алфавитным указателем и очень полезной библиографией). Представляя собой поразительное достижение в области обобщения и синтеза, «Культура европейцев» в то же время является захватывающим чтением.
На первых страницах книги автор приводит нас в лондонскую подземку будничным утром в декабре 2000 года. Пассажиры читают газеты, журналы и книги, решают кроссворды, порой пробегают глазами стихи, которые попадаются среди объявлений; другие слушают музыку через крохотные наушники. «В подземке, – комментирует Сассун, – потребление культуры идет полным ходом». Напротив, мир 1800 года отличался явной культурной депривацией: мало кто умел читать и писать, а большинство людей могли услышать музыку только в церкви или по особым случаям. Каким образом произошел переход из того мира в этот? Автор «Культуры европейцев», придерживаясь широкого хронологического подхода, прослеживает два столетия «невероятной экспансии культурного потребления» в череде сменявших друг друга поколений европейцев. Тезисы Сассуна можно свести к следующему: культура – это бизнес, который преуспевает благодаря прибыльному воспроизведению жанров и мотивов во времени и в пространстве. После 1800 года движущей силой ее экспансии являлось в первую очередь печатное слово, прежде всего представленное в романах, и сопровождавшееся параллельным расцветом музыки, наиболее заметным в германоязычных странах и в Италии, где царила опера. В первые три десятилетия XIX века «начала появляться публика, более-менее постоянно читающая книги, а наряду с ней – множество типографий и издательств, сеть платных библиотек и настоящий книжный рынок». То же самое верно в отношении концертов и музыкальных инструментов: с начала XIX века каждая семья из среднего класса владеет фортепьяно или полагает, что его следует приобрести. На 1830–1880 годы приходится «триумф буржуазной культуры»: консолидация рынка способствовала дальнейшей диверсификации жанров с последующей рыночной экспансией.
Однако к концу XIX века с культурными рынками для книг и музыки вступило в конкуренцию и даже оттеснило их на второй план массовое потребление, ставшее возможным благодаря внедрению новых технологий в области звука и изображения: речь идет о звукозаписи (1889) и кинематографе (1895). Скорость их распространения была поразительной: в Париже в 1906 году насчитывалось 10 кинотеатров, а в 1908 – уже 87. В США распространение кинокультуры шло еще более впечатляющими темпами: от «нескольких дюжин» кинотеатров в 1906 году до 10 тысяч в 1910-м. Начиная с того момента, согласно Сассуну, культура становилась все более американизированной благодаря финансовому могуществу американских медиакорпораций и уникальным по своей репрезентативности маркетологическим ресурсам, воплощением которых являлось чрезвычайно пестрое население Америки иммигрантского происхождения,
Сассун не оплакивает видимую смерть великой модернистской мечты об эффективных экспериментах с высокой культурой. Автора, избегающего риторики «однобокого морализаторства» в пользу бесстрастного исторического анализа, по-видимому, вполне устраивает будущее, в котором бал правят YouTube, iPod и блог: в этом мире демократизированной информации и всемогущих потребителей «будет больше фрагментации и больше разнообразия», однако «у нас имеется не больше причин для сетований по поводу этого разнообразия, чем для сетований по поводу так называемого культурного империализма в совсем недавнем прошлом». Мир без культуры, – подводит итог автор, – будет «еще более диким, чем тот, что мы наблюдаем сейчас».
Стремясь обосновать свои постулаты, Сассун приводит обширный набор сведений – порой весьма вычурных и представляющих собой настоящий триумф статистической премудрости. Например, мы узнаем, что за 1870-е года в трансильванской печати появилось всего 12 романов с продолжением, за 1880-e – 18, а за 1890-е – 30, в большинстве своем французские. Впрочем, хотя книга Сассуна битком набита статистикой в форме описаний и таблиц, автор с должным скепсисом относится к этим данным как к доказательствам: сколько именно романов действительно написал Дюма, доподлинно неизвестно, как и то, какую долю из них могли прочесть и действительно читали, допустим, в Греции; списки итальянских бестселлеров за 1930-е годы вполне могли быть подтасованы; данные из социалистических стран никогда не были бесспорными; и даже совсем недавно, в 1997 году. в источниках, опубликованных на родине неолиберализма, т. е. в Великобритании, можно было найти абсолютно разные цифры продаж для одной и той же книги.
Н. А. Шифрин. Новороссийск. Цементный завод, порт. Публикуется впервые
У меня в отношении книги возникают три взаимосвязанных вопроса: что такое Европа, что такое культура и что такое рынок? Я поднимаю их не из чувства противоречия, а в надежде вычленить сильные и слабые стороны данного проекта. Во-первых, насчет Европы. Было бы смешно жаловаться на то, что Албания, Финляндия и другие малые государства не освещены здесь в той же мере, что и Великобритания, Франция, Италия и Германия, поскольку несомненная заслуга Сассуна состоит в том, что эти страны вообще хоть как-то освещены. И надо отметить, что упоминаются они не просто для вида: данные по ним неизменно учитываются в анализе – например, в анализе сопоставимости и переводимости различных культурных форм при их проникновении с крупных на более мелкие национальные рынки. Однако не все согласятся с тем, что усиление американского культурного доминирования над Европой начиная с 1920-х годов представляло собой такой простой, не знавший конкуренции процесс, каким он изображается у Сассуна, если принять во внимание значение национальных широковещательных компаний в эпоху расцвета телевидения и радио.
Во-вторых, вопрос еще и в том, что именно Сассун понимает под культурой: более подходящим названием для его книги было бы что-то вроде «Некоторые аспекты рыночной истории европейской культуры» (вдогонку за знаковым эссе сорокалетней давности). По словам Сассуна, «история культуры это история ее производства для рынка». Однако в этом определении не учтены такие менее явно товаризованные элементы культуры, как наука, философия и социальная теория; не рассмотренным осталось также влияние наполеоновских войн. Политическая история неявным образом (поскольку в открытую разговор о ней не ведется) играет здесь второстепенную роль. Нам говорят, например, что немецкие и итальянские фашисты либо не придавали значения наплыву американских фильмов в кинотеатры их стран, либо не могли его обуздать – мол, они не могли «рисковать, лишив свое население главной формы развлечения». А может быть они просто стремились возложить на массмедийный форум обязанность по распространению киножурналов, которые они могли контролировать и контролировали? В подобном нарративе события более широкого культурного значения по большей части выпадают из поля зрения – например, единственное упоминание об интересе Йейтса к фольклору едва ли заменит собой рассказ об ирландском литературном национализме. За рамками повествования остались и такие признанные фигуры авангарда, как Паунд и Годар (оба даже не упомянуты) – гордившиеся тем, что они не торговали своим искусством; хотя, разумеется, тот факт, что книги некоторых авторов расходились хуже, чем книги других, не делает первые культурно незначительными.
ДАЖЕ ФАШИСТСКИЕ ГОСУДАРСТВА МОГУТ ЛИШЬ ЗАПРЕЩАТЬ КНИГИ, НО НЕ МОГУТ ЗАСТАВИТЬ КОГО-ЛИБО ЧИТАТЬ ТЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ ИМИ РАЗРЕШЕНЫ
Читатели «Культуры европейцев» найдут массу упоминаний о романах, множество ссылок на поп-культуру (комиксы, газеты, поп-музыку, сценические шоу, фильмы, массово издававшиеся романы и рассказы), на музыку (опера и концертные исполнения), и подробный разговор о таких новых массмедийных средствах, как радио и телевидение. Однако поэзия затрагивается сравнительно слабо, а внимание к нон-фикшн самое минимальное, хотя в любом регулярном номере «качественной» газеты содержится не меньше рецензий на нехудожественную литературу, чем на художественную. Автор почти не касается религии, хотя в тексте говорится, что 14% всех книг, изданных в «Германии» в 1835 г., носили религиозный характер. Спорт игнорируется почти совершенно; но как можно серьезно оценивать венгерскую культуру начала 1950-х гг. без рассказа о карьере и публичном имидже «Золотой команды»? Нам говорят, что телевизионное освещение футбольных матчей Премьер-лиги поглощает до одной трети бюджета телекомпании BSkyB, но это одно-единственное упоминание о европейской футбольной культуре, которая кормится за счет продажи билетов на стадионы по беспрецедентно высоким ценам, а также торговли футболками и прочей атрибутикой. Впрочем, невнимание к изящным искусствам объясняется их существованием в невоспроизводимых формах. Однако в наши дни едва ли хоть одна крупная художественная выставка обходится без продажи кружек, футболок, сумок и разного рода печатной продукции; таким образом, значение выставок от Бойделла и Бельцони до «Сенсации» по большей части игнорируется. Более того, если рынок интересен Сассуну лишь в том отношении, в каком на нем продаются воспроизводимые товары, то значительное число страниц книги, посвященных опере и театру, оказываются весьма неуместными.
Автор дерзко заявляет, что в центре его внимания находится «не побоюсь сказать, культура как бизнес», но нам почти ничего не сообщается о деловых операциях в этой сфере; рассказ затрагивает почти исключительно данные по продажам. Один из способов провести анализ рынка – изучить его сторону, связанную с предложением товара: в случае книг – каковы были тиражи и во сколько они обошлись, имел ли какое-либо значение формат изданий? Как осуществлялись распространение и реклама? Когда и как в различных отраслях индустрии культуры утвердились маркетинговые исследования и насколько эффективными они были? В книге Сассуна вы почти не найдете такой информации: все приводящиеся в ней факты в основном касаются потребления. Однако важно знать, на что рассчитывали и что планировали инвесторы. Пример из области киноиндустрии: фильм Майкла Чимино «Врата рая» щедро финансировался, но обернулся провалом, в то время как Джеймс Кэмерон с большим трудом собрал деньги на постановку своего «Титаника», побившего все рекорды выручки. Многие определяющие явления в сфере культуры были непредвиденными, вовсе не являясь результатом рациональной рыночной стратегии. Если мы будем принимать во внимание лишь то, чему было суждено случиться, то получим историю, написанную в основном победителями. По мнению Сассуна, культура работает как подмножество капитализма в целом, в том смысле, что она «подпитывает саму себя и не имеет пределов»; она поневоле вынуждена распространяться в глобальном масштабе и представляет собой «механизм своего последующего роста». Но не становится ли в таком случае история культуры, как и история капитала, историей трупов, обескровленных вампирическими силами и лишенных всяких связей с конкретным трудом? А если так, чьи это были трупы? Конечно, о молчании мертвецов писать очень трудно, но какие-то представления о провалах способны поведать нам многое о культуре как бизнесе и о том, как те, кто извлекает из нее прибыль, списывают свои убытки.
Согласно Сассуну, любое производство культуры – занятие рискованное, совершаемое методом проб и ошибок. Даже фашистские государства могут лишь запрещать книги, но не могут заставить кого-либо читать те книги, которые ими разрешены. Сассун хорошо пишет о консерватизме, проистекающем из осознания рискованности любых инвестиций в культуру: это один из самых сильных моментов книги, объясняющий, каким образом один успех выступает фундаментом для следующего. Новый рекла мируемыи товар оказывается пастишем того, что хорошо продавалось раньше, как прекрасно известно из истории детективного жанра. Аналогичные процессы наблюдаются в отношениях между различными носителями: книга по фильму или фильм по книге, переделка романов Золя в такую более прибыльную форму, как пьесы, параллельное существование комиксов и фильмов и самое экономичное – перепродажа виниловых записей в виде компакт-дисков при их почти нулевой себестоимости. В противоположность распространенным жалобам на то что развитие одной культурной формы неизбежно влечет за собой упадок других форм, как будто потребители могут уделять всем им лишь конечный объем внимания, Сассун демонстрирует, что история различных носителей часто оказывается историей их взаимной поддержки. Так, в 1930-е годы популярные британские газеты предлагали своим читателям дешевые собрания сочинений Диккенса; в кино и театре очень часто заняты одни и те же актеры; а телевидение спасает фильмы, показывая их на голубом экране. И Сассун считает, что это по большей части хорошо, не усматривая здесь признаков монополизационного эффекта, в силу которого каждый из носителей просто воспроизводит приемы, используемые в других носителях, а возможно, и их содержание.
В. В. Каменский. Женский портрет, 1912. Публикуется впервые
В «Культуре европейцев» делается ряд заявлений о причинах и следствиях. Например, Верди изображается здесь хитрым инвестором, который сознательно использовал рынок для извлечения наибольшей собственной прибыли. Итальянская опера по своему размаху и мощи получила доминирующее положение на местном рынке, после чего имела возможность распространяться в глобальном масштабе (по крайней мере, в пределах Европы), в «активном стремлении к всемирной славе» заимствуя за рубежом сюжеты и место действия. В чем же была причина? Сработала ли здесь невидимая рука капиталистического предприятия, которое обречено расширяться или погибнуть? Был ли это ответ на насыщение местного рынка? Или это явление той же природы, что и всеевропейская популярность исторического романа, созданного Вальтером Скоттом? Предлагаемый нам механизм постепенного расширения рынков, несомненно, вполне правдоподобен, но нам его по-прежнему не с чем сравнивать. Поэтому его применимость представляется эмпирической и обоснованной лишь для конкретных примеров; в некоторых случаях (например, в отношении телевизионных «мыльных опер») вообще утверждается, что значение имеет только местный рынок, потому что данный товар не ценится за рубежом. Однако многие главные герои Жюля Верна – не французы, да и многие голливудские фильмы, включая «Касабланку», снимались почти исключительно иностранцами с участием иностранных актеров, хотя и финансировались американцами. Но что выступает гарантией привлекательности иностранных актеров и героев? А если таких гарантий не имеется, где и каким образом мы можем выявить сознательность такого выбора?
В другом месте книги главным источником привлекательности американских фильмов для глобальной аудитории объявляются их «спецэффекты», а не мультинациональный состав. Почему же специальные эффекты должны быть более привлекательными, чем, скажем, любовные сцены? Здесь очень полезным мог бы стать более подробный разговор о том, отчего культурные рынки бывают рационально предсказуемыми или, наоборот, безнадежно иррациональными. Например, сами США – в настоящее время источник большей части мировой культуры – в глазах Сассуна являются даже слишком адекватным подтверждением идеи о том, что «гегемонистские страны провинциальны, замкнуты на себя и страдают от нарциссизма» – это доказывается тем «фактом», что 91% продаваемых в Америке книг написан американскими авторами, а на американском телевидении почти не появляется зарубежных программ. В связи с этим было бы интересно проследить, каким образом якобы космополитическая рыночная стратегия голливудского кино соответствует или не соответствует этому печальному состоянию дел на внутреннем рынке США.
В той степени, в какой подобный анализ по неизбежности может производиться лишь постфактум, он приводит нас к определенной тавтологии, присутствующей в некоторых выводах Сассуна: нечто случается потому, что оно случается. Так, доминирование Франции и Великобритании в производстве культурной продукции в XIX веке объясняется «их способностью производить престижные и популярные товары для культурного рынка». Успех театра в эпоху телевидения приписывается его умению обещать своей аудитории нечто, «чего она не может получить дома с экрана телевизора», но если бы театр умирал, можно было бы найти ровно противоположные аргументы и возложить всю вину на телевидение. Какому правилу подчиняется желание иметь нечто иное вместо прибавки к тому, что у тебя и так есть? В другом месте нам говорят, что «эпоха национализма посеяла космополитизм меж представителями среднего класса, выказывавших растущий интерес к другим странам», но вполне можно указать и на противоположные явления для объяснения тех или иных случаев воинствующего изоляционизма наподобие сожжения книг фашистами. Не убежден я и в том, что появление звукозаписи вынудило серьезных композиторов пойти на «радикальные новшества с тем, чтобы отличаться от своих предшественников»: как указывается на другой странице книги, внедрение музыкальных записей могло бы усилить искушение воспроизводить старые и проверенные рецепты самых успешных записей, внося в них небольшие вариации. Мы пытаемся объяснить то, что случилось, но оно совсем не обязано было случаться,
И думаю, Сассун согласился бы с этим: риск таится всюду, ничего неизбежного не бывает. Польза разговора о цифрах состоит не в том, что тогда мы видим всю картину, а в том, что проявляются общие тенденции, в общем и целом не заслоненные локальными пространственно-временными пертурбациями. Но для того, чтобы рассказ вышел увлекательным, одних чисел недостаточно: они должны сопровождаться яркими догадками. Ни один литературный критик не впечатлится словами о том, что успех «Дон Кихота» можно объяснить его открытостью для «множества интерпретаций». Поразительно, но нам говорят, что низкая оценка немецких фильмов во Франции в 1944 году «почти не связана с антифашистскими настроениями; просто немецкие исторические фильмы и легкие оперетты не отвечали вкусу французов».
Очевидно, что в проекте такого масштаба неизбежны ошибки и недочеты вследствие зависимости от вторичных источников, которые ни один исследователь не успеет проверить или подвергнуть переоценке за время своей жизни. Роберт Бернс вовсе не писал по-гэльски, а Шекспира в середине XVII века не воспринимали как важнейшего англоязычного автора – это пришло лишь столетие спустя, как указывает в другом месте сам Сассун. Поэты викторианской и эдвардианской эпохи едва ли были «забыты», если они, подобно Киплингу и Теннисону, оказались в школьной программе, а их стихи учат наизусть миллионы людей. А если «великие диктаторы межвоенного периода» регулярно не выступали перед своими аудиториями в эфире, вследствие чего они не имеют отношения к радиовещательному бизнесу, то разве их отдельные выступления от этого лишались культурной значимости для огромного числа людей? Еще большая проблема связана со склонностью автора к необоснованным обобщениям – например, когда он утверждает, что из-за отсутствия в США до 1880 года «разнородного массового рынка» эта страна в культурном плане «по-прежнему была колонией». Здесь неявно присутствует тезис о жесткой взаимосвязи между движениями за национальную независимость и массовой печатной культурой, который при этом ни разу не формулируется и не проверяется в качестве определяющего фактора в сфере межкультурной взаимозависимости.
Хотя повествование Сассуна об отдельных авторах неизбежно носит несколько выборочный характер, читателя ожидают подкупающие рассказы о Скотте, Сю, Диккенсе, Дюма, Гюго, Берне и Сегюре, если говорить только о сфере художественной прозы. Например, отдельная глава в середине книге посвящена Золя. Был ли он последним автором из области высокой культуры, выстраивавшим свою работу как личный бизнес, и в этом качестве не служит ли он чем-то вроде воплощения определенной ностальгии по тем временам, когда бизнес по видимости имел имена и лица, и когда явления, выходившие за рамки национальных границ, обладали бесспорным критическим содержанием? Вердикт, который Сассун выносит в отношении влияния дела Дрейфуса на репутацию Золя, звучит намного более современно: Золя стал «знаменитостью», его имя превратилось в «брэнд».
Назовите самую дорогую вещь, которую вы купили, не считая недвижимости.
Новое немецкое издание собрания сочинений Гегеля.
Что действует на вас угнетающе?
Глупые люди, выглядящие счастливыми.
Какой костюм вы бы выбрали для маскарада?
Маску самого себя. Тогда люди думали бы, что это не я, а кто-то, кто хочет казаться мной.
Ваше самое постыдное удовольствие?
Просмотр чудовищно патетических фильмов, вроде «Звуков музыки»
Чем вы обязаны своим родителям?
Надеюсь, ничем. Я ни минуты не горевал об их смерти.
Кого или что можно назвать любовью вашей жизни?
Философию. Я втайне считаю, что реальность существует, поэтому мы можем рассуждать о ней.
Назовите ваш самый любимый запах.
Разлагающаяся природа, например, гнилые деревья.
Говорили ли вы когда-нибудь «Я люблю тебя», не любя?
Постоянно. Когда я действительно кого-то люблю, я могу выразить свои чувства только едкими и похабными замечаниями.
Какой самой неприятной работой вам доводилось заниматься?
Преподаванием. Ненавижу студентов. Они, как и все люди, по большей части глупы и скучны.
Если бы вы могли путешествовать в прошлое, куда бы вы отправились?
В Германию начала XIX века, чтобы прослушать курс лекций Гегеля в университете.
Как вы расслабляетесь?
Снова и снова слушая Вагнера.
Какой самый важный урок, который преподала вам жизнь?
Жизнь – это глупая и бессмысленная вещь, которой нечему вас научить.
Поделитесь с нами секретом.
Коммунизм победит.
КУЛЬТУРА
Европейская культура как товар[16 - David Simpson. Selling European Culture. New Left Review, no. 47, September-October 2007, p, 153–160. Перевод с английского Николая Эдельмана.]
Дэвид Симпсон
Donald Sassoon, The Culture of the Europeans from 1800 to the Present. London: Harper Collins, 2006. 1617 p.[17 - Дональд Сассун, Культура европейцев с 1800 года до наших дней.]
«Не все книги продаются для того, чтобы их читали. Некоторые… продаются для того, чтобы с ними сверяться». Эта сентенция, помещенная в самом низу страницы 1301 книги Дональда Сассуна «Культура европейцев с 1800 года до наших дней», сразу же овладевает нашим вниманием. С учетом объема издания – более 600 тыс. слов, – его размеров, веса, качества печати и бумаги (не совсем, но почти китайская бумага), оно выглядит и воспринимается как книга, с которой следует сверяться в малых дозах, и обладает рядом недвусмысленно энциклопедических свойств (наряду с отличным алфавитным указателем и очень полезной библиографией). Представляя собой поразительное достижение в области обобщения и синтеза, «Культура европейцев» в то же время является захватывающим чтением.
На первых страницах книги автор приводит нас в лондонскую подземку будничным утром в декабре 2000 года. Пассажиры читают газеты, журналы и книги, решают кроссворды, порой пробегают глазами стихи, которые попадаются среди объявлений; другие слушают музыку через крохотные наушники. «В подземке, – комментирует Сассун, – потребление культуры идет полным ходом». Напротив, мир 1800 года отличался явной культурной депривацией: мало кто умел читать и писать, а большинство людей могли услышать музыку только в церкви или по особым случаям. Каким образом произошел переход из того мира в этот? Автор «Культуры европейцев», придерживаясь широкого хронологического подхода, прослеживает два столетия «невероятной экспансии культурного потребления» в череде сменявших друг друга поколений европейцев. Тезисы Сассуна можно свести к следующему: культура – это бизнес, который преуспевает благодаря прибыльному воспроизведению жанров и мотивов во времени и в пространстве. После 1800 года движущей силой ее экспансии являлось в первую очередь печатное слово, прежде всего представленное в романах, и сопровождавшееся параллельным расцветом музыки, наиболее заметным в германоязычных странах и в Италии, где царила опера. В первые три десятилетия XIX века «начала появляться публика, более-менее постоянно читающая книги, а наряду с ней – множество типографий и издательств, сеть платных библиотек и настоящий книжный рынок». То же самое верно в отношении концертов и музыкальных инструментов: с начала XIX века каждая семья из среднего класса владеет фортепьяно или полагает, что его следует приобрести. На 1830–1880 годы приходится «триумф буржуазной культуры»: консолидация рынка способствовала дальнейшей диверсификации жанров с последующей рыночной экспансией.
Однако к концу XIX века с культурными рынками для книг и музыки вступило в конкуренцию и даже оттеснило их на второй план массовое потребление, ставшее возможным благодаря внедрению новых технологий в области звука и изображения: речь идет о звукозаписи (1889) и кинематографе (1895). Скорость их распространения была поразительной: в Париже в 1906 году насчитывалось 10 кинотеатров, а в 1908 – уже 87. В США распространение кинокультуры шло еще более впечатляющими темпами: от «нескольких дюжин» кинотеатров в 1906 году до 10 тысяч в 1910-м. Начиная с того момента, согласно Сассуну, культура становилась все более американизированной благодаря финансовому могуществу американских медиакорпораций и уникальным по своей репрезентативности маркетологическим ресурсам, воплощением которых являлось чрезвычайно пестрое население Америки иммигрантского происхождения,
Сассун не оплакивает видимую смерть великой модернистской мечты об эффективных экспериментах с высокой культурой. Автора, избегающего риторики «однобокого морализаторства» в пользу бесстрастного исторического анализа, по-видимому, вполне устраивает будущее, в котором бал правят YouTube, iPod и блог: в этом мире демократизированной информации и всемогущих потребителей «будет больше фрагментации и больше разнообразия», однако «у нас имеется не больше причин для сетований по поводу этого разнообразия, чем для сетований по поводу так называемого культурного империализма в совсем недавнем прошлом». Мир без культуры, – подводит итог автор, – будет «еще более диким, чем тот, что мы наблюдаем сейчас».
Стремясь обосновать свои постулаты, Сассун приводит обширный набор сведений – порой весьма вычурных и представляющих собой настоящий триумф статистической премудрости. Например, мы узнаем, что за 1870-е года в трансильванской печати появилось всего 12 романов с продолжением, за 1880-e – 18, а за 1890-е – 30, в большинстве своем французские. Впрочем, хотя книга Сассуна битком набита статистикой в форме описаний и таблиц, автор с должным скепсисом относится к этим данным как к доказательствам: сколько именно романов действительно написал Дюма, доподлинно неизвестно, как и то, какую долю из них могли прочесть и действительно читали, допустим, в Греции; списки итальянских бестселлеров за 1930-е годы вполне могли быть подтасованы; данные из социалистических стран никогда не были бесспорными; и даже совсем недавно, в 1997 году. в источниках, опубликованных на родине неолиберализма, т. е. в Великобритании, можно было найти абсолютно разные цифры продаж для одной и той же книги.
Н. А. Шифрин. Новороссийск. Цементный завод, порт. Публикуется впервые
У меня в отношении книги возникают три взаимосвязанных вопроса: что такое Европа, что такое культура и что такое рынок? Я поднимаю их не из чувства противоречия, а в надежде вычленить сильные и слабые стороны данного проекта. Во-первых, насчет Европы. Было бы смешно жаловаться на то, что Албания, Финляндия и другие малые государства не освещены здесь в той же мере, что и Великобритания, Франция, Италия и Германия, поскольку несомненная заслуга Сассуна состоит в том, что эти страны вообще хоть как-то освещены. И надо отметить, что упоминаются они не просто для вида: данные по ним неизменно учитываются в анализе – например, в анализе сопоставимости и переводимости различных культурных форм при их проникновении с крупных на более мелкие национальные рынки. Однако не все согласятся с тем, что усиление американского культурного доминирования над Европой начиная с 1920-х годов представляло собой такой простой, не знавший конкуренции процесс, каким он изображается у Сассуна, если принять во внимание значение национальных широковещательных компаний в эпоху расцвета телевидения и радио.
Во-вторых, вопрос еще и в том, что именно Сассун понимает под культурой: более подходящим названием для его книги было бы что-то вроде «Некоторые аспекты рыночной истории европейской культуры» (вдогонку за знаковым эссе сорокалетней давности). По словам Сассуна, «история культуры это история ее производства для рынка». Однако в этом определении не учтены такие менее явно товаризованные элементы культуры, как наука, философия и социальная теория; не рассмотренным осталось также влияние наполеоновских войн. Политическая история неявным образом (поскольку в открытую разговор о ней не ведется) играет здесь второстепенную роль. Нам говорят, например, что немецкие и итальянские фашисты либо не придавали значения наплыву американских фильмов в кинотеатры их стран, либо не могли его обуздать – мол, они не могли «рисковать, лишив свое население главной формы развлечения». А может быть они просто стремились возложить на массмедийный форум обязанность по распространению киножурналов, которые они могли контролировать и контролировали? В подобном нарративе события более широкого культурного значения по большей части выпадают из поля зрения – например, единственное упоминание об интересе Йейтса к фольклору едва ли заменит собой рассказ об ирландском литературном национализме. За рамками повествования остались и такие признанные фигуры авангарда, как Паунд и Годар (оба даже не упомянуты) – гордившиеся тем, что они не торговали своим искусством; хотя, разумеется, тот факт, что книги некоторых авторов расходились хуже, чем книги других, не делает первые культурно незначительными.
ДАЖЕ ФАШИСТСКИЕ ГОСУДАРСТВА МОГУТ ЛИШЬ ЗАПРЕЩАТЬ КНИГИ, НО НЕ МОГУТ ЗАСТАВИТЬ КОГО-ЛИБО ЧИТАТЬ ТЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ ИМИ РАЗРЕШЕНЫ
Читатели «Культуры европейцев» найдут массу упоминаний о романах, множество ссылок на поп-культуру (комиксы, газеты, поп-музыку, сценические шоу, фильмы, массово издававшиеся романы и рассказы), на музыку (опера и концертные исполнения), и подробный разговор о таких новых массмедийных средствах, как радио и телевидение. Однако поэзия затрагивается сравнительно слабо, а внимание к нон-фикшн самое минимальное, хотя в любом регулярном номере «качественной» газеты содержится не меньше рецензий на нехудожественную литературу, чем на художественную. Автор почти не касается религии, хотя в тексте говорится, что 14% всех книг, изданных в «Германии» в 1835 г., носили религиозный характер. Спорт игнорируется почти совершенно; но как можно серьезно оценивать венгерскую культуру начала 1950-х гг. без рассказа о карьере и публичном имидже «Золотой команды»? Нам говорят, что телевизионное освещение футбольных матчей Премьер-лиги поглощает до одной трети бюджета телекомпании BSkyB, но это одно-единственное упоминание о европейской футбольной культуре, которая кормится за счет продажи билетов на стадионы по беспрецедентно высоким ценам, а также торговли футболками и прочей атрибутикой. Впрочем, невнимание к изящным искусствам объясняется их существованием в невоспроизводимых формах. Однако в наши дни едва ли хоть одна крупная художественная выставка обходится без продажи кружек, футболок, сумок и разного рода печатной продукции; таким образом, значение выставок от Бойделла и Бельцони до «Сенсации» по большей части игнорируется. Более того, если рынок интересен Сассуну лишь в том отношении, в каком на нем продаются воспроизводимые товары, то значительное число страниц книги, посвященных опере и театру, оказываются весьма неуместными.
Автор дерзко заявляет, что в центре его внимания находится «не побоюсь сказать, культура как бизнес», но нам почти ничего не сообщается о деловых операциях в этой сфере; рассказ затрагивает почти исключительно данные по продажам. Один из способов провести анализ рынка – изучить его сторону, связанную с предложением товара: в случае книг – каковы были тиражи и во сколько они обошлись, имел ли какое-либо значение формат изданий? Как осуществлялись распространение и реклама? Когда и как в различных отраслях индустрии культуры утвердились маркетинговые исследования и насколько эффективными они были? В книге Сассуна вы почти не найдете такой информации: все приводящиеся в ней факты в основном касаются потребления. Однако важно знать, на что рассчитывали и что планировали инвесторы. Пример из области киноиндустрии: фильм Майкла Чимино «Врата рая» щедро финансировался, но обернулся провалом, в то время как Джеймс Кэмерон с большим трудом собрал деньги на постановку своего «Титаника», побившего все рекорды выручки. Многие определяющие явления в сфере культуры были непредвиденными, вовсе не являясь результатом рациональной рыночной стратегии. Если мы будем принимать во внимание лишь то, чему было суждено случиться, то получим историю, написанную в основном победителями. По мнению Сассуна, культура работает как подмножество капитализма в целом, в том смысле, что она «подпитывает саму себя и не имеет пределов»; она поневоле вынуждена распространяться в глобальном масштабе и представляет собой «механизм своего последующего роста». Но не становится ли в таком случае история культуры, как и история капитала, историей трупов, обескровленных вампирическими силами и лишенных всяких связей с конкретным трудом? А если так, чьи это были трупы? Конечно, о молчании мертвецов писать очень трудно, но какие-то представления о провалах способны поведать нам многое о культуре как бизнесе и о том, как те, кто извлекает из нее прибыль, списывают свои убытки.
Согласно Сассуну, любое производство культуры – занятие рискованное, совершаемое методом проб и ошибок. Даже фашистские государства могут лишь запрещать книги, но не могут заставить кого-либо читать те книги, которые ими разрешены. Сассун хорошо пишет о консерватизме, проистекающем из осознания рискованности любых инвестиций в культуру: это один из самых сильных моментов книги, объясняющий, каким образом один успех выступает фундаментом для следующего. Новый рекла мируемыи товар оказывается пастишем того, что хорошо продавалось раньше, как прекрасно известно из истории детективного жанра. Аналогичные процессы наблюдаются в отношениях между различными носителями: книга по фильму или фильм по книге, переделка романов Золя в такую более прибыльную форму, как пьесы, параллельное существование комиксов и фильмов и самое экономичное – перепродажа виниловых записей в виде компакт-дисков при их почти нулевой себестоимости. В противоположность распространенным жалобам на то что развитие одной культурной формы неизбежно влечет за собой упадок других форм, как будто потребители могут уделять всем им лишь конечный объем внимания, Сассун демонстрирует, что история различных носителей часто оказывается историей их взаимной поддержки. Так, в 1930-е годы популярные британские газеты предлагали своим читателям дешевые собрания сочинений Диккенса; в кино и театре очень часто заняты одни и те же актеры; а телевидение спасает фильмы, показывая их на голубом экране. И Сассун считает, что это по большей части хорошо, не усматривая здесь признаков монополизационного эффекта, в силу которого каждый из носителей просто воспроизводит приемы, используемые в других носителях, а возможно, и их содержание.
В. В. Каменский. Женский портрет, 1912. Публикуется впервые
В «Культуре европейцев» делается ряд заявлений о причинах и следствиях. Например, Верди изображается здесь хитрым инвестором, который сознательно использовал рынок для извлечения наибольшей собственной прибыли. Итальянская опера по своему размаху и мощи получила доминирующее положение на местном рынке, после чего имела возможность распространяться в глобальном масштабе (по крайней мере, в пределах Европы), в «активном стремлении к всемирной славе» заимствуя за рубежом сюжеты и место действия. В чем же была причина? Сработала ли здесь невидимая рука капиталистического предприятия, которое обречено расширяться или погибнуть? Был ли это ответ на насыщение местного рынка? Или это явление той же природы, что и всеевропейская популярность исторического романа, созданного Вальтером Скоттом? Предлагаемый нам механизм постепенного расширения рынков, несомненно, вполне правдоподобен, но нам его по-прежнему не с чем сравнивать. Поэтому его применимость представляется эмпирической и обоснованной лишь для конкретных примеров; в некоторых случаях (например, в отношении телевизионных «мыльных опер») вообще утверждается, что значение имеет только местный рынок, потому что данный товар не ценится за рубежом. Однако многие главные герои Жюля Верна – не французы, да и многие голливудские фильмы, включая «Касабланку», снимались почти исключительно иностранцами с участием иностранных актеров, хотя и финансировались американцами. Но что выступает гарантией привлекательности иностранных актеров и героев? А если таких гарантий не имеется, где и каким образом мы можем выявить сознательность такого выбора?
В другом месте книги главным источником привлекательности американских фильмов для глобальной аудитории объявляются их «спецэффекты», а не мультинациональный состав. Почему же специальные эффекты должны быть более привлекательными, чем, скажем, любовные сцены? Здесь очень полезным мог бы стать более подробный разговор о том, отчего культурные рынки бывают рационально предсказуемыми или, наоборот, безнадежно иррациональными. Например, сами США – в настоящее время источник большей части мировой культуры – в глазах Сассуна являются даже слишком адекватным подтверждением идеи о том, что «гегемонистские страны провинциальны, замкнуты на себя и страдают от нарциссизма» – это доказывается тем «фактом», что 91% продаваемых в Америке книг написан американскими авторами, а на американском телевидении почти не появляется зарубежных программ. В связи с этим было бы интересно проследить, каким образом якобы космополитическая рыночная стратегия голливудского кино соответствует или не соответствует этому печальному состоянию дел на внутреннем рынке США.
В той степени, в какой подобный анализ по неизбежности может производиться лишь постфактум, он приводит нас к определенной тавтологии, присутствующей в некоторых выводах Сассуна: нечто случается потому, что оно случается. Так, доминирование Франции и Великобритании в производстве культурной продукции в XIX веке объясняется «их способностью производить престижные и популярные товары для культурного рынка». Успех театра в эпоху телевидения приписывается его умению обещать своей аудитории нечто, «чего она не может получить дома с экрана телевизора», но если бы театр умирал, можно было бы найти ровно противоположные аргументы и возложить всю вину на телевидение. Какому правилу подчиняется желание иметь нечто иное вместо прибавки к тому, что у тебя и так есть? В другом месте нам говорят, что «эпоха национализма посеяла космополитизм меж представителями среднего класса, выказывавших растущий интерес к другим странам», но вполне можно указать и на противоположные явления для объяснения тех или иных случаев воинствующего изоляционизма наподобие сожжения книг фашистами. Не убежден я и в том, что появление звукозаписи вынудило серьезных композиторов пойти на «радикальные новшества с тем, чтобы отличаться от своих предшественников»: как указывается на другой странице книги, внедрение музыкальных записей могло бы усилить искушение воспроизводить старые и проверенные рецепты самых успешных записей, внося в них небольшие вариации. Мы пытаемся объяснить то, что случилось, но оно совсем не обязано было случаться,
И думаю, Сассун согласился бы с этим: риск таится всюду, ничего неизбежного не бывает. Польза разговора о цифрах состоит не в том, что тогда мы видим всю картину, а в том, что проявляются общие тенденции, в общем и целом не заслоненные локальными пространственно-временными пертурбациями. Но для того, чтобы рассказ вышел увлекательным, одних чисел недостаточно: они должны сопровождаться яркими догадками. Ни один литературный критик не впечатлится словами о том, что успех «Дон Кихота» можно объяснить его открытостью для «множества интерпретаций». Поразительно, но нам говорят, что низкая оценка немецких фильмов во Франции в 1944 году «почти не связана с антифашистскими настроениями; просто немецкие исторические фильмы и легкие оперетты не отвечали вкусу французов».
Очевидно, что в проекте такого масштаба неизбежны ошибки и недочеты вследствие зависимости от вторичных источников, которые ни один исследователь не успеет проверить или подвергнуть переоценке за время своей жизни. Роберт Бернс вовсе не писал по-гэльски, а Шекспира в середине XVII века не воспринимали как важнейшего англоязычного автора – это пришло лишь столетие спустя, как указывает в другом месте сам Сассун. Поэты викторианской и эдвардианской эпохи едва ли были «забыты», если они, подобно Киплингу и Теннисону, оказались в школьной программе, а их стихи учат наизусть миллионы людей. А если «великие диктаторы межвоенного периода» регулярно не выступали перед своими аудиториями в эфире, вследствие чего они не имеют отношения к радиовещательному бизнесу, то разве их отдельные выступления от этого лишались культурной значимости для огромного числа людей? Еще большая проблема связана со склонностью автора к необоснованным обобщениям – например, когда он утверждает, что из-за отсутствия в США до 1880 года «разнородного массового рынка» эта страна в культурном плане «по-прежнему была колонией». Здесь неявно присутствует тезис о жесткой взаимосвязи между движениями за национальную независимость и массовой печатной культурой, который при этом ни разу не формулируется и не проверяется в качестве определяющего фактора в сфере межкультурной взаимозависимости.
Хотя повествование Сассуна об отдельных авторах неизбежно носит несколько выборочный характер, читателя ожидают подкупающие рассказы о Скотте, Сю, Диккенсе, Дюма, Гюго, Берне и Сегюре, если говорить только о сфере художественной прозы. Например, отдельная глава в середине книге посвящена Золя. Был ли он последним автором из области высокой культуры, выстраивавшим свою работу как личный бизнес, и в этом качестве не служит ли он чем-то вроде воплощения определенной ностальгии по тем временам, когда бизнес по видимости имел имена и лица, и когда явления, выходившие за рамки национальных границ, обладали бесспорным критическим содержанием? Вердикт, который Сассун выносит в отношении влияния дела Дрейфуса на репутацию Золя, звучит намного более современно: Золя стал «знаменитостью», его имя превратилось в «брэнд».