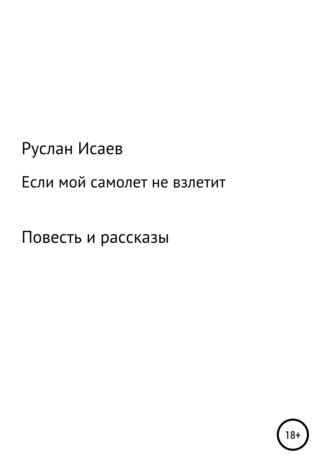
Если мой самолет не взлетит
–Так выпьем же за наше государство, которое никого не оставляет в беде!
Отряд не заметил потери бойца
Мой двоюродный брат Арнольд терпеть не мог своего имени. Он к нему так и не привык. Тем более, что он был, так сказать, не просто обычным Арнольдом. Его имя было сокращением по первым буквам слов "Аврора" (крейсер), Революция, Новое Общество, Ленин, Диктатура пролетариата. То есть если бы мама назвала его из прихоти иностранным именем, Арнольд бы с ним смирился. Но обидно же всю жизнь быть сокращением из слов, которые терпеть не можешь.
Да, да, можете не верить, но Арнольду были безразличны такие высокие понятия.
Как-то мы пили пиво в гадюшнике у кинотеатра Горького, и Арнольд поделился этим со мной. Само собой, я немедленно сообщил это маме Арнольда:
–Я спросил, как ты не любишь Партию, Ленина!? Нет, говорит, абсолютно равнодушен. Как, говорю, ты не любишь Родину!? Родину, говорит, может, и люблю, но только странною любовью.
–Ну и что дальше? – мужественно спросила мама Арнольда.
–Я подумал, может проконсультироваться у психиатра. Но он сказал, что это у него с детства.
После разговора со мной мама Арнольда пришла домой и спросила:
–Арнольд, это правда?
Спросила она это таким голосом, что Арнольд сразу догадался:
–А—а, братишка уже настучал.
–Боже, кого я вырастила, – горько сказала мама.
Мама мыла посуду на кухне и плакала, а Арнольд вместо того, чтобы замаливать грехи, угрюмо смотрел телевизор.
Давайте только сразу договоримся, что факты – это никакая не истина. Факты— это так, чепуха какая-то, к сути происходящего часто не имеющая никакого отношения. Согласно приведенным фактам получается, что между Арнольдом и мамой не было никакого взаимопонимания. А на самом деле они нежно любили друг друга и были вполне искренни. Просто Арнольд избегал разговоров на эти темы.
Мама Арнольда обладает дисциплиной чувств. Ее чувства – это всегда чувства хорошего культурного человека. Если в ней и зарождается нелюбовь к кому-нибудь, уж не говорю о зависти или о чем-то более низменном, она всегда с этим справляется и чувствует то, что должен чувствовать хороший умный человек. А такой человек должен быть правдив, не мстителен и все такое общеизвестное, но главное – он не может позволить себе не только поступка, но даже чувства (подчеркиваю – чувства), не укладывающегося в нравственный кодекс. Мама Арнольда работала директором школы и всегда пользовалась огромным уважением. Про таких, как она, людей мы раньше говорили «настоящий коммунист».
Так вот Арнольд совершенно не заметил, что очень обидел маму и совершенно не придал значения происшедшему. Ах, если б мы могли угадывать вот такие ничтожные, но судьбоносные события своей жизни!
Впрочем, конечно, в случай мы не верим. Как материалисты и атеисты мы верим в судьбу и утверждаем, что все равно рано или поздно Арнольд свернул бы с прямого пути на кривую дорожку.
В силе духа Арнольду мы отказать не можем. Мы, его близкие, наблюдали за ним даже со страхом, но все же преклоняясь. Есть в нем что-то такое сверхчеловеческое, демоническое и байроническое. Это нас к нему одновременно и притягивало, и отталкивало. Вообще-то мы, «нормальные» люди, по своей природе устроены так, что терпеть не можем людей, хоть на полголовы высовывающихся из общей массы. Будь наша воля, мы бы тут же откручивали таким выскочкам головы. Да вот беда – перед такими людьми мы млеем, как кролики перед удавом.
У таких сверхчеловеков, как Арнольд, которые, казалось бы, созданы, чтобы все понимать, все анализировать, на все смотреть сверху вниз и на все плевать, есть одна слабость – гордость таких людей болезненно развита. Уколы в это место для Арнольда гораздо более болезненны, чем для нас, простых смертных.
Ну, например, подойдет к Арнольду милиционер и попросит предъявить документы. Ну что тут, казалось бы, особенного, на то милиция и создана, чтобы документы у граждан были в порядке. Так нет, Арнольд вспыхнет и спросит: "А что, в стране военное положение?" Ну, ясно, его тут же задержат и долго и нудно выясняют личность. Нарочно долго и нудно, чтобы Арнольд больше не лез в бутылку.
После армии Арнольд так и не привык ни к какому общественно-полезному труду. Не пошел Арнольд работать, например, в прессовый цех, или на металлургический комбинат, хоть там при поступлении после армии даже давали пособие целых 300 рублей. Вместо этого Арнольд устроился в городской театр рабочим сцены. И пошли эти пьянки, гулянки, причем Арнольд пришелся ко двору этой пестрой публике.
Мы, близкие Арнольда, работающие на металлургическом комбинате, хорошо знаем, что мы – это базис, а всякие там театры и прочее искусство – это чепуха. Я даже точно не знаю, почему так завожусь, когда думаю о всяких артистках и писателях, но вот так бы и писал, и писал ядовитые строки. Хотя к тому времени я сам уже был членом союза писателей (ушел с комбината в городскую газету), и должен был бы терпимо относиться и плевать на этих артисток и писателей.
Я только хочу сказать, что понятно, почему Арнольд шел по кривой дорожке все увереннее. Трудовой коллектив (тьфу, трудовой, это в театре трудовой) его очень поддерживал.
В свободное время Арнольд стал рассказики пописывать. Теперь обнаружилось, что это очень умно. Читал, приходилось. Может, и умно, да неинтересно и читать невозможно, думал я тогда. По правде говоря, теперь мне многое у него нравится, причем из того, из раннего.
А тогда я ревниво думал, я ведь специалист все-таки (как я уже сказал, есть у меня, между прочим, удостоверение, выданное союзом писателей о том, что я настоящий поэт), а рассказики Арнольда не понимал. Надев очки, я читал очень внимательно, честно скажу, очень старался что-то уловить. «Брат, да это же шутка, гротеск», – не выдерживал Арнольд. «А—а, шутка», – торопливо улыбался я, чувствуя себя виноватым, за то, что мне не смешно.
И вот опять-таки смешная деталь. Арнольд как-то сказал в кругу друзей, что он "бросит писать в тот день, когда рассказ понравится брату". Это меня очень обидело. А в то же время, когда я читал его произведения, я видел, что Арнольду очень хочется, чтобы рассказ мне понравился. Конечно, Арнольд этого не дождался, так что спокойно пишет до сегодняшнего дня.
В-общем, там, в этих кругах, где вращался Арнольд, все они были гении, все друг друга хвалили и ценили, и как-то собрали то, что каждому казалось наиболее гениальным, и надумали издать книжку.
Обманули глупенького старенького цензора нашего издательства, обвели вокруг пальца несчастного старичка, которого за это из партии и с работы выгнали. Он, конечно, мало что понял в их модерновых произведениях. Да и откуда ему понимать, если он в молодости на стройках Магадана охранял заключенных. Потом за заслуги партия направила его присматривать за нашими провинциальными гениями.
Впрочем, он понял достаточно, чтобы испугаться, но эта шайка объяснила ему, что теперь такая политика партии. В этом сборнике участвовала и его внучка. Не пожалели старичка, да что там, этой публике родного дедушку не жалко.
Книжечка уже была отпечатана, но тут кто-то проявил бдительность, и весь тираж порезали.
Бедного старика за один день вышибли из партии и с работы. Он пришел домой не в себе и, обращаясь к портретам Ленина и Сталина, объяснял, что все это происки врагов из-за океана. Его несчастная старуха вызвала скорую помощь, но было поздно. Старик разложил все свои ордена и застрелился из револьвера, которым его наградил сам товарищ Берия. Выполнил свой последний перед партией долг. Вот так.
А между прочим, милейший был старичок, царство ему небесное. Мы с ним несколько раз выпивали, когда выходили мои книжки, он мне рассказывал, как строил дорогу по Колыме. Да так живо, что я уговаривал его написать книжечку воспоминаний. Но он так и не собрался – некогда было на его ответственном посту. "А кто за вами следить будет? Понапишете черт знает чего,” – отнекивался он.
Ну, весь тираж уничтожили, кое-кого из авторов сборника отправили в колонию-поселение из нашего северного города еще дальше на север, но Арнольд в их число не попал. Великая у нас страна! В каком медвежьем углу не живи, а все равно есть куда отправить в ссылку еще дальше.
А тут как раз момент такой, что власти занялись вплотную культурой, стали порядок наводить. Но что-то такое было уже в воздухе. Это были восьмидесятые. Советский коммунизм был уже похож на своего последнего Генерального секретаря Андропова: порядок наводит, диссидентов гноит и рок-музыкантов сажает, молодцом глядит, но уже подключен к аппаратам искусственного дыхания, почки, печени и всего остального ливера.
Арнольд слонялся без дела, но писал много. На нашу жизнь он стал совсем плохо смотреть.
–Нет у нас свободы мысли, – говорил он.
–Как это нет? Думай, сколько влезет, – спорил я.
–Нет, Россия—несчастная страна. Страна дураков, – бросал Арнольд.
Тут уж я только руками на него махал.
Совсем невыносимым человеком стал Арнольд. Его гордость развилась до совершенно болезненной степени.
–Ты не замечаешь, что тебе каждый день плюют в лицо? – говорил он мне.
То его продавщица обругает, то участковый зайдет, проверит, работает ли Арнольд, не ведет ли паразитический образ жизни. А Арнольд размахивает рукописями, как будто участковый может согласиться, что рассказики – это общественно полезный труд.
Иногда и компетентные ребята с ордером заглядывали к Арнольду почитать рукописи, узнать, как творческие успехи, проверить, не пишет ли он чего враждебного, не изготавливает ли клеветы на нашу жизнь. В те времена это были его единственные читатели, а Арнольд из-за таких пустяков каждый раз гневался почти до инфаркта. А между прочим, именно в лице молодых ребят из КГБ Арнольд приобрел первых настоящих читателей, которым он нравился не за то, что с ними водку пьет.
В любимом Арнольдовом театре всех этих еврейчиков поприжали, репертуар подсократили, ходил он со своими приятелями мрачный, как туча.
В-общем, в один прекрасный день почти вся труппа нашего театра снялась с места, как стая гусей, и улетела на юг, в теплый Израиль.
Что ж, как говорится, отряд не заметил потери бойца. Хотя, впрочем, кое-какую потерю я почувствовал. Вместе с труппой уехал и закройщик нашего ателье, давний мой знакомый, Константин Моисеевич. Ах, какой он мне костюм сшил, когда я демобилизовался из внутренних войск!
Прихожу в ателье костюм заказать на свадьбу дочери, а вместо Константина Моисеевича вываливает детина с русской рожей, метра два ростом. Все же, чтобы с уверенностью костюм шить, лучше, чтобы закройщик был пожилым приветливым евреем, как Константин Моисеевич.
Впрочем, не буду больше о Константине Моисеевиче (хотя он бы материал не испортил, как этот детина), а то русские патриоты обзовут меня "русофобом". Хоть и не понятно, что означает это мудреное нерусское слово, а все ж обидно.
Вместе с нашим театром уехал и Арнольд. В конце концов он оказался в Америке. Для нас, его близких, в те времена оказаться в Америке – это нечто такое же странное, как оказаться на Луне. Еще раз говорю, была середина восьмидесятых, Афганистан, железный занавес и все такое.
Первое время Арнольд писал довольно часто и даже отправлял нам посылки. Представляете, какой был стыд – ходить на почту и получать посылки из Америки. Мама Арнольда попросила меня сходить получить. Я, помнится, первый раз даже выпил для храбрости. Но, правда, девчонки на почте были растеряны не меньше меня. Они точно не знали, можно ли отдать посылку, не следует ли ее вскрыть в присутствии представителей компетентных органов и т. д. Такое чрезвычайное происшествие в нашем отделении связи случилось впервые. Они даже звонили начальству, но их успокоили, что выдавать можно, уже компетентные органы все вскрыли и проверили.
Ну, в общем, мы собрались на семейный совет и написали Арнольду, чтобы он больше нас не тревожил, не портил нам анкеты. По-моему, он, дурачок, обиделся, но писать перестал.
Все-таки информация об Арнольде поступала тоненьким ручейком. То он здесь, то там, уже вроде профессор и почетный член. А потом на несколько лет мы о нем подзабыли – своих проблем хватало.
В 1991-м году я был по делам в Москве. Уже когда началась вся эта свобода и перестройка. И надо же, в последний день я наткнулся на Арнольда. Такая странная встреча. Я зашел в Дом книги, бродил там среди полок. И вдруг меня окликнули.
Я увидел то ли господина, то ли мистера, но уж никак не товарища. На товарищах костюм так не сидит. Господин снял очки и оказался Арнольдом. Трудно было узнать его после стольких лет.
–Ты совсем не изменился, – сказал Арнольд. Даже в его речи звучал иностранный акцент.
Поехали к нему в гостиницу и напились по-русски. Как и полагается двоюродным братьям после долгой разлуки.
В Россию Арнольд приехал ненадолго по своим литературным делам. Он даже не сообщил об этом нам, своим родным. Далее он следовал в Токио. Меня не покидало удивление: я как-то впервые в жизни почувствовал, что Нью-Йорк, Токио – все это существует на самом деле. Это был 91-й год, потом я сам много где побывал, но помню вот это свое ощущение.
Арнольд позвонил в ресторан при гостинице и на английском языке заказал ужин.
–Если заказать по-русски – не принесут, – сказал он.
Арнольд напился до слез, стекавших по подбородку на отличный костюм. Он говорил в тот вечер очень много. Надо отдать ему должное, он не считал лузерами и никудышниками нас, не уехавших на Запад. Ну то есть все население свободной России. Не опускался он до фотографий себя на фоне кадиллаков и мерседесов. Тем более, что вскоре и мы накупили кадиллаков и мерседесов (подержанных). Я заметил в нем некоторый надрыв. Хотя он был очень уж пьян. По крайней мере, когда я смотрел его интервью по телевизору, я такого надрыва не заметил.
Потом я уложил спать ослабевшего брата. А сам, честно признаюсь, совершенно пьяный, потащился на вокзал, сжимая в руке тяжеленный чемодан со сливочным маслом для всей родни. Еще раз говорю, это был 1991-й год, и жрать у нас в городе было нечего.
Не успел поезд отъехать от вокзала, как уже по вагонам стали шнырять бичи, предлагая сыграть в карты их колодой, а пьяные тела загромоздили проход. Я долго ругался с проводником, потому что на мою полку оказались двойные билеты, а он отказывался искать мне место, угрожая высадить на первой же станции, потому что я пьян как свинья.
Но в конце концов я устроился, пошел поблевал в проходе между вагонами, потому что блевать в загаженном поездном сортире было слишком противно и негигиенично. И уснул, думая о своем брате, уезжающем в Токио читать лекции о русской культуре.
Удивительно, взгляды Арнольда изменились не меньше, чем его внешний вид. Теперь Арнольд любит Россию до пронзительной, невероятной степени. Теперь он так называемый «патриот». Он критикует Запад за лицемерие, политкорректность и победу левых взглядов.
И снова Арнольд отличается от такого человека, как я. Это, видимо, его судьба. Я вот не могу так сильно любить все это. Я ведь не собираюсь куда-то уезжать. И у меня нет дома под Парижем. И как-то не хочется думать, что так и проживешь всю жизнь, так и подохнешь по уши в этом дерьме.
Полет воздушного змея
Сначала надо было долго ехать на трамвае, а потом долго идти пешком. Мать вела за руку брата, который был еще меньше меня.
За молочным заводом город резко кончался, и начинался океан зеленой весенней травы. Трава колыхалась волнами до самых невысоких голубых гор. В детстве в моем городе мне больше всего нравилось, что из нашего окна были видны голубые горы. А вдоль них заходили на посадку самолеты.
А впереди были видны деревья городского кладбища. И отсюда всегда казалось, что там тихо и прохладно. Мы ходили туда весной на могилу нашей бабушки – маминой матери.
Мы шли туда по асфальтовой дорожке. Расстояние было большое, и я всегда очень уставал, а брат к концу пути начинал капризничать, топать ногами и проситься на руки. Отец сажал его на плечи. И брат удовлетворенно оглядывался сверху по сторонам. А я ему завидовал.
Когда мы доходили до кладбища, отец ссаживал брата и набирал воды в бидон из крана возле мастерской. Рядом с мастерской были навалены памятники и ограды для тех, кто еще не умер.
Мы доходили до могилы бабушки. Калитка там всегда открывалась с трудом, потому что зарастала за весну травой.
Мы никогда не видели своей бабушки, но нам становилось грустно. И было немного странно, что мать так связана с чем-то для нас несуществующим.
Отец доставал банку с серебряной краской и начинал красить ограду. И мы мешались у него под ногами. Тогда он давал нам кисти. Мы водили кистью по ограде, серебряная краска капала на траву. Нам быстро надоедало, но бросить было нехорошо, и игра превращалась в работу.
Потом мать кормила нас чем-нибудь, а потом мы с братом бегали по кладбищу. Это было как город, только лучше. От дорог, посыпанных галькой, вились между могилами тропинки. И трава местами была очень высокой. И среди могил не было ни одной одинаковой. Мы с братом уже знали, что здесь под землей лежат покойники. То есть люди, которые умерли. А умер – это как заснул, только надолго. А мы-то и наши родители, конечно же, не умрем. А тем, кто умер, просто не повезло.
Могилы были очень разные. Одни – ухоженные, с красивыми оградами и дорогими памятниками. А некоторые – холмик, заросший травой, а сверху – покосившийся деревянный крест с облупившейся краской.
И мне казалось, что обладатели кустов роз и мраморных памятников более счастливы, чем обладатели деревянных крестов.
А вечером, особенно когда не было людей, на кладбище становилось жутковато. Однажды вечером я бежал по дороге, стараясь не удаляться от родителей. Мне было жутко, и казалось, что со всех сторон на меня кто-то смотрит. Потому что вокруг не было ни звука, ни движения, и вдруг наткнулся на человека. Я опрометью бросился назад. А человек подошел к нам. Я его все еще боялся, но не очень, потому что рядом были родители. Он попросил у отца закурить и пошел дальше. На его спине висел маленький рюкзак. Но это было в другой раз.
А в тот раз отец принес воздушного змея. Он склеил его в субботу. Он нарисовал на нем глаза и рот и приделал хвост.
К вечеру мы пошли на поле за кладбищем. Дул ветер, колыхался зелеными волнами океан травы до самых гор, к которым склонилось солнце. Долго ничего не получалось. Отец злился и обзывал нас тупыми. Наконец порыв ветра подхватил змей. Отец стал разматывать нитку. Местность поднималась от нас во все стороны. Мы были на дне колыхающегося волнами океана травы. Голубое небо опиралось на вершины гор. Отец разматывал нить, и змей поднимался все выше.
–А подними, где самолеты летают, – попросил брат.
–Нитки не хватит, – ответил отец.
А змей все вверх и вверх, пока не превратился в точку. Там, наверху, дул устойчивый сильный ветер. Теперь казалось странным, что змей привязан к маленькой дощечке в руках отца.
–А километр есть? – спросил брат, потому что недавно узнал, что такое километр.
–Не знаю, – сказал отец.
–Дай подержать, – попросил я.
Отец отдал мне дощечку. Дощечку тянуло вверх, и я чувствовал упругость нити, к которой привязан змей. Теперь я точно знал, что он привязан. Я понял, что поэтому он и летит.
Подошла мама. Ее руки были в земле, потому что она полола траву. Она близоруко прищурилась в небо и сказала:
–Ой, а я не вижу.
–Да вот же он! Да вот же он! – закричали мы с братом в восторге от того, что змей взлетел так высоко, что мама его не видит.
На земле был уже вечер. А там, где стремительно летел на одном месте наш змей, был еще день. Змей был освещен солнцем. А рядом был вечер кладбища с его непонятной тишиной. И очень пахло сиренью. Потом я вспомнил, что утром отец сказал, что сейчас время майских жуков и обещал поймать нам одного. Мы смотали нить на дощечку, хотя змей не хотел идти вниз. Внизу он попал в область неустойчивого ветра и упал на поле.
Майские жуки действительно появились, и отец поймал одного шляпой. Мы с братом хорошо его рассмотрели.
Уходили мы уже ночью. Когда мы шли по дороге к выходу, за нами в темноте бежала собака. По сторонам темнели могилы и контуры деревьев. Звезды были очень крупные и яркие.
Не было ни синих гор, ни зеленого океана травы, ни голубого неба. Была темная неуютная степь, сливавшаяся с черным звездным небом. Была ночь.

