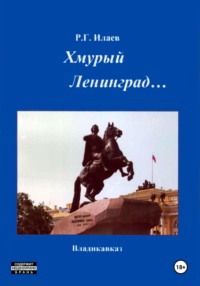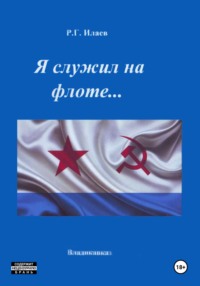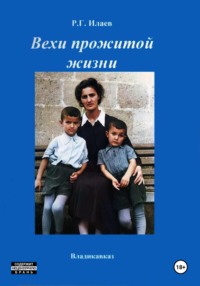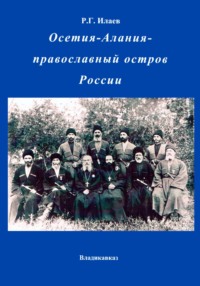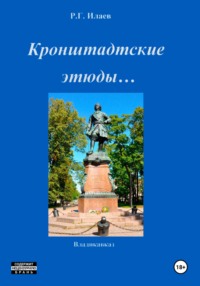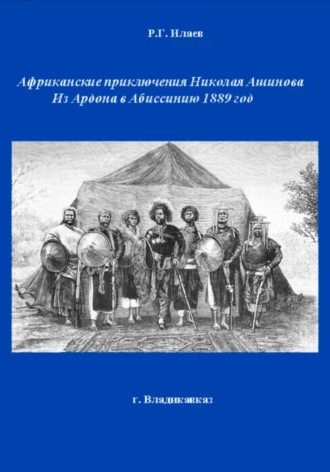
Африканские приключения Николая Ашинова Из Ардона в Абиссинию 1889 год
Итак, личности пяти осетин-участников Ашиновской экспедиции были установлены, и даже был определен их возраст по сохранившимся церковным книгам селения Ардон.
И еще, в одной из церковных книг я нашел весьма любопытную для меня запись: «В ночь на 4-го августа 1906 года у Илаева Ахмата уворована лошадь», то есть лошадь у него украли, когда ему шел 45 год. В Абиссинии Ахмат был в 1889 году, следовательно, лошадь была украдена через 17 лет после его возвращения из экспедиции. Вроде ничего особого нет, украли лошадь моего прапрадеда 118 лет тому назад. Но ощущение того, что моя фамилия и мой род существовали 118 лет назад, стали вдруг для меня очевидными, и я почувствовал, что сам являюсь частью и продолжением этого моего осетинского рода и фамилии.
Глава II. Ардонцы-ашиновцы
В 1903 году в Ардоне проездом находился известный российский писатель Александр Петрович Андреев. Приехал в селение он с поручиком Веленским – членом администрации Терской области. Еще в дороге Александру Петровичу стало известно, что в Ардоне проживают участники Ашиновской экспедиции. У него появилось чрезвычайное желание пообщаться с ними. В том же году вышла книга А.П. Андреева под названием «В плоскостной Осетии», где описывается подробно встреча с Ардонскими ашиновцами.
Я привожу полное изложение выдержки из книги его бесед с бывшими членами Африканской экспедиции в 1888-1889 годах в Ардоне:
«…Когда я и мой товарищ, поручик Веленский, начальник одного из участков администрации Владикавказского округа Терской области, въехали в большую и грязную казачью станицу Ардон, наш возница обернулся и спросил:
– Где начальник хочет остановиться?
–У полковника Xоранова Созрыко Дзанхотовича, – ответил ему мой товарищ: -знаешь, где он живет?
–Знаю, знаю, – закивал головою возница и, подщелкивая увязавшую чуть не по колено в грязи тройку усталых лошадей, повез нас на другой конец станицы.
Мы двигались, конечно, медленно, и ничто не препятствовало мне разглядеть все признаки материального благосостояния станицы: хорошо построенные деревянные или каменные дома, прочные и зачастую железные крыши, разные службы при домах, недурную православную церковь и, наконец, даже 6-ти-классное духовное училище.
– Наши казаки живут вообще очень хорошо, – говорил мне тем временем Веленский: – но, к сожалению, богатая природа сделала их такими же ленивыми, как и всех вообще обитателей нашей плоскости – аборигенов и пришельцев. Как и осетины или ингуши, казаки занимаются главным образом строганием палочек, а работы возлагают или на женскую половину, или на наемных рабочих из России. Сверх того, сильно пьянствуют, как и осетины, и перенимают даже их нравы и обычаи вместо того, чтобы быть пионерами новой и высшей культуры в крае.
– Но что же поделаешь, коли такова уже русская натура? – заметил я: – куда ни придет наш соотечественник, везде он быстро сходится с местным населением и начинает подражать ему. Благодушие, широкая терпимость, а отчасти и распущенность- эти основные наши черты позволяют нам уживаться с самыми удивительными крайностями. Я давно уже живу и странствую по нашим окраинам и всегда замечал, как быстро сходится наш мужичек или солдат с чуждыми народностями, к которым забрасывает его судьба, и особенно, если эти народности малокультурны, а по складу своего характера – благодушны и общительны. И все равно тогда ему, каким языком говорит эта народность и какому богу молится. Не даром же на западе нас считают прекрасными колонизаторами.
– Я вполне согласен с вами, – ответил Веленский, – и чрезвычайно ценю в нашем народе эту терпимость и способность к слиянию с инородцами. Но едва ли можно одобрить, когда он, носитель во всяком случае высшей культуры, усваивает себе нравы и обычаи этих инородцев и таким образом не поднимает их до себя, а сам спускается к ним.
– Да, такие положения вообще нежелательны и прискорбны, – возразил я, – но не трудно и им найти оправдание. Нравы и обычаи каждого народа или племени вырабатываются под влиянием местных условий: климата, характера местности и т. д. И вот когда среди этих аборигенов края со сложившимся уже под влиянием таких физических условий строем жизни появляются новые люди, то, весьма понятно, они должны приспосабливаться и применяться к той обстановке, в которую попадают. Взять, например, здешних казаков. Жители равнин, они попали в предгорную полосу, где все иное, чем на их бывшей родине: и почва другая, и климат другой, и люди другие. Одной рукой они должны были обрабатывать свою землю, а другой отстреливаться от свирепого врага. Весьма натурально, что при таких условиях она с первых же шагов отбросили в сторону принесенные с родины обычаи и стали вырабатывать себе совершенно иной уклад жизни. И этот уклад, понятно, стал все больше и больше приближаться к строю жизни чеченцев, кабардинцев, осетин и других коренных обитателей края. А когда страна была уже замирена, то это сближение пошло еще быстрее в виду возникшей совместной жизни и постоянных сношений. Но если путем такого сближения они кое-что потеряли из принесенного с родины, то, наверное, кое-что и выиграли. Ну, да и аборигены страны, нужно думать, немало все-таки приобрели в свою очередь от наших казаков.
– Ну, конечно, – ответил Веленский, – и осетины, и чеченцы немало вынесли из этого соседства и из своего приобщения к более высокой культуре. И чем дальше, тем они все больше и больше оценивают плоды ее. Вы уже знакомы с некоторыми из образованных осетин и, между прочим, с полковником Xорановым, к которому мы и едем теперь; потом познакомитесь еще и с другими, а пока воспользуйтесь случаем поговорить здесь, в Ардоне, с нашими ашиновцами.
–Что такое? – переспросил я своего товарища.
–А видите ли, когда Ашинов собирался в свою экспедицию в Абиссинию, то он набирал себе достойных сподвижников среди казаков и других искателей приключений. Конечно, и наши осетины не преминули примкнуть к нему, и несколько человек ардонцев сопровождало его в Африку, откуда потом со всей экспедицией и главой ее их вернули обратно на родину.
–И они теперь здесь, в Ардоне?
–Да, я думаю. И если вы попросите Созрыко Дзанхотовича, то он, наверное, не откажет пригласить их к себе. Они говорят по-русски и рассказывают очень много интересного. Но вот мы и приехали.
В этот момент тележка наша въехала во двор, окруженный разными службами и забором, и остановилась перед небольшим щеголеватым домиком, под железной крышей. Несколько собак приветствовало лаем наше появление, а когда мы сошли о тележки и поднялись на деревянное крылечко, к нам навстречу вышел сам хозяин, полковник Xоранов, плотный и крепкий мужчина, невысокого роста, лет сорока от роду.
Осетин и уроженец Ардона по происхождению, он получил воспитание в русских военно-учебных заведениях и офицером уже, в чине сотника, принимал участие в последней русско-турецкой кампании. Состоя при «белом генерале» М. Д. Скобелеве, он успел заслужить особенную его любовь и получил от него на память прекрасную саблю с такой надписью:
«В память пережитых вместе боевых впечатлений в славную кампанию 1877 – 1878 г.г. в Европейской Турции от ценящего молодецкую службу сотника Xоранова начальника N-го отряда генерал-адъютанта Скобелева. Адрианополь 12 ноября 1878 г.».
Сабля эта хранится, конечно, как святыня, и вместе с портретами самого Михаила Дмитриевича, его отца, матери и ближайших сподвижников, и сотрудников, A. H. Куропаткина, ныне военного министра, Баранка и украшает кабинет хозяина. Любезно пригласив нас спать и расположиться вообще, как у себя дома, полковник Xоранов тотчас же распорядился насчет закуски, вина и чая. А пока бойкий мальчуган ингуш устраивал стол и устанавливал посуду, он занимал нас своими воспоминаниями о «белом генерале» и вообще о последней кампании…
В это же время на пороге комнаты, где мы сидели, появился молодой человек лет 22-23, одетый в туземный костюм, и скромно стал в стороне. Хозяин выждал, пока наш разговор на минуту оборвался, и затем отрекомендовал этого молодого человека, как своего младшего брата, студента Московского университета. Я с удовольствием пожал руку симпатичному молодому человеку и пересел на соседний стул, чтобы освободить ему место. Но он поблагодарил и остался стоять.
– По нашим старинным обычаям, младшие не могут садиться в присутствии старших, – сказал он в пояснение.
– Это верно, – подтвердил и хозяин: – молод еще, пускай постоит. А когда вырастет, так и перед ним тоже будут стоять.
И только, когда подали закуску, он разрешил своему брату сесть вместе со всеми нами к столу.
А на другой день, когда я остался вдвоем с этим молодым человеком, я вновь вел речь на этот вопрос, и он мне сказал.
– Мы, осетины, да и вообще все коренные обитатели кавказских гор и нашей плоскости, дорожим своей стариной и свято храним многие вековечные обычаи. И среди них одно из первых мест занимает это правило – всегда и всюду оказывать почтение старшим. Старинный быт наш был основан на родовом принципе, где, как известно, возраст имел решающее значение… Правда, теперь уже далеко не по-прежнему соблюдается этот прекрасный обычай; но я лично считаю его чрезвычайно важным и почтенным и полагаю, что нахождение в университете не только не избавляет меня от исполнения его, но и обязывает к еще более внимательному к нему отношению.
– И ваш брат, видимо, тоже строго придерживается его? -спросил я.
– Да, и это совершенно правильно. Мой брат и я, мы находимся на виду у наших одноплеменников и должны показывать им пример. Поэтому я сажусь лишь во время еды, хотя обедаем мы вместе тоже довольно редко, – да, когда пишу брату отчетность по его хозяйству. И нельзя не признать всей справедливости этих рассуждений… А во время той же закуски мы познакомились, хотя, впрочем, не лично, а лишь на словах, со всей остальной семьей нашего хозяина.
– Я женат теперь во второй раз, – говорил он: – и имею двух сыновей и дочь. Жена – здесь, но она у меня кабардинка и, никогда не выходит к гостям. А из детей старший сын – в кадетском корпусе в Петербурге, а остальные – еще маленькие. Второй сын тоже пойдет в корпус, а дочь в институт.
– А не поверите, -продолжал он после короткой паузы, указывая на своего брата-студента, наши ардонцы никак не могут простить ему, что он не пошел на военную службу.
– Да, это правда, – отозвался с улыбкой студент, -просто проходу не дают, допрашивая, когда же я буду офицером и надену погоны! Погоны ведь для них, как для детей, – все. И они никак не могут понять никакой другой службы, кроме военной.
И когда я стараюсь убедить их, что деятельность на гражданском поприще может быть также почтенна и принести еще большую пользу, чем военная служба, они, выслушав внимательно меня, опять повторяют свой вопрос: «а погоны-то скоро наденешь?» И, кажется, придется уступить им и по окончании университетского курса, действительно, начать готовиться на офицера…
Мысль о знакомстве с «ашиновцами» преследовала меня с первой же минуты нашего прибытия к полковнику Xоранову, но высказать ее я нашел удобным лишь на другой день утром, когда мы вновь собрались все за чайным столом. Любезный хозяин тотчас же выразил свое согласие и послал за ними одного из своих прислужников. К великому моему удовольствию, «ашиновцы» оказались дома и не замедлили явиться в садовую беседку, где мы поджидали их за столиком, уставленным закуской, вином, аракой (водкой) и брагой. Их было трое – все рослый, видный и красивый народ с выразительными лицами, на которых бойко сверкали светлые глаза. Но особенно выделялся один, которого все присутствующие звали Дзеранов Саукудз (Черная Собака – в переводе).Большого роста, широкоплечий, обладатель, несомненно, громадной физической силы, а, судя по лицу, глазам и вообще по всему поведению, большой умница и «себе на уме», он представлял собой тип настоящего авантюриста, смелого, находчивого и хотя ценящего все блага земные, по готового на самые безумные предприятия из одной только любви к приключениям… Его товарищи и выдвинули его вперед в качестве рассказчика, а сами лишь поддакивали ему в наиболее интересных местах, скрепляя свои возгласы энергичной жестикуляцией, выразительной мимикой и игрой глаз. Саукудз Дзеранов, – такова была фамилия этого осетина, уроженца Ардона, – как и остальные его товарищи, сначала немного стеснялся, не хотел садиться, есть и пить в нашем присутствии. Но мы настояли на этом – и тем успешнее, что сам Хоранов, познакомив вас, тотчас же ушел по делу.
– Что же вам рассказать? – спросил Дзеранов, когда я попросил его поделиться с нами своими воспоминаниями об абиссинской экспедиции.
– Да расскажите сначала о самом Ашинове, – ответил я: – где вы с ним познакомились и каким образом попали под его команду?
– Кто такой был Ашинов, этого я и теперь не знаю, – начал Дзеранов: – да и сама его хозяйка (жена) тоже, видно, не знала. И зачем он ездил в Абиссинию, – также никому неизвестно. А познакомился я с ним во время последней войны под Карсом. Я там сначала был в охотниках у Самата – может, знаете, разбойник такой был, беглый каторжник; но во время войны он со своей командой много пользы принес, и ему простили и даже офицерские погоны дали; большой был храбрец и отчаянный человек. Иногда мы с ним много разных штук выкидывали… Ну, а потом перешел я в конвой при генерале Геймане, а начальником этого конвоя и был как раз есаул Ашинов. Мы с ним очень даже сдружились и каждый день беседовали о том, о другом. Говорил он кое-что и о себе, но немного; говорил еще, что генерал Гейман приходится ему дядей, и что также приходится и знаменитый кавказский герой, генерал Слепцов, погибший в 1850 году. Рассказывал и о других значительных своих родственниках… Ну, а как кончилась война, мы расстались. Ашинов, правда, подбивал меня ехать с ним в Россию, но я отказался и вернулся в Ардон…
Прошло так лет семь, и вдруг получаю я от него из Иерусалима письмо, в котором он приглашает меня приехать к нему с несколькими товарищами «за деньгами». Подумал я, подумал, да так и не собрался. Но через некоторое время вдруг- другое письмо с более настойчивым приглашением, при чем он предупреждал меня, что я должен быть готов на все… Пахло, значит, чем-то особенным… Ну, тут я не удержался и бросился во Владикавказ за паспортом, но мне отказали. Прошло еще сколько-то там лет, и опять Ашинов приглашает ехать к ним далеко «за деньгами» и тоже товарищей набрать, да поотчаянней… Ну, стал я тогда изыскивать способы, как бы устроить это; написал и Ашинову… И пустили тогда слух, что хотят повезти наших горцев, которые поудалее и хорошо умеют джигитовать, в Париж, чтобы показывать их там. Ну, я и вызвался и несколько наших молодцев со мною. Долго мы учились джигитовке и хорошо выучились. А как кончили, тут и известие, что мы должны ждать приезда одного господина, который посмотрит нас всех, а затем и снарядит в дорогу. Поехал я встречать его на станцию Дар-Кох, встретил. Приехали мы вместе в Ардон; посмотрел он тут моих товарищей и доволен остался. Хотели тогда было еще, и ингуши пристать к нам, да сразу же оскандалились на джигитовке: ни один не мог шапки с земли поднять. Ну, им и скомандовали: «направо, налево, по домам!»
Как посмотрел тот господин на нас, – продолжал Дзеранов, проглотив предложенный ему стакан араки, -так и велел собираться в дорогу. И денег дал… Сам уехал вперед, а нам велел всем вместе – десять человек нас собралось – двигаться на Новороссийск, а затем морем на Одессу. До Новороссийска мы добрались скоро и без препятствий, а там вдруг «стой!» Буря разыгралась на море, и ни один пароход не шел из порта. Что тут делать? Ведь нам надо было к сроку поспеть! … Ну, и послал я в Одессу такую телеграмму: «везу десять пудов первосортного балыку, пути нет, как быть?» На другой день- ответ оттуда: «для первого сорта можно обождать неделю, другую».
Ну, обождали немного, море успокоилось. Приехали мы в Одессу, а там нас давно уже ждут. И Ашинов тут, только уже под фамилией Петрова. Встретил нас очень хорошо и позволил сначала покутить немного. А затем и за работу. Прежде всего нужно был одеться, потом ружьями запастись и перевезти их скрытно на пароход. Ехали-то мы как будто монахи, и поп настоящий был с нами, архимандрит Паисий. Ну, значит, оделись все в монашеские рясы, а под рясами-то – черкески и кинжалы, и револьверы у пояса. И ружья тоже перевозили, как будто тюки со священным писанием и иконами. Я и возил эти тюки на пароход из какого-то склада. Но как мы ни прятались, а все-таки за нами стали следить, и какой-то пройдоха увязался за нами на пароход и до самого Адена ехал. А там высадился на берег и написал в Европу, что «едут, мол, в Африку хорошие русские монахи – настоящие черкесы».
И всю дорогу вот этак нам покою не давал. Везде уже слух пошел, что мы вовсе не монахи. И когда приехали в Константинополь, то там явилось на пароход несколько турецких пашей и все переодетые разными торговцами. Но Ашинов всех их знал, и мы, с его разрешения, устроили им шутку: один из наших молодцев как будто рассердился на меня и толкнул, я – его, другие присоединились, и пошла потеха. А турок зацепили как будто мимоходом и невзначай, да так зацепили, что они еле успели с парохода убраться…
Плыли мы тогда на австрийском пароходе, и было нас много, человек около двухсот. Нас-то, осетин, только десятеро, а то все больше казаки – «некрасовцы»; но удалой все народ: хоть в огонь, хоть в воду, -ни на минуту не задумаются. Ну, конечно, трудно было таким молодцам монахами себя всю дорогу держать. Мы, правда, для отвода глаз и обедни по очереди служили, то один, то другой.
– И вы служили? -спросил я, улыбаясь.
– И я служил, – ответил Дзеранов с такой же усмешкой: – стою себе, кадилом помахиваю да во все горло вывожу: «дай им, Господи, поменьше, а нам побольше!» А австрийцы стоят поодаль и думают, что мы и взаправду обедню служим.
– И так они не догадались, каких монахов везли? – задал я новый вопрос.
– Какое не догадались: тоже скоро поняли, и хотели было высадить нас где-то на берег. Ну, да мы тогда сразу, по знаку Ашинова, сбросили с себя рясы да за кинжалы взялись. Ну, увидали австрийцы, что с нами шутки плохи, и покорно поехали дальше. А мы все-таки хотели их перерезать, всю прислугу, – человек 60 ее было, – и завладеть пароходом. Но и Ашинов, и архимандрит Паисий строго-настрого запретили это делать. А хорошо бы было: плавали бы тогда по морю да ловили, что в руки бы плыло. И всякие нужные фокусники с нами были, которые сумели бы пароходом править; только рулевого да лоцмана хотели оставить.
– И долго вы плыли?
– Да, довольно-таки долго. И скучно это было. Только тогда душу отводили, когда к берегу приставали.
Приехали вот так в Порт-Саид. Город весь набит разными проходимцами, собравшимися со всего света, пьянство идет, рулетка, разные безобразия. Ну, захотелось и нам немного встряхнуться, а денег-то и нет. Надумали тогда штуку. Несколько наших казачков, в тех же своих рясах, отправились и рулетку поиграть. Пришли, примазались; сразу же им счастье улыбнулось, и они выиграли несколько золотых. Но при дележе выигранных денег они как будто поссорились между собой и, моментально сбросив рясы, выхватили свои кинжалы и револьверы. Тогда публика, да и сами хозяева в ужасе бросились в разные стороны. А когда зала опустела, казачки надели вновь свои рясы, сгребли в карманы все лежавшее на столах золото и благополучно вернулись на пароход. На другой же день весь город уже знал о нападении монахов на рулетку. Но хозяева ее не хотели видно открыто дело начинать и особенно когда узнали, что вся история обошлась благополучно, и ни один из монахов не остался на месте…
Тут Саукудз остановился на минуту, видимо сам восторгаясь рассказанной выходкой и давая и нам возможность вдоволь насладиться ею. Один же из его товарищей сказал ему что-то по-осетински.
– А, да, да, – ответил ему Дзеранов и затем, обращаясь к нам, продолжал: – это тоже было хорошо. Ашинов никогда не пускал нас на берег большими партиями, а только по нескольку человек: боялся, что мы там перепьемся и весь город перережем. Вот так отпустил он в город четырех казачков, а денег дал им всего какую-то мелкую монету, вроде нашего двугривенного. Пошли они. Пить смерть хочется, а на двугривенный далеко не разъедешься. Но там, на их счастье, обычай такой оказался: прежде чем купить какого-нибудь спиртного напитка, можешь даром попробовать его.
Вот и пошли они поодиночке пробовать разные напитки, да так напробовались, что потом и дорогу на пароход потеряли… Ашинов ждал-ждал их, да и послал наконец разыскивать: нашли в какой-то канаве дружески обнявшимися, и тут же рядом и двугривенный лежал…
– Ну, а столкновений с властями не было? – спросил я.
– Как не быть, -бывали. Особенно досаждал нам один консул, не то французский, не то английский.
Повадился на наш пароход ходить да следить за нами. Ну, надоело нам это, наконец, и мы однажды заманили его в укромное место, да и отдули там наилучшим образом. Но, как потом оказалось, в ошибку попали: вместо любопытного консула избили какого-то флигель-адъютанта султана. Тот пожаловался нашему консулу, и пошла история. Как никак, а пришлось выдать двух наиболее виновных. Но и наш консул постарался это дело потушить и дал арестованным возможность бежать. И, конечно, на нашем корабле их уже не нашли…
После этого случая мы поспешили уйти из Порт-Саида и долго трепались в Красном море. Бури там преследовали нас, и много иностранных кораблей следило; были среди них и военные. Ну, мы тогда на своем совете решили, что если военные суда пристанут к нашему пароходу, то будем резаться; а там, чья возьмет… Но отец Паисий был против этого и во время совета сказал: «нет, резаться не нужно. Бог – среди нас, и вот посмотрите, через час ни одного военного корабля поблизости не останется». И действительно через час поднялась страшная буря, и все суда разметало в разные стороны. Так мы и плыли уже одни до самой Африки.
– Ну, а в Африке как вы устроились?
– В Африке мы устроились недалеко от берега, в местности, называвшейся Сагалло. Разбили лагерь из палаток, церковь поставили и обвели все это место валом и рвом да забор еще высокий из колючек поставили. А то эти дикари, которые кругом нас жили, прыгают, как козы, и никакой ров от них не убережет. Занимались же мы там разными работами, хлеб сеяли, виноград растили. И теперь должны быть там наши лозы. Да и, кроме лоз, еще должны быть следы нашего пребывания: кое-кто умер, особенно из женщин да детей, иных дикари убили; мы всех похоронили и кресты поставили. А потом и дети наши там должны быть: не даром же мы там столько времени простояли! Своих-то женщин у нас мало было – всего десять; ну, а дикарок-то много кругом вертелось…
– Ну, а каковы вообще были ваши отношения с дикарями?
– Да ничего.
Сначала они были очень недружелюбно и подозрительно к нам отнеслись, ну, а затем, когда увидали, что мы им вреда не делаем, – перестали коситься и часто в лагерь к нам ходили целыми толпами. Но грубый такой народ, никакого развития. Их звали Дамали и Сомали. Ходили они нагишом, без всяких покровов, питались глиной, смешанной с солью и сердцевиной какого-то дерева. Некоторые молодцы у нас тоже пробовали эту смесь и говорили, что ничего, – есть можно. Жили они в лесу, под кустами и тут же на виду у всех все нужды свои отправляли. Ну, а насчет браков у них совсем было свободно: сегодня один муж, завтра другой.
– А было у них какое-нибудь управление?
– А как же. Тоже свой султан был, а у него – два помощника. Но такой же был грубый и неразвитый человек, как и его подданные. Жил он, впрочем, уже не под кустом, а в балагане, которым дикари хвастались, как мы каким-нибудь дворцом. Но слушались они его мало – только те, кто поближе жил, а другие совсем ни в грош не ставили. Знаком же его султанского достоинства, была повязка вокруг чресел, концы которой закидывались через плечо. Его помощники тоже носили такие повязки.
– Когда он в первый раз пришел к нам, – продолжал Дзеранов, улыбаясь: – мы дали ему кусочек сахару. Положил он его в рот и начал сосать. А как почувствовал сладость, так даже плясать стал на месте. И уж причмокивал он и обслюнявился весь… Просто, как ребенок. И потом что угодно готов был отдать за кусок сахару. И золото, и серебро нес… И все его подданные тоже сахар полюбили. А так как язык у них очень бедный, и как назвать его, они не знают, то принесут, бывало, маленький кусочек сахару, нарочно оставленный от вчерашнего дня, а в другой руке держат серебряную монету, которую мы же им дали раньше за что-нибудь. Это значит: «давай, мол, сахару, а себе бери серебро». Хлеба вот тоже постоянно выпрашивали: глина-то все же похуже казалась.
– Вообще, значит, часто они к вам в лагерь ходили?
– Да, постоянно торчали: и мужчины, и женщины, и все нагишом. Придут это целой толпой и сядут. И долго сидят, все смотрят, а то знаками объясняются.