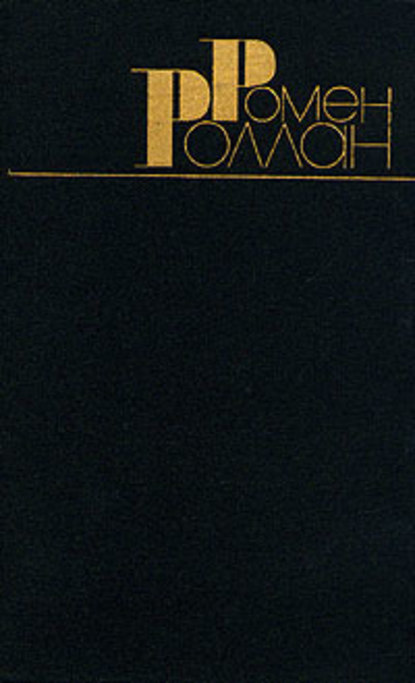По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кола Брюньон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А думаю я то, – сказал Шамай, – что сам ты, который сейчас смеешься, если бы у тебя болел задний проход, поступил бы, пожалуй, так же, как и тот. Что же касается корбиньийского аббата, то все эти монахи, чтобы отбить у нас покупателей, готовы торговать, если бы могли, ангельским молоком, архангельскими сливками и серафимьим маслом. Ты мне про них не говори! Монах и кюре – это собака и кошка.
– Так ты, кюре, не веришь в эти мощи?
– Нет, в их мощи не верю, я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Диетрины, который лишавым просветляет мочу и цвет лица. И у меня есть теменная кость святого Паклия, которая изгоняет бесов из бараньих животов… Нельзя ли не смеяться? Ты скалишь зубы, нехристь?
Так ты ни во что не веришь? У меня имеются грамоты (слепец, кто усомнился бы! Я за ними схожу), на пергаменте и за подписом; ты убедишься, убедишься в их подлинности!
– Сиди, сиди и оставь свои бумаги. Ты и сам в них не веришь, Шамай, у тебя нос шевелится… Чья бы она ни была, откуда бы она ни взялась, кость всегда будет кость, и кто ей поклоняется – идолопоклонник. Всякой вещи свое место; мертвых – на кладбище! Я так верю в живых, верю тому, что сейчас день, что я пью и рассуждаю, – и рассуждаю превосходно, – что дважды два четыре, что земля есть неподвижное светило, затерянное среди вращающегося пространства; я верю в Ги Кокиля и могу прочесть тебе, если хочешь, наизусть Свод обычаев нашего Неверского края; я верю также в книги, где капля за каплей процеживаются человеческое знание и человеческий опыт; но прежде всего я верю в свой разум. И (само собой разумеется) верю также в Священное писание. Нет благомыслящего человека, который бы в нем сомневался. Доволен ли ты, кюре?
– Нет, недоволен! – воскликнул Шамай, рассерженный не на шутку. – Или ты кальвинист, еретик, гугенот, который бормочет себе Библию, поучает матерь свою церковь и полагает (гадючье племя!), что может обходиться без кюре?
Тут озлился и мой Пайар, протестуя против того, чтобы его называли протестантом, заявляя, что он добрый француз, правоверный католик, но человек разумный, у которого на месте и мозги и кулаки, который видит днем и без очков, который зовет дурака дураком, а Шамайя – тремя дураками в одном лице или одним в трех лицах (как ему угодно), и который, чтобы уважить бога, уважает свой разум, великого светоча прекраснейший луч.
На этом они замолкли и стали пить, ворча и хмурясь, опершись локтями на стол и сев друг к другу спиной. Я расхохотался. Тогда они заметили, что я ничего еще не сказал, и сам я это заметил. Я их все время наблюдал и слушал, забавляясь их спором, передразнивая их глазами и лицом, повторяя про себя их слова, бесшумно шевеля ртом, как кролик, жующий капусту.
Но остервенелые спорщики потребовали, чтобы я заявил, с кем из них я согласен. Я отвечал:
– С обоими и еще кое с кем. Разве мало охотников порассуждать? Чем больше соберется дураков, тем смешнее; а чем больше смеха, тем больше мудрости. Друзья мои, когда вы желаете узнать, что у вас имеется, вы выписываете на бумаге все свои цифры; затем вы их складываете. Почему бы вам не сложить вместе все ваши враки? Быть может, в итоге получится истина. Истина вам кажет кукиш, когда вы хотите прибрать ее к рукам. У вселенной, дети мои, имеется не одно объяснение: ибо каждое из них объясняет лишь одну сторону вопроса. Я согласен со всеми вашими богами, и языческими, и христианскими, и богом-разумом, кроме того.
При этих словах оба они, объединясь против меня, гневно заявили, что я пирроник и безбожник.
– Безбожник! Чего вам надо? Чего вы от меня хотите? Ваш бог или ваши боги, ваш закон или ваши законы желают пожаловать ко мне? Милости прошу!
Я их приму. Я принимаю всех, я человек радушный. Господь бог мне очень нравится, а его святые и еще того больше. Я их люблю, я их чту, я им рад всегда; и они (это люди добрые) охотно заходят ко мне покалякать иногда.
Но, если уж говорить откровенно, одного бога, сознаюсь вам, мне мало.
Что поделаешь. Я человек жадный… а меня сажают на диету! У меня есть свои святые угодники и святые угодницы, мои феи и духи, воздушные, земные, лесные и водные; я верю в разум; верю также в безумцев, которые видят истину; и верю в колдунов. Мне нравится думать, что подвешенная земля качается в облаках, и мне хотелось бы потрогать, разобрать и снова собрать весь чудесный механизм мировых часов. Но это не значит, что я не люблю слушать пение сверчков далеких, звезд круглооких и разглядывать на луне человека с фонарем… Вы пожимаете плечами? Вы за порядок. Что ж, порядок вещь хорошая! Но даром он не дается, за него приходится платить.
Порядок – это значит не делать того, что хочется, и делать то, чего не хочется. Это значит выколоть себе один глаз, чтобы лучше видеть другим.
Это значит рубить леса, чтобы прокладывать длинные, прямые дороги. Это удобно, удобно… Но, боже мой, до чего это некрасиво! Я старый галл: много вождей, много законов, все-братья, и каждый сам по себе. Верь, если хочешь, и предоставь мне не верить, если я хочу, или верить. Чти разум. А главное, мой Друг, не трогай богов! Ими кишит, ими дождит сверху, снизу, над головами и под ногами; мир от них вздут, как супорось. Я уважаю их всех. И я вам разрешаю преподнести мне еще. Но сами вы не отберете у меня ни единого и не подобьете меня его уволить: разве что мошенник стал бы уж слишком злоупотреблять моим легковерием.
Сжалившись надо мной, Пайар и кюре спросили, как это я разбираю дорогу посреди такого кавардака.
– Я разбираю ее отлично, – отвечал я. – Каждая тропинка мне знакома, я по ним хожу, как дома. Когда я иду лесом один из Шамув Везлэ, неужели, по-вашему, мне нужна проезжая дорога? Я хожу туда и обратно, с закрытыми глазами, по браконьерским тропкам; и если я, может быть, и прихожу последним, зато я приношу домой набитый ягдташ. В нем все на своем месте, в порядке, за ярлычком: господь бог в церкви, святые по своим часовням, феи в полях, разум у меня во лбу. Они ладят великолепно: у всякого свое дело и свой дом. Никакому деспотическому королю они не подчинены; но, подобно господам бернцам и их конфедератам, все они образуют промеж себя союзные кантоны. Одни послабее, другие посильнее. Но только на это полагаться нельзя! Иной раз против сильных требуются слабые. Разумеется, господь бог сильнее фей. Однако же и ему приходится с ними считаться. И сам по себе господь бог не сильнее, чем все остальные, вместе взятые. На всякого сильного найдется сильнейший, чтобы его съесть. Кто ест, того съедят. Так-то. Меня, видите ли, не разубедить, что самого большого господа бога еще никто не видал. Он очень далеко, очень высоко, в самой глубине, в самой вышине. Как наш государь король. Мы знаем (и слишком хорошо) его людей, управителей, исполнителей. А сам он там, у себя в Лувре. Теперешний господь бог, которому молятся ныне, это, так сказать, господин Кончини… Ладно, ты меня не тузи, Шамай! Я скажу, чтобы ты не сердился, что это наш добрый герцог, властитель неверский. Да благословят его небеса! Я его уважаю и люблю. Но перед властителем Лувра он ведет себя смирно, и хорошо делает. Да будет так!
– Да будет так! – сказал Пайар. – Но это не так.
Увы, далеко не так! «Когда нет господина, познаешь челядина». С тех пор как умер наш Генрих и королевство перешло в бабьи руки, князья играют им, как прялкой. «Князьям потеха, а нам не до смеха». Эти ворюги удят рыбу в большом садке и расхищают золото и грядущие победы, спящие в сундуках Арсенала, да охранит их господин де Сюлли! Ах, если бы явился мститель, чтобы им изрыгнуть собственную голову вместе с золотом, которого они нажрались!
По этому поводу мы наговорили такого, что было бы неосторожно все это записывать: ибо, напав на этот лад, все мы распелись дружно. Исполнили мы также несколько вариаций на тему о долгополых вельможах, о туфленосных святошах, жирных прелатах и о тунеядцах-монахах. Я должен сказать, что самые лучшие, самые блестящие песнопения импровизировал в данном случае Шамай. И наше трио продолжало идти в такт, каждый из нас как единый глас, когда после падочных мы коснулись припадочных, после лицемеров – всяких изуверов, фанатиков-живоглотов, католиков и гугенотов, всех этих болванов, которые, желая внушить любовь к всевышнему, дубьем и мечом вгоняют ее ближнему! Господь бог не ослятник, чтобы понукать нас палкой. Кто желает погубить свою душу, пусть себе ее губит! Надо ли еще мучить его и жечь живьем? Господи помилуй, оставьте нас в покое! Пусть всякий живет себе, в нашей Франции, и не мешает жить другим! Последний нечестивец и тот-христианин: ведь бог принял смерть за всех людей. И потом, и наихудший и наилучший, оба они в конце концов жалкие твари: и, сколь ни будь они суровы и горды, они похожи, как две капли воды.
После чего, устав от разговора, мы запели, затянув в три голоса славословие Вакху, единственному богу, насчет которого ни я, ни Пайар, ни кюре не спорили. Шамай заявлял во всеуслышание, что его он предпочитает тем, о которых разглагольствуют в своих проповедях все эти грязные монахи Кальвина и Лютера и прочая шушера. Вакх – это бог, которого признать можно, и достойный уважения, бог происхождения благородного, чисто французского… да что там – христианского, братья мои дорогие: ведь разве Иисус на некоторых старых портретах не изображается иной раз в виде Вакха, попирающего ногами виноградные гроздья? Так выпьем же, други, за нашего искупителя, за нашего христианского Вакха, за нашего улыбчивого Иисуса, чья алая кровь струится по нашим склонам и напояет благоуханием наши виноградники, языки и души и вселяет свой нежный дух, человечный, щедрый и незлобно лукавый, в нашу ясную Францию, со здравым разумом и с кровью здравой!
В этом месте нашей беседы, когда мы содвинули стаканы в честь веселого французского разума, который смеется над всякой крайностью («Мудрец садится посередине»… почему нередко садится наземь), громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице, призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные вздохи возвестили нам пришествие госпожи Элоизы Кюре, так звали домоправительницу, «Кюрихи» тоже Пыхтя и утирая широкое лицо краем передника, она возгласила:
– Ох! Ох! Помогите, господин кюре!
– В чем дело, дуреха? – сердито спросил тот.
– Идут! Идут! Это они!
– Кто это? Эти гусеницы, которые расхаживают по полям крестным ходом?
Я тебе сказал, не говори мне об этих язычниках, о моих прихожанах!
– Они вам грозят!
– Мне наплевать. Чем бы это? Жалобой в духовный суд? Пожалуйста! Я готов.
– Ах, господин, если бы только жалобой!
– А чем же тогда? Говори!
– Они там собрались у долговязого Пика и творят, что называется, калабистические знаки и заклинания и поют: «Сбирайтесь, мыши и жуки, со всех полей сбирайтесь и объедать подвал и сад к Шамайю отправляйтесь!»
При этих словах Шамай вскочил:
– О проклятые! В мой сад их жуки! И в мой подвал… Они меня режут! И надо же придумать! О господи, Симеон угодник, помогите вашему кюре!
Напрасно старались мы его успокоить, напрасно смеялись.
– Смейтесь, смейтесь! – кричал он на нас. – Будь вы на моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись. Еще бы! Я бы и сам смеялся, сиди я в вашей шкуре: это не штука! А посмотрел бы я на вас, как бы вы отнеслись к такому известию, готовя корм, питье и кров для этаких жильцов!.. Жуки! Гадость какая… И мыши!.. Я не желаю! Да ведь здесь хоть голову себе размозжи!
– Полно, чего ты? – сказал я ему. – Ведь ты же кюре? Чего ты боишься?
Разговори их заговор! Ведь ты же в двадцать раз больше знаешь, чем твои прихожане! Ведь ты посильнее их будешь!
– Какое там! Ничего я не знаю. Долговязый Пик – малый дошлый. Ах, друзья мои, друзья мои! Ну и новость! Вот разбойники!.. А я-то был так спокоен, так уверен! Ах, ни на что на свете нельзя полагаться. Один бог велик. Что я могу поделать? Я попался! Я в их руках… Элоиза, милая, ступай, беги, скажи им перестать! Я иду, я иду, ничего не попишешь! Ах, мерзавцы! Ну уж когда придет мой черед, у их смертного ложа… А пока (да будет воля…) приходится мне плясать под их дудку!.. Что ж, остается выпить чашу. Я ее выпью. И не такие пивал!..
Он встал. Мы спросили:
– Ты это куда же в конце концов?
– В крестовый поход, – буркнул он, – на жуков.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
БЕЗДЕЛЬНИК. ИЛИ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
Апрель
Апрель, дочурка стройненькая весны, девчурка тоненькая, чьи глазки так ясны, я смотрю, как цветут твои маленькие грудки на ветке абрикоса, на белой ветке с острыми розоватыми почками, обласканными свежим утренним лучом, в моем саду, за моим окном. Какое чудесное утро! Какое блаженство думать о том, что будешь жить, что живешь этим днем! Я встаю, я расправляю мои старые руки, в которых я чувствую славную усталость после ожесточенной работы. Последние две недели мои подмастерья и я, чтобы искупить невольное безделье, взвивали стружки под самые небеса, и дерево у нас пело на все голоса. К сожалению, наш рабочий голод прожорливее, чем аппетит заказчиков. Никто ничего не покупает, и еще того меньше торопятся платить по старым заказам; у всех мошна истощена; нет больше крови в кошельках; но есть еще в наших руках и полях; земля хороша, та, из которой я сотворен и на которой живу (это одна и та же). «Молитвой и трудом станешь королем». Все они короли, люди нашей земли, или станут ими понемногу, честное слово, ей-богу, потому что я слышу, сегодня с утра, как шумят мельницы на реке, как кузнечный мех скрипит невдалеке, на наковальнях молотки звенят веселым плясом, на досках резаки рубят кости с мясом, как лошадь фыркает и пьет, как сапожник постукивает и поет, грохот колес на дороге, стук башмаков многоногий, щелканье бичей, трескотню прохожих, гомон голосов, звон колоколов – словом, дыхание города на работе, в трудовом поте: «Отче наш, мы месим себе хлеб насущный, пока ты нам его дашь: так оно верней…» А над моей головой – ясное небо весны голубой, где проносятся белые облака, горячее солнце и свежесть ветерка.
И словно… воскресает молодость! Она стремит ко мне полет из глубины времен и в старом сердце, в том, что ждет, опять гнездо былое вьет. Милая беглянка, как ее любишь, когда она вернется вновь! Куда больше, куда лучше, чем в первый день, эта любовь…
Тут, я слышу, скрипит флюгарка на крыше, и моя старуха резким голосом кричит кому-то что-то, быть может, мне. (Мне слушать неохота.) Но вспугнутая молодость упорхнула. Черт бы побрал флюгарку… А она вне себя (я говорю про мою старуху) спускается ко мне, и у меня возле барабанной перепонки раздается голос звонкий: