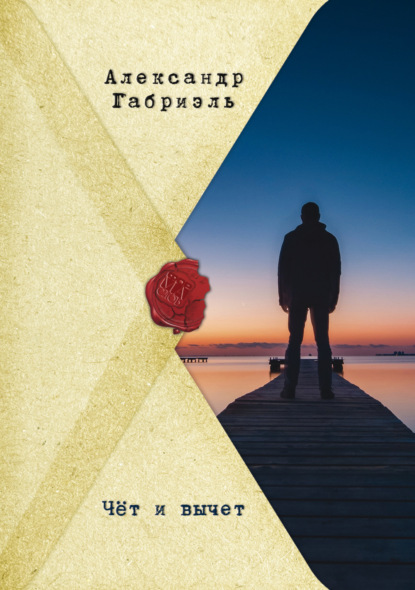По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чёт и вычет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, веря в неосознанное чудо,
мы различали в каждом дне покуда
не девушек, а яблони в цвету.
Народ был прост, без лишних фанаберий;
не воздавалось каждому по вере.
Гудок завода, шепоток струны…
Евреев не любили. Впрочем, это
почти любого времени примета.
Как, впрочем, и почти любой страны.
Шкворчала незатейливая пища,
на класс глядела Маркса бородища,
а дом родной был тесен, словно клеть.
Он был открыт и смеху, и простуде,
и старились вблизи родные люди,
которым лучше б вовсе не стареть.
И, жив едва в вождистской ахинее,
плыл воздух… Он закончится позднее,
быстрее, чем возможности рубля.
Зато, не зная здравиц и приказа,
жила любовь. Трагична, большеглаза…
Доронина. Плющиха. Тополя.
70-е. Фрагмент с попугаем
Было лето жесточе, чем к Цезарю Брут:
минский август скорей походил на Бейрут
и деревьям обугливал ветки.
И жара миражами качала дома,
и сходила с ума, и сводила с ума
от соседки по лестничной клетке.
И с огнем, получившим прописку в глазах,
мы швыряли вещички в раздутый рюкзак:
майки, плавки, потертые книги…
Наконец дождались мы, с жарой совладав,
и вобрал нас в себя неохотно состав,
в Симферополь ползущий из Риги.
Всюду – курица, яйца, батон, самогон,
звуки музыки всласть наполняли вагон:
«Песняры», Магомаев и Верди…
А в соседях – прибалт из местечка Тракай,
чьим попутчиком был небольшой попугай,
прозябающий в клетке на жерди.
А в соседнем купе слышен «ох!» был и «ах!»,
даже воздух вокруг знойной страстью пропах,
словно был там с Рахилью Иаков.
Там друг друга любили взахлеб, допьяна,
а ведь были-то, в принципе, муж и жена —
но из двух независимых браков.
А другой пассажир, лейтенант из ментов,
был по пьяни за мелочь цепляться готов —
вот ко всем и цеплялся, му
ило.
Чай был просто нагретой водой с сахарком;
не предложишь такой ни в райком, ни в обком,
а для нас – как для плебса – сходило.
Поезд двигался к югу, как гибкий варан,
пшенной кашей давился вагон-ресторан,
мух гуденье, немытые миски…
И – обратно, в купе, в неродную среду,
где беззвучным комочком грустил какаду,
наклоняя свой профиль семитский.
1990
Не подпадает под титул «Вехи»
год девяностый в двадцатом веке.
В усталых душах – темно и гадко.
Год безнадеги и год упадка.
Мы в нем не люди, а биомасса.
Эмблемы «Пумы» и «Адидаса» —
везде. И рожею хмурясь сытой,
грядет хозяин с бейсбольной битой.
Надежды – в луже, судьба – в утиле,
в подъезде запах болотной гнили.
У наступившей асталависты
понуро морщится лоб пятнистый.
И фарш, и маслице – по талонам.
Соседка Танька торгует лоном
не по призванью, не для потехи —
копейки платят в библиотеке.
На стылых рынках в кассетном плеске —
«Кар-мэн», Добрынин и Анне Вески.
У жвачки траченной – вкус стрихнина.
Всеобщий гомон. Гуляй, рванина!
Помойка. Шелест грошовых сплетен,
но «Взгляд» покуда не подзапретен.
мы различали в каждом дне покуда
не девушек, а яблони в цвету.
Народ был прост, без лишних фанаберий;
не воздавалось каждому по вере.
Гудок завода, шепоток струны…
Евреев не любили. Впрочем, это
почти любого времени примета.
Как, впрочем, и почти любой страны.
Шкворчала незатейливая пища,
на класс глядела Маркса бородища,
а дом родной был тесен, словно клеть.
Он был открыт и смеху, и простуде,
и старились вблизи родные люди,
которым лучше б вовсе не стареть.
И, жив едва в вождистской ахинее,
плыл воздух… Он закончится позднее,
быстрее, чем возможности рубля.
Зато, не зная здравиц и приказа,
жила любовь. Трагична, большеглаза…
Доронина. Плющиха. Тополя.
70-е. Фрагмент с попугаем
Было лето жесточе, чем к Цезарю Брут:
минский август скорей походил на Бейрут
и деревьям обугливал ветки.
И жара миражами качала дома,
и сходила с ума, и сводила с ума
от соседки по лестничной клетке.
И с огнем, получившим прописку в глазах,
мы швыряли вещички в раздутый рюкзак:
майки, плавки, потертые книги…
Наконец дождались мы, с жарой совладав,
и вобрал нас в себя неохотно состав,
в Симферополь ползущий из Риги.
Всюду – курица, яйца, батон, самогон,
звуки музыки всласть наполняли вагон:
«Песняры», Магомаев и Верди…
А в соседях – прибалт из местечка Тракай,
чьим попутчиком был небольшой попугай,
прозябающий в клетке на жерди.
А в соседнем купе слышен «ох!» был и «ах!»,
даже воздух вокруг знойной страстью пропах,
словно был там с Рахилью Иаков.
Там друг друга любили взахлеб, допьяна,
а ведь были-то, в принципе, муж и жена —
но из двух независимых браков.
А другой пассажир, лейтенант из ментов,
был по пьяни за мелочь цепляться готов —
вот ко всем и цеплялся, му
ило.
Чай был просто нагретой водой с сахарком;
не предложишь такой ни в райком, ни в обком,
а для нас – как для плебса – сходило.
Поезд двигался к югу, как гибкий варан,
пшенной кашей давился вагон-ресторан,
мух гуденье, немытые миски…
И – обратно, в купе, в неродную среду,
где беззвучным комочком грустил какаду,
наклоняя свой профиль семитский.
1990
Не подпадает под титул «Вехи»
год девяностый в двадцатом веке.
В усталых душах – темно и гадко.
Год безнадеги и год упадка.
Мы в нем не люди, а биомасса.
Эмблемы «Пумы» и «Адидаса» —
везде. И рожею хмурясь сытой,
грядет хозяин с бейсбольной битой.
Надежды – в луже, судьба – в утиле,
в подъезде запах болотной гнили.
У наступившей асталависты
понуро морщится лоб пятнистый.
И фарш, и маслице – по талонам.
Соседка Танька торгует лоном
не по призванью, не для потехи —
копейки платят в библиотеке.
На стылых рынках в кассетном плеске —
«Кар-мэн», Добрынин и Анне Вески.
У жвачки траченной – вкус стрихнина.
Всеобщий гомон. Гуляй, рванина!
Помойка. Шелест грошовых сплетен,
но «Взгляд» покуда не подзапретен.