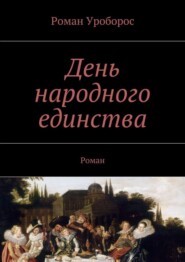По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Заклание-Шарко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
АНАТОЛИЙ. АЛЕКСЕЙ. Ну, за день рождения перед Василичем. Он же нам все организовать поручил. Чтоб прошло все хорошо. Ну, он из кожи вон и лезет.
ЛЕНА. Надеюсь, все будет хорошо. АРЧИ. Надеюсь, все будет ОК?
АНАТОЛИЙ. АЛЕКСЕЙ. Я тоже надеюсь.
Шум резиновый от колес машин безупречных плавно превращается в шум работающего вентилятора.
ВАСЯ. Парни, ну, сколько можно работать на эту всемирную еврейскую мафию? Они там, в Нью-Йорке своем, устали уже деньги считать, которые в Пенсионные фонды вложили.
ФЕДЯ. Леха и так уже час на них не работает, порнуху рассматривает.
ЛЕША. Неправда ваша. Я уже час музыку скачиваю.
ВАСЯ. Какую?
ЛЕША. Цоя. Ленинград. Ну, заодно и порнуху, конечно, смотрю…
ВАСЯ. Ну, вот как ты можешь Ленинград слушать! Похабщина одна. Что ни песня – мат-перемат. Песни ни о чем. Цой вот – другое дело.
ЛЕША. Ты будто матом не ругаешься.
ВАСЯ. Я тихо, в своей компании, на сцену не лезу, книжки, где жрут говно, не печатаю. Общественную нравственность не понижаю. А эти все… Разрешили все это, и теперь я должен телевизор с этим смотреть, книжки с этим читать, радио с этим слушать. Достали.
ФЕДЯ. Вась. А ты не слушай. Ходи в консерваторию. Читай книги девятнадцатого века. Да, и не бухай, пожалуйста! К девкам в общагу каждый день не ходи….
ВАСЯ. Консерватории у нас в городе нет. Книги я почти не читаю. Бухаю я от безысходности и беспросветности русской провинциальной реальности. А к девкам меня влечет неумолимый зов плоти, с которым я ничего не могу поделать.
ЛЕША. Красиво сказал. Это что же за безысходная реальность такая у человека с твоим окладом. А? С поездками заграничными, горными лыжами, дайвингом.
ВАСЯ. Все, замяли. Я же сейчас не о себе, а о нравственности, о культуре…
ЛЕША. Скажи, пожалуйста, Василий, ты ведь считаешь, что если в каком-то литературном произведении есть хотя бы одно нецензурное слово, то, что бы там ни было написано, какой бы позитивный заряд оно не несло, какой бы мастер литературный его не написал, это уже не литература, а хлам. Да? На помойку это нести надо. Да?
ВАСЯ. Ну. Одно слово в контексте если написано, то почему – можно. Это еще литература. Шолохов, например.
ФЕДЯ. А два слова?
ЛЕША. А двадцать два слова?
ФЕДЯ. А триста четырнадцать слов, если в контексте?
ВАСЯ. Так, ладно. Накинулись. Нашли слабое место… я же в литературе не сильно разбираюсь! Я обдумаю это. В понедельник скажу свое мнение.
ЛЕША. ФЕДЯ. Браво, Маэстро! (аплодисменты).
ВАСЯ. (встает, кланяется). Спасибо, спасибо. (Садится). Но в песнях точно нельзя. Песни – святое.
ФЕДЯ. То есть, если твой любимый певец какой-нибудь исполнит матерную песню, его сразу на свалку истории? Совок ты, Вася.
ЛЕША. Не исполнит. Вася ж выбирает только морально устойчивых любимцев.
ФЕДЯ. А свобода творчества, Вась. Ты об этом слышал что-нибудь? Это вот представь: человека прёт, он песню сочинил такую небывалую, весь радостный. Написал её на бумаге. И тут внутренний цензор включается. Говорит – нельзя, дорогой. У тебя целых три матерных слова в песне. Убирай. Человек расстраивается, комкает бумагу и идет водку пить. А человечество лишилось еще одной великой песни. Причем, это только в России. Во всем остальном мире на это давно уже не обращают внимания.
ВАСЯ. У нас тоже уже никто не обращает.
ЛЕША. Зато разговоров много.
Пауза. Четыре стола. Четыре стула. На столах четыре монитора. За тремя столами сидят три молодых человека. Окно. Дверь. Вентилятор. Они сидят лицом к окну, спиной к двери. Мигает неисправная квадратная люстра на потолке. Внизу ковролин, наверху побелка, стены выкрашены в серый цвет.
А в это время кто-то сочиняет песню.
«О, страна рек, озер, лесов диких, зла венценосного приют,
Пою тебе песню особую ветреную, кошмаров ночных полную,
О том, что жить нам осталось час-полчаса, метр-два в сторону;
О том, что не вспомнит никто о телах наших брошенных, обезглавленных;
О том, что враги наши бесшумной походкой в ночь темную уйдут безнаказанно,
И что не отомстит никто им за тела-души наши поруганные;
О том, что зло вихрем черным пойдет по просторам страны моей заревой,
И что никто никогда не остановит его рукой твердой праведной;
О том, что погибель лютая придет в каждый дом во все комнаты,
И что на этом всем время-пространство земное закончится…
А ведь можно было оставить всех жить там по-прежнему —
Нужно было для этого в Бога Единого верить лишь».
«И ни одного нецензурного слова».
ВАСЯ. Я поэтому слушаю только «Машину времени», «Воскресение», советскую эстраду и русскую народную и симфоническую музыку.
ЛЕША. Вася у нас всегда умным был. Знает, как из любого неудобного положения выкрутиться. Ты, правда, кое-что забыл. Забыл, как тебя Ленка Цоя приучила слушать.
ВАСЯ. Да, приучила. Я помню. (Улыбается). Вообще, я музыку, написанную после девяносто первого года, не слушаю. С развалом СССР настоящая музыка в мире кончилась.
ФЕДЯ. Вася у нас не просто умный. Вася у нас – гениальный. Достойный ученик Блэка. Блэк тоже придумал, что после 75 года музыка кончилась. Последняя пластинка – Блэк Сабат «Саботаж». А после нее – всё. Музыка кончилась.
ВАСЯ. Ты меня с Блэком не сравнивай. Блэк иностранную только музыку слушает. А я вообще иностранщину на дух не переношу. Это из-за нее мы страну потеряли…
ЛЕША. Так! Парни, а чего мы под вечер с вами высокоинтеллектуальные беседы завели? Нам они никогда не удавались. Сейчас опять до драки дойдет.
ФЕДЯ. И ты предлагаешь…
ЛЕША. Вась! А чего мы так давно не ходим в общежитие? Может, ты один, без нас ходишь? А как же друзья?
ВАСЯ. Лех, ты чего? Каникулы же были.
ФЕДЯ. Так закончились. Все же приехали.
ВАСЯ. Никто не приехал. Зинка одна. И первокурсниц пол-этажа.