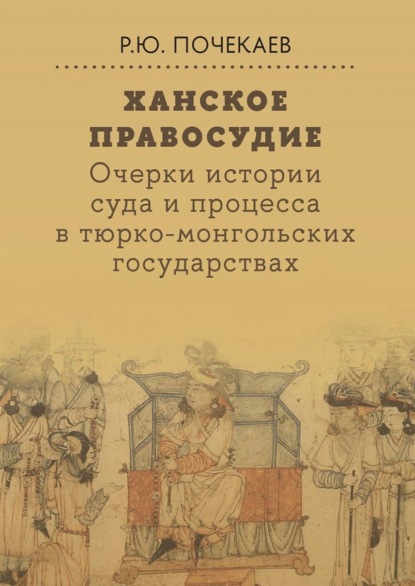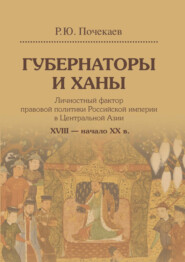По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ханское правосудие. Очерки истории суда и процесса в тюрко-монгольских государствах: От Чингис-хана до начала XX века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так, например, один истец обратился к хану с просьбой о выдаче ему 500 балышей (серебряных слитков), для того чтобы начать дело. Советники Угедэя указали монарху, что этот человек погряз в долгах и указанная сумма целиком пойдет на их погашение, – тогда хан приказал выдать ему 1 тыс. балышей, из которых половина должна была пойти на выплату долга, а вторая – на развитие дела [Джувейни, 2004, с. 141; Рашид ад-Дин, 1960, с. 51]. Несмотря на щедрость Угедэя, нельзя не обратить внимания на то, что в данном разбирательстве проявлялся интерес к личности и «кредитной истории» истца – пусть даже не самим ханом-судьей, а его советниками.
В другом разбирательстве участвовал купец, который трижды за три года получал от Угедэя по 500 балышей и каждый год приходил за новым займом, приводя «не заслуживающие внимания доводы». На третий год битикчи (писцы) по поручению хана провели расследование и выяснили, что купец не вкладывал деньги в дело, а тратил их на путешествия и питание. Как великодушный монарх, Угедэй простил недобросовестного должника, поручив лишь внушить ему, чтобы в дальнейшем он так не поступал [Джувейни, 2004, с. 141–142; Рашид ад-Дин, 1960, с. 52]. Между тем весьма любопытно, что именно на третий год хан поручил своим чиновникам провести расследование деятельности купца. Дело в том, что, согласно положению, включенному арабским историком ал-Макризи в состав Великой Ясы Чингис-хана, «кто возьмет товар и обанкрутится, потом опять возьмет товар и опять обанкрутится, потом опять возьмет товар и опять обанкрутится, того предать смерти после третьего раза» (цит. по: [Вернадский, 1999, с. 132]). Как видим, купец в полной мере подпадал под действие этого правила. А поскольку в соответствии с рекомендацией Елюя Чуцая все смертные приговоры должны были утверждаться лично ханом, Угедэй и приказал установить обстоятельства дела – и, согласно персидским историкам, не нашел оснований для смертной казни.
Еще один казус связан с деятельностью в Монгольской империи иностранных торговцев, которые, пользуясь неопытностью многих подданных Угедэя в товарно-денежных операциях, безбожно заламывали цены на свои товары, причем нередко даже сначала получали деньги, а лишь потом поставляли товар, не отличавшийся при этом высоким качеством. Когда чиновники Угедэя представили ему сведения о подобной практике, он приказал продолжать оплачивать такие товары по повышенным ценам, сказав при этом битикчиям весьма примечательную фразу: «Сделки с казной выгодны купцам при [получении] лишнего, так как у них наверняка есть расходы на вас, битикчиев. Это я оплачиваю ваш каравай [хлеба], чтобы они не ушли от нашего величества с убытком» [Джувейни, 2004, с. 144–145; Рашид ад-Дин, 1960, с. 54]. Безусловно, хан знал, о чем говорил, поскольку чиновники в Монгольской империи и впоследствии в государствах Чингисидов в основном жили именно за счет подношений («сахуа»), которые в их глазах являлись вознаграждением за работу (своего рода сбором или пошлиной; см. об этом подробнее: [Почекаев, 2015, с. 256–265]), а в глазах тех, кто имел с ними дело, конечно же, взяткой. Например, Сюй Тин весьма неодобрительно описывал подобную практику: «Пусть [у судящихся] и имеются хорошие связи, но все равно в судебных делах используется сахуа: даже сообщив [свое дело] перед главой татар, все равно [без сахуа] в итоге не дадут решения и уйдешь [ни с чем]» [Золотая Орда…, 2009, с. 43].
В другом казусе Угедэй за преподнесенную ему «шапку персидского образца», будучи в состоянии опьянения (впрочем, обычном для него, как известно из источников), приказал выплатить продавцу 200 балышей. По этому поводу даже была составлена расписка, которую чиновники, однако, не удостоверили печатью-тамгой, поскольку опасались, что хан принял такое решение спьяну. На следующий день, узнав, что продавец денег так и не получил, хан велел выплатить ему уже 300 балышей, но чиновники снова поступили так же; и эта история продолжалась, пока сумма не дошла до 600 балышей. В результате хан сурово отчитал чрезмерно ответственных чиновников, приказав выплатить оговоренную сумму [Джувейни, 2004, с. 145–146; Рашид ад-Дин, 1960, с. 54–55]. Однако нельзя не обратить в данном случае внимание на действие принципа, который и сегодня широко применяется в частноправовых отношениях: недействительность сделки, заключенной лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Некоторые торговцы, являясь своего рода «компаньонами» монгольских ханов и других членов рода Чингисидов, в случае неисполнения обязательств привлекались к суду непосредственно самими представителями правящего рода. Так, один уртак (торговец, ведший дела на деньги казны) не выплатил полагающуюся хану долю прибыли, но сказал его чиновникам, что отдал ее якобы лично в руки Угедэю. Его доставили во дворец, однако, отвечая на вопрос хана, он не мог припомнить детали и свидетелей этого события. Хан, уличивши его, тем не менее решил не наказать, а «перевоспитать» его: когда все уртаки пришли с товарами к ханским чиновникам, он велел не принимать товары у недобросовестного должника, а когда тот выразил раскаяние, велел все же купить у него товары по высокой цене [Джувейни, 2004, с. 153–154; Рашид ад-Дин, 1960, с. 58–59]. В данном казусе обращает на себя внимание использование для установления ложности показаний ответчика очной ставки, участником которой стал, что примечательно, сам хан.
Пользовались щедростью Угедэя и лица, чьи долги не были связаны с торговлей, которой хан так покровительствовал. Например, жители китайского города Тайминфу просили либо простить им долг в размере 8 тыс. балышей, либо позволить выплатить его в рассрочку, заявляя, что в противном случае им грозит полное разорение. На это хан пообещал возместить долги из казны, как только будут представлены документы или показания самих должников. Правда, в данном случае персы Джувейни и Рашид ад-Дин не упустили случая покритиковать «неверных» китайцев, которые, воспользовавшись этой возможностью, не только были освобождены от уплаты долга, но еще и заработали почти столько же, поскольку нередко по предварительному сговору один выдавал себя за заимодавца, а другой – за должника, при этом оба не являлись ни тем, ни другим [Джувейни, 2004, с. 142; Рашид ад-Дин, 1960, с. 52]. Тем не менее своим решением, пусть и обременительным для казны, Угедэй продемонстрировал, что в равной степени учитывает интересы своих и монгольских, и китайских подданных. В процессуальном же отношении интересно отметить, что доказательствами в подобных случаях могли являться как документы (расписки), так и устные показания участников разбирательства.
Другие казусы были связаны уже не с частноправовыми (в основном торговыми), а с публично-правовыми отношениями, преимущественно относящимися к сфере преступлений и наказаний. И в этих случаях Угедэй не упускал возможности проявить свое великодушие, позаботившись одновременно о подкреплении собственных решений принципами права и процесса.
Одним из известных и периодически используемых исследователями примеров суда Угедэя является история с мусульманином, который совершал омовение и сидел в воде, когда мимо проезжали Угедэй со своим старшим братом Чагатаем (см., например: [Юрченко, 2002, с. 168–171]). Последний вошел в историю как человек высокой принципиальности в соблюдении законов и заветов своего отца Чингис-хана, поэтому, увидев, что мусульманин нарушает запрет мыться и стирать одежду в проточной воде, установленный для всех подданных империи, потребовал его казни. Однако Угедэй выручил нарушителя, убедив брата, что тот не моется, а лишь ищет серебряный балыш, оброненный им в воду [Джувейни, 2004, с. 137–138; Рашид ад-Дин, 1960, с. 49]. Этот казус весьма показателен не только тем, что Угедэй взял под защиту своего немонгольского подданного, но еще и тем, что, вероятно, благодаря данному решению в монгольской правовой и процессуальной практике был заложен принцип освобождения от ответственности того, кто совершил правонарушение по незнанию. Актуальность этого принципа нашла отражение также в «Юань ши»: уже в 1230 г. Угедэй по рекомендации Елюя Чуцая помиловал (по сути, объявив амнистию) многочисленных заключенных, которые попадали в тюрьму, случайно и по незнанию нарушив запреты, установленные монгольскими властями [Мункуев, 1965, с. 189].
Другой пример, на наш взгляд, представляет еще больший интерес: один кипчак (половец) обвинил мусульманина в том, что тот зарезал барана по исламскому обычаю, а не по правилам, установленным монгольскими властями. Однако на следствии выяснилось, что мусульманин допустил это нарушение в своем доме, при закрытых дверях, тогда как кипчак, чтобы выдвинуть обвинение, забрался на крышу этого дома и заглянул внутрь. В результате Угедэй принял решение оправдать мусульманина, а кипчака приказал казнить [Джувейни, 2004, с. 139; Рашид ад-Дин, 1960, с. 49–50]. По нашему мнению, именно данным прецедентом был закреплен один из главных принципов регулирования правоотношений в Монгольской империи, населенной представителями различных народов, культур, религий и укладов жизни: власти не вмешивались в частную жизнь подданных и не пытались распространять на них имперское законодательство, пока его соблюдение или несоблюдение не представляло угрозы либо не являлось прямым оскорблением для государства или самого хана и членов его рода. Именно этот принцип сочетания норм имперского права и национальных или региональных правовых систем обусловил многовековое владычество Чингисидов в различных государствах Евразии.
Принципы религиозной терпимости, которой отличались потомки Чингис-хана, также нашли отражение в ряде судебных дел, разобранных Угедэем.
Один араб (в трактовке персидских авторов, естественно, отступивший от мусульманской веры!) пришел к хану, заявив, что видел во сне Чингис-хана, якобы повелевшего своему сыну устроить гонения против мусульман. На это хан задал коварный вопрос, сам ли Чингис-хан ему это сказал или через переводчика. И получил ответ, что араб услышал эти слова лично от Чингис-хана. Выяснив, что араб не знает монгольского, Угедэй приказал его казнить, объяснив это тем, что его отец не владел никаким языком, кроме своего родного [Джувейни, 2004, с. 154; Рашид ад-Дин, 1960, с. 50–51]. Помимо сурового наказания за разжигание межрелигиозной розни в империи, этот казус интересен также тем, что Угедэй понимал необходимость привлечения переводчика в правозначимых ситуациях. Изучение судебного опыта, в частности, Золотой Орды убеждает нас, что и там участие переводчиков в процессе было явлением достаточно распространенным и четко регламентируемым.
Другой случай, связанный с проблемой вероисповедания, казалось бы, имеет отношение скорее к частноправовой сфере: уйгурский эмир обвинил некоего мусульманина в том, что тот взял у него в долг 4 балыша, которые не отдает, и потребовал для него публичного телесного наказания – нанесения 100 ударов палками по голой спине на базаре. Однако в рамках разбирательства выяснилось, что сам заимодавец притеснял должника, да еще и требовал у него отречься от ислама. В результате Угедэй оправдал и даже наградил должника-мусульманина, а уйгуру приказал дать на базаре 100 палок [Джувейни, 2004, с. 153; Рашид ад-Дин, 1960, с. 58]. Помимо религиозных разногласий, сурово каравшихся монгольскими правителями, в данном случае обращает на себя внимание такой состав правонарушения, как злоупотребление заимодавца своей властью над зависимым от него должником. Симптоматично также, что уйгур понес именно то наказание, которого сам требовал для мусульманина. В данном случае налицо действие древнего принципа (известного еще по Законам Хаммурапи) наказания за оговор: лжесвидетель нес ту же кару, какую по его замыслу должен был понести оклеветанный им.
Не менее интересны и, казалось бы, «бытовые» уголовные дела – кражи, правда случившиеся в ханском дворце.
Пояс Угедэя, из которого выпал драгоценный камень, был передан для ремонта золотых дел мастеру, откладывавшему под разными отговорками его возвращение ханским слугам. Наконец, к ювелиру прислали пристава с требованием вернуть пояс, и он признался, что продал пояс, после чего был связан и доставлен на ханский суд. Угедэй, как и в других случаях, признал тяжесть этого преступления, но нашел оправдание в бедности самого преступника и приказал выдать ему деньги для покрытия долгов с внушением не поступать так впредь [Джувейни, 2004, с. 151; Рашид ад-Дин, 1960, с. 57–58]. Казус интересен тем, что здесь впервые фигурирует пристав – своего рода дознаватель, собирающий доказательства вины подозреваемого и ответственный за его доставку в суд. По-видимому, подобные функции отводились и чиновникам, назначавшимся судьями для расследования дел, окончательное решение по которым выносил хан Монгольской империи[24 - См. подробнее § 6, в котором характеризуется статус «великого судьи» Мункесар-нойона.].
Другое преступление против ханского имущества оказалось еще более дерзким. Во время пира в ханской ставке, когда все опьянели, вор украл драгоценный золотой кубок. Не начиная следствия, Угедэй велел объявить, что пощадит того, кто взял его, если тот добровольно вернет похищенное. В результате на следующий день вор вернул кубок и в ответ на вопрос о причинах, побудивших его совершить преступление, заявил, что хотел продемонстрировать хану ненадежность его стражи. Естественно, и в этом случае хан великодушно простил похитителя [Джувейни, 2004, с. 155; Рашид ад-Дин, 1960, с. 58]. В данном казусе интересно то, что основанием для оправдания послужила добровольная явка с повинной. Подобные случаи помилования преступников известны и в русско-ордынских отношениях: так, в 1337 г. тверской князь Александр Михайлович, десять лет скрывавшийся от ханского гнева, сам явился к хану Узбеку, и тот простил ему убийство ханского посла в Твери в 1327 г. и даже вернул тверской престол [ПСРЛ, т. XV, 2000, стб. 48].
Еще один случай, пожалуй, более других соответствует типу назидательных рассказов с «кочующим сюжетом». На ханский суд были доставлены три преступника, которых приговорили к казни. Однако к ханскому великодушию прибегла женщина, оказавшаяся супругой одного, матерью другого и сестрой третьего из приговоренных. Когда хан предложил ей выбрать одного из них, которого он мог бы пощадить, женщина выбрала брата, объяснив, что другие мужья и сыновья у нее еще могут быть. В результате хан пощадил всех троих [Джувейни, 2004, с. 155]. Подобные сюжеты встречались и в более ранней восточной нарративной традиции, чем рассказ Джувейни, и в русских былинах (например, «Авдотья-Рязаночка»). Однако мы не можем однозначно отвергать данный рассказ как полностью вымышленный, поскольку благодаря русским путешественникам по Монголии известно, что право женщин просить правителей-судей о снисхождении к виновным родичам существовало там и в гораздо более поздние периоды. Например, сибирский чиновник и востоковед А.В. Игумнов, несколько раз побывавший у монголов в конце XVIII – начале XIX в., писал: «Если женщина придет к князю и будет просить об освобождении ее или кого из ближних от положенного наказания, то из уважения к сему полу небольшие наказания прощаются, а большие уменьшаются вполовину» [Игумнов, 1819, с. 113].
Завершая анализ судебных дел, разбиравшихся Угедэем, по сведениям персидских придворных историков, обратимся к рассказу, в котором монарх фигурирует (как отмечают сами же Джувейни и Рашид ад-Дин) не как великодушный правитель, а как строгий судья, беспощадно карающий за попытки нарушить ханскую волю. В одном монгольском племени, не пожелавшем выдавать своих дочерей замуж на сторону по воле хана, решили уклониться от исполнения ханского повеления, помолвив их или фиктивно выдав замуж за своих же соплеменников. Хан, узнав об этом, повелел провести расследование, а затем, рассмотрев дело, издал ясу, согласно которой часть девушек велел забрать в гарем, часть раздал своим приближенным, а остальных – прочим лицам, находившимся в ставке, в том числе и иноземцам [Джувейни, 2004, с. 161–162; Рашид ад-Дин, 1960, с. 63–64]. Казус интересен, во-первых, с процессуальной точки зрения: упоминается следствие по делу, а также закрепление ханского приговора ясой (это опровергает мнение о том, что в Монгольской империи действовала только одна Великая Яса Чингис-хана). Во-вторых, весьма показательно, что если в других казусах Угедэй демонстрировал великодушие по отношению к своим новым подданным немонгольского происхождения – китайцам, персам, тюркам Средней Азии, то в данном случае он подверг суровому наказанию «свое» же монгольское племя, тем самым показав, что его правосудие равно для всех и что для него не важна этническая принадлежность не подчинившихся его приказам.
В заключение отметим, что активная судебная деятельность Угедэя, заложившая базовые принципы ханского правосудия в Монгольской империи, стала вполне логичным элементом его государственной деятельности в целом. Именно при этом монархе были созданы основы централизованной системы управления с разделением властных полномочий между военными и гражданскими чиновниками [Бичурин, 2005, с. 119; Мункуев, 1965, с. 73–74], стимулировалось развитие товарно-денежных отношений [Петров, Белтенов, 2015], было упорядочено налогообложение с кочевых и оседлых подданных [История…, 2011, с. 65; Мункуев, 1965, с. 77–79], активно шел процесс трансформации обычного права кочевых племен Евразии в четкую систему имперского законодательства [Почекаев, 2022б, с. 17–28]. Значение деятельности наследника Чингис-хана в судебной сфере нашло отражение даже в заглавии одного из разделов «Сборника летописей», посвященных его правлению: Рашид ад-Дин, наряду с другими его достижениями, упоминает «о хороших приговорах, кои он давал» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 7] (см. также: [Скрынникова, 2002, с. 170]). Тот факт, что сам Угедэй придавал большое значение своей судебной деятельности, подтверждает приписываемое ему изречение в «Сокровенном сказании» – монгольской исторической хронике, которая, как считается, была составлена около 1240 г., т. е. ближе к концу его правления. В речи, служащей своеобразным подведением итогов его правления, Угедэй среди своих «упущений и пороков» приводит пример неправоты в судебной сфере: «Вы спросите затем, что за вина такая извести, как я извел тайно Дохолху. Да, это было тяжкое преступление погубить Дохолху, который всегда шел впереди всех пред очами своего государя, моего родителя-хана. Кому же теперь предварять всех, указуя путь, на глазах моих? Признаю вину свою в том, что по неразумной мести погубил человека, который пред очами хана-родителя опережал всех в ревностном исполнении Правды-Торе» [Козин, 1941, с. 199].
В более поздней монгольской историографии (XVII – начало XX в.) образ Угедэя существенно трансформировался. Прежде всего, он перестал характеризоваться как идеальный правитель, наделенный многочисленными достоинствами: ведь историографы этого времени составляли свои труды при дворах монгольских ханов – потомков Толуя, отнявших власть у семейства Угедэя, и им было важно подчеркнуть предопределенность перехода власти в империи к другой ветви Чингисидов [Базарова, 2006, с. 104–105]. В трудах буддийских монахов-историков гораздо больше внимания уделяется установлению Угедэем контактов с тибетскими духовными лидерами – в частности, с Сакья-пандитой, который, по преданию, излечил хана от болезни ног, тем самым поспособствовав формированию им политики покровительства буддизму [Бира, 1978, с. 197; Цендина, 2007, с. 29, 118–119, 166]. В светской же монгольской историографии, представители которой во многом опирались на традиции, заложенные в «Юань ши», больше говорится, во-первых, о законодательной деятельности Угедэя, а во-вторых, о существенной роли в этой деятельности его советника и министра Елюя Чуцая [Бира, 1978, с. 113; Цендина, 2007, с. 168–170, 179, 216, 226].
Тем не менее, как представляется, проанализированные в рамках настоящего исследования сведения дают основание высоко оценивать заслуги хана Угедэя в формировании системы монгольского имперского правосудия и, без сомнения, считать его одним из важнейших реформаторов на начальном этапе становления этой системы. Неудивительно, что заложенные Угедэем принципы ханского правосудия и имперской судебной системы впоследствии применялись как его преемниками на троне Монгольской империи, так и в государствах Чингисидов, позднее выделившихся из ее состава.
Часть вторая
Ханское правосудие в действии
Итак, при Чингис-хане и его преемнике Угедэе были заложены исходные принципы организации судебной деятельности, основы статуса участников процесса и механизмы принятия решений. В дальнейшем потомки Чингис-хана на троне и Монгольской империи, и государств – ее преемников применяли эту систему, периодически адаптируя ее к разным условиям и не в последнюю очередь к собственным нуждам. Вторая часть нашего исследования посвящена анализу развития системы ханского правосудия на протяжении нескольких веков в различных тюрко-монгольских государствах. Учитывая разнообразие дел, которые приходилось разрешать правителям или назначенным ими судьям, мы сочли целесообразным разбить данную часть книги на ряд тематических глав, каждая из которых посвящена специфическим чертам суда и процесса в государствах Чингисидов и их преемников.
Глава I
Политические процессы
Только что сформированная система ханского правосудия уже к середине XIII в. столкнулась с первым вызовом, связанным с началом борьбы за власть и влияние в Монгольской империи между потомками Чингис-хана. Стремясь расправиться со своими политическими противниками, правители Чингисиды старались обставить эту расправу не как личную месть, а как законное наказание мятежников. В результате с 1240-х годов в Монгольской империи и ее улусах прошла целая серия «политических процессов», т. е. судебных дел, целью которых было избавление правителей от политических соперников. При анализе таких разбирательств наиболее важно определить, насколько они соответствовали базовым принципам суда и процесса, установленным Чингис-ханом и его ближайшими преемниками, и в какой степени допускали возможность злоупотреблений со стороны судей для достижения вышеуказанных целей.
§ 5. Дело Фатимы-хатун
Одним из первых «политических процессов» в Монгольской империи стал суд над Фатимой-хатун в 1246 г.[25 - Примерно в то же время был осужден и казнен Тэмугэ-отчигин, младший брат Чингис-хана, пытавшийся в 1242 г. захватить престол Монгольской империи, однако его дело уже было детально проанализировано нами [Почекаев, 2017б, с. 57–61].] Источники сохранили достаточно подробные сведения об этом деле, что позволяет предпринять попытку реконструкции некоторых элементов процесса на основе монгольского имперского права.
Фатима, по происхождению таджичка или персиянка родом из Мешхеда, попала в плен к монголам после захвата этого города. Оказавшись в столице Монгольской империи Каракоруме, она стала зарабатывать на жизнь, по одним сведениям, сводничеством, по другим – даже проституцией [Джувейни, 2004, с. 168–169] (см. также: [Баабар, 2010, с. 44; Мэн, 2008, с. 40]). Об обстоятельствах, при которых Фатима попала ко двору Туракины, супруги хана Угедэя и регентши Монгольской империи после его смерти (1241–1246), источники не сообщают, отмечая лишь, что она пользовалась большим влиянием на ханшу. Ата-Малик Джувейни намекает, что ей были известны «самые глубокие тайны и строжайшие секреты», что и объясняет ее значительность при дворе [Джувейни, 2004, с. 169]. Согласно имперским хроникам, именно под влиянием Фатимы Туракина начала репрессии против видных сановников своего супруга – в частности, ханского секретаря Чинкая и хорезмийского наместника Махмуда Ялавача, места которых заняли близкие к Фатиме лица – купец Абд ар-Рахман и др. [Там же, с. 166–167; Рашид ад-Дин, 1960, с. 115]. Статус Фатимы, впрочем, был достаточно неопределенным, и нет никаких оснований считать ее «главным везиром» или «высшим советником» Туракины, как это делает, например, турецкая исследовательница Б. Учок [Учок, 1982, с. 11] (см. также: [Де Никола, 2023, с. 92]).
Провозглашение новым ханом Монгольской империи Гуюка, сына Угедэя и Туракины, изменило расстановку политических сил, и влияние как самой регентши, так и ее приближенных оказалось существенно подорванным. Одним из первых деяний нового монарха стал арест Фатимы, который он совершил, несмотря на протесты своей матери, до последнего пытавшейся спасти свою фаворитку. Последовавшая же вскоре смерть ханши Туракины окончательно сделала Фатиму-хатун беззащитной перед ее врагами.
Сюжет с судом над Фатимой был детально изучен болгарским исследователем К. Голевым, который, подробно проанализировав в недавно вышедшей статье сведения источников, пришел к вполне обоснованному выводу о том, что этот суд являлся в первую очередь «политическим процессом», актом расправы нового монарха с кланом его противников при дворе [Golev, 2017]. Собственно, это и обусловило анализ суда автором статьи именно как политического события. Нас же интересуют прежде всего сведения процессуального характера, изучение которых не входило в задачу болгарского исследователя. Соответственно, ниже мы проанализируем сведения источников, касающиеся разных стадий «дела» Фатимы-хатун, и попытаемся выявить элементы судебного процесса в Монгольской империи – как типичные для большинства дел, так и особенные, нашедшие отражение в рамках данного разбирательства.
Основанием для привлечения Фатимы к суду стало обвинение в колдовстве, выдвинутое неким Широй, которого Джувейни называет виночерпием Кадака – сановника (атабека) Гуюка, а Рашид ад-Дин – просто «пьяницей и негодяем» [Джувейни, 2004, с. 169; Рашид ад-Дин, 1960, с. 117][26 - У Джувейни Шира также назван Алидом, т. е. потомком халифа Али (двоюродного брата пророка Мухаммада), Рашид ад-Дин же называет его всего лишь «последователем Али», т. е. шиитом, что в глазах правоверных суннитов должно было стать дополнительным штрихом к негативной характеристике этого человека [Джувейни, 2004, с. 169; Рашид ад-Дин, 1960, с. 117].].
Обвинение в колдовстве, в принципе, само по себе было достаточно серьезным обвинением. Так, Вильгельм де Рубрук, побывавший в Монгольской империи в 1253 г., отмечал, что монголы «умерщвляют колдуний… так как считают подобных женщин за отравительниц» [Рубрук, 1997, с. 101]. В уложении династии Юань «Юань дянь-чжан» (1323) имеется ссылка на Ясу, в соответствии с которой «изведение людей с помощью колдовства» тоже карается смертной казнью [Попов, 1906, с. 0152] (см. также: [Березин, 1863, с. 29]). К. Голев при этом отмечает, что речь идет о случаях, когда колдовскими и магическими практиками занимались частные лица, а не специальные служители культа – шаманы и проч. [Golev, 2017, р. 133]. В связи с этим логично предположить, что истоки запрета колдовства следует искать в далеком прошлом – в тех временах, когда древние шаманы и жрецы старались монополизировать данную сферу, мотивируя это тем, что «прочие» не способны «правильно общаться» с высшими силами и своими действиями могут навлечь беду на остальных [Гринин, 2007, с. 147, 150].
Однако в случае с Фатимой речь шла не просто о посягательстве «непосвященной» на сферу, к которой принадлежали исключительно служители культа: она была обвинена в посягательстве на Годана – родного брата хана Гуюка. Первоначально это обвинение выдвинул вышеупомянутый Шира, а затем и от самого Годана было получено сообщение о том, что ему хуже и он винит в своем состоянии именно Фатиму. Вскоре пришло послание о смерти Годана.
Известно, что брат Гуюка, имевший улус в Северном Китае, на границе с Тибетом (современная провинция Гансу), страдал некоей кожной болезнью [История…, 1999, с. 149], которая в свое время стала предлогом для того, чтобы новым ханом избрать не его, а Гуюка [Джувейни, 2004, с. 173] (см. также: [Pochekaev, 2018, р. 9]). Болезнь не привела к его смерти (последние упоминания в источниках о деятельности Годана относятся к 1251–1253 гг.), однако письмо, в котором сообщалось о его кончине, стало веским доказательством в дополнение к показаниям Ширы, и уйгур Чинкай, вернувшийся к власти после воцарения Гуюка, настойчиво предъявлял его для привлечения Фатимы к ответственности. Неудивительно, что хан Гуюк поспешил арестовать фаворитку своей матери. Тем не менее основные следственные действия начались лишь после смерти Туракины, когда уже никто не мог вступиться за Фатиму. Согласно сообщению Джувейни, следствие и суд осуществлял сам Гуюк, что вполне отвечало принципам организации суда в Монгольской империи [Скрынникова, 2002, с. 169–171], отражая при этом и особую важность данного дела – посягательство на видного члена «Золотого рода», ханского брата.
Имея свидетельские показания Ширы и послания как самого Годана, так и о его смерти, представители власти тем не менее старались добиться признания самой Фатимы. Согласно Рашид ад-Дину, она была подвергнута битью палками и пыткам [Рашид ад-Дин, 1960, с. 117]. Джувейни сообщает о монгольских «методах следствия» более подробно: согласно его сообщению, она была обнаженной закована в цепи и в течение долгого времени оставалась без еды и питья, постоянно подвергаясь «насилию, жестокостям и запугиваниям» [Джувейни, 2004, с. 169]. Неудивительно, что после всего этого она готова была признаться в любых преступлениях, в каких бы ее ни обвинили, что и произошло.
Как бы то ни было, признание было получено, и это позволило официально приговорить Фатиму-хатун к смерти. Саму казнь Джувейни и Рашид ад-Дин описывают примерно одинаково [Там же; Рашид ад-Дин, 1960, с. 117]. Обвинение в колдовстве и посягательстве на члена ханского семейства дало властям повод подвергнуть репрессиям родственников и сподвижников Фатимы: многие из них погибли, другие же подверглись менее тяжким наказаниям; при этом достаточным основанием для привлечения к ответственности являлось то, что тот или иной приговоренный «пришел от Гробницы»[27 - То есть из города Мешхеда, родного города Фатимы, в котором располагалась почитаемая мусульманами гробница святого Али Ризы.] [Джувейни, 2004, с. 168, 170].
Любопытно отметить, что суд над Фатимой стал своего рода прецедентом для решения подобных дел в дальнейшем. Джувейни и Рашид ад-Дин сообщают, что вскоре после смерти Гуюк-хана (1248) сам Шира был обвинен в колдовстве против ханского сына Ходжи-огула «и его точно так же бросили в воду, а его жен и детей предали мечу» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 117] (см. также: [Джувейни, 2004, с. 170]). В свою очередь, обвинитель Ширы, некий Али Ходжа, в начале правления хана Мунке (1251–1259) был тоже обвинен в колдовстве, правда, казнили его несколько иным способом: «Менгу-каан приказал бить его слева и справа, пока все тело не оказалось искрошено на мелкие куски», кроме того, «его жены и дети впали в унижение рабства» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 117].
Итак, какие же выводы позволяет нам сделать анализ дела Фатимы-хатун?
Во-первых, на конкретном примере подтверждаются сообщения других источников о том, что колдовство в Монгольской империи преследовалось в уголовном порядке. Наказанием за такое преступление являлась смертная казнь. Если же колдовство было обращено против представителей ханского рода, то казнь приобретала квалифицированный характер, т. е. была особенно жестокой – в нашем случае утопление с предварительными мучениями («зашивание верхних и нижних отверстий»). Кроме того, помимо самого приговоренного, ответственность несли также члены его семьи и другие представители его окружения – либо как сообщники, либо как не сумевшие «отговорить» преступника от его деяния и соответственно либо также приговаривавшиеся к смертной казни, либо несшие иные наказания. Подобный принцип, именуемый в юридической науке «объективным вменением», был характерен для права многих стран Востока, в первую очередь для традиционного китайского права [Кычанов, 1986, с. 85–86], несомненно оказавшего влияние на правовую идеологию Монгольской империи.
Во-вторых, значимость преступления обусловила тот факт, что покушавшегося на члена ханского рода судил сам хан[28 - Впрочем, личное участие хана Гуюка в процессе могло объясняться и отсутствием в его администрации соответствующих чиновников, которые появились несколькими годами позже, – см. следующий параграф.].
В-третьих, при расследовании преступлений использовались различные виды доказательств: устные показания, письменные документы (в нашем случае – послания), наконец, признание самого преступника. Для получения последнего применялись весьма жестокие процессуальные действия – длительное пребывание в цепях, запугивание, унижения, пытки, включая битье палками, и проч.[29 - Любопытно отметить, что в традиционном монгольском праве и процессе (в том числе и в более поздний период, вплоть до начала XX в.) пытки в качестве средства получения доказательств не имели широкого распространения и, по всей видимости, были заимствованы из китайской процессуальной практики (см., например: [Бурдуков, 1969, с. 58]).]
§ 6. Дело о заговоре против хана Мунке
История заговора потомков Чагатая и Угедэя против монгольского хана Мунке, только что вступившего на престол в 1251 г., широко освещена в источниках имперского времени – в частности, в записках Вильгельма де Рубрука, посла французского короля Людовика IX, побывавшего в Монголии в 1252–1253 гг., т. е. «по горячим следам» этих событий, в сочинениях Ата-Малика Джувейни и Рашид ад-Дина, а также в китайской династийной истории «Юань ши». Кроме того, к анализу этого эпизода неоднократно обращались и исследователи, впрочем, в большей степени сосредотачиваясь на его политических аспектах и в особенности последствиях – ведь благодаря подавлению заговора и привлечению к ответственности его участников власть в Монгольской империи практически полностью перешла к потомкам Джучи и Тулуя (см., например: [Митин, 2018, с. 68–70; Романив, 2002, с. 96–99; Allsen, 1987, р. 30–34]).
Подробные сведения о суде над участниками заговора и их последующих наказаниях дают возможность сделать некоторые наблюдения относительно суда и процесса в Монгольской империи середины XIII в. Насколько нам известно, в таком аспекте указанные события анализировала лишь Т.Д. Скрынникова, которая использовала сведения источников и ряд последующих наработок ученых для систематизации сведений о формах судебного процесса, т. е., по сути, о судебных инстанциях, в Монгольской империи рассматриваемого периода [Скрынникова, 2002].
В настоящем исследовании предпринимается попытка провести историко-правовой (историко-процессуальный) анализ процесса 1251–1252 гг.[30 - Следует отметить, что точное время процесса над заговорщиками в источниках не указано, однако сама попытка заговора могла иметь место вскоре после возведения на трон хана Мунке, т. е. в 1251 г., тогда как ряд приговоров был приведен в исполнение и годом позже.], уделив при этом особое внимание роли в нем нойона Мункесара, характеризуемого в источниках как «главный яргучи», т. е. верховный судья[31 - В «Юань ши» он называется «главным среди судей» (дуаньшигуань) [Золотая Орда…, 2009, с. 235]. Ф. Ходоус считает, что Мункесар мог получить судейскую должность уже при Гуюке [Hodous, 2022, р. 332], тем не менее этому противоречат сведения «Юань ши» о постоянной связи не только Мункесара, но и его предков с домом Тулуя, а не Угедэя [Золотая Орда…, 2009, с. 234–235]. Да и первое упоминание Мункесара в качестве яргучи относится именно к событиям исследуемого процесса – вероятно, в связи с предоставлением ему широких полномочий для расследования данного преступления.]. Тем самым, полагаем, можно будет пролить свет на статус чиновника, обладающего таким статусом в Монгольской империи эпохи ее расцвета.
Сначала постараемся охарактеризовать процессуальные особенности разбирательства по делу заговорщиков. Согласно сообщениям Вильгельма де Рубрука, Джувейни и Рашид ад-Дина, заговор организовали Ширэмун, Наку и Карачар, внуки Угедэя [Джувейни, 2004, с. 415–416; Рашид ад-Дин, 1960, с. 133; Рубрук, 1997, с. 132]. В указе хана Мунке, адресованном сыновьям Мункесар-нойона (1253/54 г.), сообщается, что заговор они осуществили вместе с потомками Чагатая [Золотая Орда…, 2009, с. 238]. Согласно гораздо более поздней династийной хронике «История Небесной империи» (представляющей собой «адаптированный» перевод (1639 г.) «Юань ши» на маньчжурский язык), Ширэмун и его родичи-Угедэиды просто-напросто находились под наблюдением ханских чиновников как несогласные с избранием Мунке, тогда как заговор организовал «сын Чахадая Аньцзидай» [История…, 2011, с. 74][32 - Вероятно, имеется в виду Эльджигитай, племянник Чингис-хана, сын его брата Хачиуна, действительно бывший ближайшим союзником потомков Чагатая и Угедэя в противостоянии с семействами Джучи и Тулуя.].
Заговорщики намеревались под предлогом прибытия к новоизбранному хану Мунке с поздравлениями ворваться в его ставку с оружием и убить хана. Поскольку ношение оружия в ханской ставке категорически запрещалось, они спрятали его в потайное дно нескольких телег. По счастливой (для Мунке) случайности оглобля одной телеги треснула, и некий ханский слуга (по одним сведениям – пастух, по другим – ханский телохранитель-кешиктен) заметил оружие. Когда об этом сообщили хану, он направил в лагерь заговорщиков нойона Мункесара, который на сей раз выступал в качестве «вождя эмиров двора», приказав ему схватить всех замысливших покушение. Увидев, что они окружены, заговорщики тут же сдались [Джувейни, 2004, с. 416–419; Рашид ад-Дин, 1960, с. 133–135; История…, 2011, с. 74–75].
Раскрытие заговора явилось основанием для последующего процесса, который, собственно, и составляет предмет нашего рассмотрения. Первым процессуальным действием стал арест подозреваемых, которые были связаны и доставлены в ханскую ставку.
Согласно Рашид ад-Дину, уже на следующий день Мунке лично начал следствие против царевичей во главе с Ширэмуном [Рашид ад-Дин, 1960, с. 135]. Джувейни же сообщает, что «два дня их ни о чем на спрашивали» [Джувейни, 2004, с. 420]. По-видимому, в это время производился опрос свидетелей – слуги ханской ставки, обнаружившего оружие в телеге, военачальников, осуществлявших задержание заговорщиков, и проч. (кроме того, можно предположить, что это ожидание оказывало своего рода психологическое давление на задержанных).