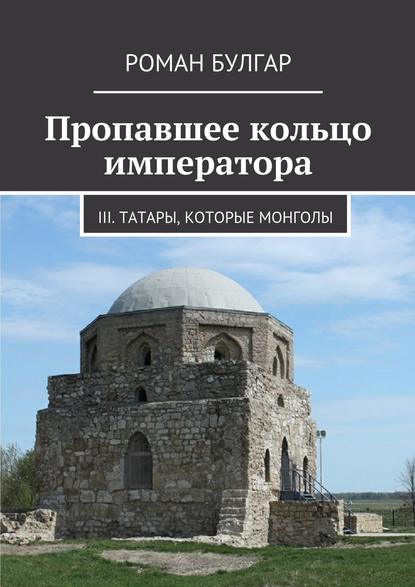По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пропавшее кольцо императора. III. Татары, которые монголы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По пути к летним пастбищам Алан-Гоа с интересом наблюдала красные стены и скалы на фоне темно-синих небес, удивлялась рекам, их «кровавым» водам, густо-густо окрашенным растворенными в них частичками глины. Куда ни посмотри, повсюду травы и кустарники сияли всеми оттенками яркого зеленого нефрита. В пустыне расцветало бесчисленное количество цветов.
– Ох! – подолгу Алан-Гоа могла следить за тем, как под ласкающим дыханием свежего и теплого ветерка низко пригибались к вскормившей их матушке-земле и поднимались, разгибались снежно-белые цветы.
И колыхающиеся синие, голубые, розовые и золотистые лепестки волнами взлетали над каменистым плато, подобно стайке причудливо разукрашенных бабочек, мягко устилали землю ярким ковром.
Убегая от резко навалившейся зимы, торопились. Назад же, к себе домой, возвращались неспешно, давали стадам вволю подкормиться на сочных лугах. Никто не торопился. Степной воздух дышал весной.
– Ох! Ох! – частенько по вечерам темнеющее сине-фиолетовое небо разрывали на части ослепительные вспышки молний, и тогда женщине казалось, что вся земля трепетала и дрожала от перекатывающегося из края в край, многократно повторяющегося эха грома.
Пережившие суровую зиму растения, от жестоко изуродованных и безжалостно обглоданных скотом кустов и пробившейся к свету и теплу жесткой травы пустыни Гоби и до густой травы и ярких цветов в речных долинах и на горных отрогах, казалось, на глазах предавались безудержной оргии жизни.
Порой женщине даже чудилось, что в колеблющемся воздухе явно раздавалось хорошо слышимое шуршание быстрорастущих растений. Они упорно пробивали толстую и плотную земляную корку. Иногда казалось, что трава прямо на глазах выросла до самих колен.
– Хоп! Хоп! – походные кибитки монголов с откинутыми входными пологами плыли по цветущей пустыне, покачивались, колыхались, скрипели и подпрыгивали, двигаясь по безбрежному зеленому морю.
Теплый ветер нес с собой, порывами бросал в лицо манящие запахи. Не часто, но все ж на землю падали сверху плодородные дожди.
И крупные капли с силой вонзались в нее, как тонкие серые копья, временами они превращались в плотные непроницаемые стены.
После таких упоительных дождей природа продолжала свое буйство. От пахучих пряных запахов можно было потерять сознание.
По ночам костры незаметно становились центрами безудержного и безрассудного веселья, и воины, и простые пастухи громко пели задорные песни и сами тут же хохотали.
Кто-то в кругу рассказывал, а потом и сам внимательно выслушивал невероятные истории и легенды…
Возвращаясь к реке Онон, Алан-Гоа ждала одной встречи. Никому она об этом никогда не говорила, но сердце ее всякий раз волновалось.
Среди красных скал и колонн нерукотворных храмов, высеченных безжалостно секущими ливнями и завывающими ветрами из громады камня, тоже красных, как кровь, она с всевозрастающим нетерпением высматривала высокий гранитный холм серо-стального цвета.
На жгуче-синем ослепительной чистоты небе скала напоминала профиль спящего великана, что, должно быть, как-то уснул в давние незапамятные времена и никак не мог проснуться. Темное лицо его, обращенное к ветрам и бурям, неподвижно смотрело в небеса.
В застывшей его вечной позе женщина видела нечто ужасное и даже отвратительное. Эти скалы напоминали дух пустыни, дух неотвратимой судьбы и неизбежной смерти. В голову приходили мысли о том, что эта застывшая каменная глыба, это нечеловеческое создание погружено в вечный сон, который когда-нибудь, время от времени прерывается.
И Оно пробуждается через многие сотни веков и с накопленной внутри себя и не выплеснутой наружу злобой посматривает на мир и, сполна изрыгнув из себя всю свою лютую злость и всю поистине нечеловеческую жестокость, снова погружается в свой сон.
И терпеливо ждет своего часа, того самого момента, когда на земле родится тот, кто соберет в единый кулак всю мощь Великой степи.
И что-то говорило женщине, что она сама будет причастна к этому, что именно из ее лона выйдут те, чьи потомки станут великими ханами над всей необъятной степью. Пока еще это ею самой неосознанное чувство притаилось где-то в самых потаенных уголках ее сознания…
Увлекшийся чтением, Улугбек неуклюже двинул рукавом, зацепил на столике. Оно с грохотом упало на пол, зазвенев, покатилось по полу.
Суюм очнулась от дум, глянула на детей, склонившихся над ученым трактатом, в написание которого и она вложила часть своей души.
А как же иначе, если она сама принимала самое непосредственное участие в устройстве их государства. Если даже не больше того, когда ее брат для сохранения единства державы кинул на заклание, выдав без ее согласия замуж за Махмед-бека, владетельного князя земли Сувар, ярого противника эмира, после чего злейшие враги примирились или, по крайней мере, делали вид, что отныне они живут в мире…
Айша, сидевшая рядом со своим названным братом, не удержалась, прыснула в кулачок, острым локотком ткнула мальчишку в бок, чем привела его в еще большое смущение.
Улугбек густо покраснел, кинул исподлобья взгляд на эмира, но, не заметив на его спокойно-умиротворенном лице ни капельки и ни тени какого-либо осуждения или проявленного недовольства, успокоился, сжал пальцы в кулак и из-за спины показал его своей названной сестре.
За всей этой веселой и забавной суетой, устроенной Айшой и сыном Ахмеда-бека и Насимы, очень внимательно наблюдала та, для кого дороже этих детей на свете никого не существовало. Вдоволь на них обоих налюбовавшись, Суюм снова прикрыла глаза и вызвала перед собой картины давно ушедшего времени…
Глава VI. Рыжий пес
Вдоль берега желто-серой реки, устало прихрамывая, тяжело опираясь на деревянный посох, брел одинокий путник.
По его унылой походке, по всему его внешнему виду читалось, что он сильно устал. Устал от бессмысленных странствований по свету.
Устал он жутко и порой до самого полного омерзения и от самой бессмысленности всей его жизни. Почти пусто было в его котомке, совсем пусто было у него на душе.
Еще накануне он сгрыз последний сухарь. Ставший уже привычным, извечный спутник, голод, подступал, скребясь в слипшемся желудке, но он привычно не обращал на него внимания.
Впереди показалась темная посреди окружающей ее желтой степи гора, и он шел к ней, наверняка зная, что найдет там жилища с людьми.
А там, где люди, там еда и кров над головой. На день, на два-три по вековым законам степного гостеприимства, а потом снова в путь.
Может, ему повезет, и он найдет себе временное пристанище хотя бы до начала следующей весны. Переживет в относительном тепле зиму, суровое дыхание которой еще только-только становится слышно в потянувшихся с полночи заунывных ветрах.
Не успеешь оглянуться, как они, окрепнув, принесут с собой белые хлопья колючего, больно кусающегося снега…
Кинув задумчивый взгляд на реку, странник захотел освежиться перед тем, как отвернет от ее вод. Долго-долго плескался он, находя себе успокоение, тщательно выстирал свою одежду.
Не дожидаясь, пока окончательно не просохнет она под палящим солнцем, полусырую накинул ее на себя.
На невысоком, издалека и вовсе неприметном холме неподвижно застыли два всадника. Напряженно всматривались в расстилающееся внизу бескрайнее море пустынной степи с выцветшей, жухлой травой.
Мохнатые лошадки щипали сухие стебли, недовольные их вкусом встряхивали головами, потом привычно продолжали щипать, наверное, понимая, что лучшего корма в эту пору им уже не найти…
Заметив приближающегося к ним вдоль берега реки путника, воины выждали, дали страннику подойти ближе и только тогда пустили своих верных коней вскачь. Огласили до того молчаливую степь громкими гортанными криками, заранее предупреждая о своем приближении, давая, видно, забредшему в их края незнакомцу столь необходимое время, для того чтобы он насквозь пропитался страхом.
Ловко брошенный умелой рукой аркан с широкой петлей затянулся не на шее хромого, а на его груди, захватив в свои режущие объятия руки чуть пониже плеч. Натягивая волосяную веревку, нукер дернул ее на себя, и путник, не удержавшись на ногах, упал лицом в землю, вдоволь наглотался открытым ртом измельченной пыли, несколько шагов прокатился на брюхе. Вскоре натяжение аркана ослабло, но он так и остался лежать неподвижно, выжидая и не спеша подниматься.
– Кто ты? – лошадиные копыта, нависая над ним, ступили в опасной близости от его лица.
– Я одинокий куст, – не поднимая головы, глухо забормотал калека, – перекати-поле, гонимый своей несчастной судьбой…
Вовсе непривычные к столь витиеватому стилю разговора, степняки недоуменно переглянулись.
– Как твое имя? – один из них, перегнувшись с седла, ловко ткнул незнакомца тупым концом копья, заставив того резко дернуться и развернуть голову в их сторону. – Какого ты роду-племени?
– Зовут меня Атульген. Откуда родом… не знаю.
– Ты беглый раб и тебя ищут? – воин подозрительно прищурился. – Скажи, от кого и куда ты бежишь? – перевалив ногу, ловко соскользнул он с седла на землю и, распахивая на путнике одежду, довольно бесцеремонно обнажил поочередно его плечи, но тамги, указывающей на принадлежность раба тому или иному хозяину, не нашел.
– Я свободный человек! – странник гордо вздернул подбородком, и в его светлых глазах зажглась презрительная улыбка. – Я никому не служу, пес хозяйский! – сгоряча бросил он, негодуя по поводу того, что его почем зря изваляли в пыли, вдоволь заставили наесться земли.
Понимал путник, что нельзя злить воинов, от которых ныне зависит вся его дальнейшая судьба, но в который уже раз, за что потом жестоко себя поругивал, не смог он пересилить свою натуру.
– Ублюдок! – воин наотмашь хлестнул его плеткой и больно ожег вовремя подставленное здоровое плечо. – Ты пожалеешь, что родился!