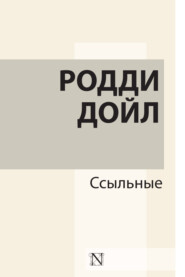По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Падди Кларк ха-ха-ха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Неправильно. Ты – червь. Кто ты?
– Червь, сэр.
– Именно, – сказал Хенно. – Безобр-разие! – и отметил ошибку Лиама в своем журнале.
По пятницам Хеннесси не только пересаживал нас, но еще и порол. Для аппетита, как сам говорил. Это придавало остроту, а то ему рыба в горло не лезла. Одна ошибка – один удар. А ремень он вымачивал в уксусе все летние каникулы.
Следующим был Кевин, за ним Макэвой.
– С-р-е, – бормотал Кевин, – д-и-з-е…
– Так-так…
– м-н-н…
– Безобр-разие! Мистер Макэвой, теперь вы.
Но Иэн Макэвой все еще дрых. Кевин, сидевший с ним за одной партой, позже уверял, что Иэн улыбался во сне.
– Девчонку во сне видит, – прошептал Джеймс О’Киф.
Хенно вскочил и уставился на Иэна Макэвоя, поверх головы Лиама.
– Он уснул, сэр, – сказал Кевин. – Разбужу его?
– Нет, – сказал Хенно и приложил палец к губам, призывая нас к тишине.
Мы заерзали и захихикали. Хенно осторожно подкрался к парте Иэна. Мы наблюдали за учителем – он явно не был настроен на шутки.
– Мис-тер Макэвой!
Ничуть было не смешно; мы и не смеялись. Я почувствовал порыв воздуха, когда рука Хенно взлетела и со всей силы ударила Иэна Макэвоя по шее. Он вскочил и ахнул, потом застонал. Иэна мне видно не было, но я видел лицо Кевина. Он был бледен, губы плотно сжаты.
Мистер Хеннесси предупреждал нас, что пятницы пропускать нельзя. Если кого-то не было в пятницу, он наказывал его в понедельник. И никаких оправданий.
Все парты во всех классах пахли одинаково. Если парта стояла у окна, то на нее падало солнце и она выгорала, становилась светлее. Парты нам поставили новые, а не такие, у которых крышка поднималась, а под ней было место для книжек. Крышки наших парт были привинчены, а внизу была полочка для книг и сумок. Сверху была специальная канавка для ручек и ямка для чернильницы. Можно было толкнуть ручку по столу, и она не падала. Мы делали это только на спор, потому что Хенно терпеть не мог любой шум.
Джеймс О’Киф однажды выпил чернила.
Чтобы вставать, когда велят, приходилось поднимать сиденье, и делать это надо было тихо. Если стучали в дверь и входил учитель, или мистер Финнукейн, наш директор, или отец Молони, мы должны были встать.
– Dia duit[29 - Здравствуйте (ирл.), буквально: благослови вас Бог.].
Хенно поднимал руку ладонью кверху, и по этому знаку мы говорили хором.
Мы сидели за партами попарно. Если сосед спереди выходил к доске или в leithreas[30 - Уборную (ирл.).], то на его ногах можно было заметить красную полосу – след от сиденья.
Пришлось спускаться к родителям. Синдбад ревел и при этом гудел как поезд. И не мог остановиться.
– Утихни, а то разорву тебя на части.
Удивительно, как можно было не слышать этих воплей. Свет в прихожей не горел, хотя они должны были оставить его включенным. Я спустился. Линолеум внизу был ледяной. Прислушался: Синдбад все еще скулил.
Как же я любил втягивать его в неприятности, особенно так – прикидываясь, что помогаю ему.
Родители смотрели фильм про ковбоев, и папка даже не притворялся, что читает газету.
– Фрэнсис плачет.
Мама посмотрела на папу.
– Никак не успокоится.
Снова переглянулись. Ма поднялась, вечность распрямляя поясницу.
– Всю ночь стонет…
– Иди в спальню, Патрик, давай.
Я пошел впереди нее, остановился, где начиналась темнота, – убедиться, что она идет. Дошел до кровати Синдбада.
– Мама идет.
Лучше бы это был папка. Ма ему ничего не сделает, поговорит только, может, даже обнимет. Но меня это не сильно расстроило: пропала всякая охота доставать мелкого, слишком уж я замерз.
– Уже идет, – повторил я Синдбаду.
Так я спасал брата.
Он заскулил чуть громче, мамка как раз распахнула дверь. Я залез под одеяло, где еще сохранялось тепло.
– Ах, что с тобой, Фрэнсис? – спросила она совсем другим голосом, чем говорила «Ну, что с тобой на этот раз?»
– Ноги болят, – сказал Синдбад сквозь слезы.
– Как болят?
– Жутко…
– Обе ноги?
– Ага.
– Одинаково болят?
– Ага.
Мамка гладила Синдбада по щекам, не по ногам.
Другие электронные книги автора Родди Дойл
Ссыльные




 0
0