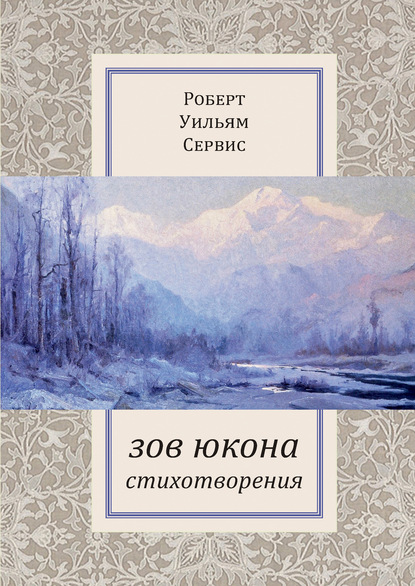По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зов Юкона
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тащился по следу, гнал непоседу – и знал, что кругами бреду.
Полгода мотал, ослаб, устал, простыл, дрожал на ходу.
Все силы растратил, стал туп как дятел, и мысли пошли вразброд:
Довольно гоняться, ведь мне не двадцать, пусть мерзкая тварь живёт.
Глаза с перепугу продрал: он в лачугу запрыгнул – и застил вход.
Я вскинул ствол и в упор навёл на чёрного Демона Зла.
Он дико взвыл – мертвец бы вскочил, – но смерть его нагнала.
И странно: на шкуре ни дыр, ни раны, и кровь совсем не текла.
Вот эдак и кончился Черный Лис, задумка моя сбылась.
Можно чуть-чуть в кружки плеснуть – до света уйду от вас.
Давайте хлебнём в память о том, чья тропка оборвалась».
II
Китти и Айк – подлые твари, как только терпел их Бог.
Ни мертвы, ни живы – всё ждали поживы, забившись в прибрежный лог.
Ночью песни орали и виски жрали, днем дрыхли без задних ног.
Что видишь воочью полярной-то ночью? И вот – всезнайки молчат.
Язык на замке у тех, кто в тоске, у тех, по ком плачет ад,
Кто полон скверной; им жупел серный – последняя из наград.
Не спи, будь чуток, лови ход суток, рассчитывай наперёд.
Им в ум взошло твоё барахло, им срок назначен – восход.
За чудную шкурку – лису-чернобурку – баба на кровь рискнёт.
В логове барса – располагайся, он очень достойный зверь.
Верь волчьим клыкам и медвежьим когтям – не всякий раз, так теперь.
Но шлюхе-бабе с золотыми зубами, улыбке её – не верь!
Кто по алчбе покорился судьбе – законы перешагнул.
Чужак наклюкался допьяна – и сном беспробудным уснул.
И старый, холодный, седой Юкон тело его сглотнул.
Я вскинул ствол и в упор навёл на чёрного Демона Зла.
Он дико взвыл – мертвец бы вскочил, – но смерть его нагнала.
И странно: на шкуре ни дыр, ни раны, и кровь совсем не текла.
III
Судьбы подарок был чёрен, но ярок – не подобрать слова.
У Китти Стервы сдавали нервы и кругом шла голова.
Айк зубами скрипел, и злобой кипел, и сдерживался едва.
Легче добыть, чем поделить – добыча-то ведь одна.
Жадность клокочет, и каждый хочет долю урвать сполна.
И словно псы в закоулке глухом, сцепились муж и жена.
«Шкура моя! – орала она. – Я её добыла!»
«Валили вместе – делить честь по чести! – шипел он. – Ишь, подвела!»
И грызлись в драке, как две собаки из-за гнилого мосла.
Дрались, дрались – не разобрались. И баба стала мечтать:
Что толку драться? Надо податься в Доусон – шкуру продать,
Чёртову шкуру, добытую сдуру – а то добра не видать.
Муж спал, и она улизнула одна – во тьме казалось верней.
Пришпоривал страх, стучало в висках, и сердце билось сильней.
А он притворялся – тихонько поднялся и скрадом пошёл за ней.
Путь непростой: то утёс крутой, то обрыв – под ним глубина.
Он крался сзади, под ноги глядя, впереди тащилась она.
На Севере так: нерассчитанный шаг – и замыслам всем хана.
А снег уж маслился и оседал – попахивало весной.
Как соты мёдом, взялся водой подтаявший лёд речной,
Гнулся, постанывал и трещал, держа напор водяной.
Некуда деться. Будто младенца, шкуру прижав к груди,
Полезла по склону, твердя исступлённо: затеяла – так иди.
И охнула: словно из-под земли, муж возник впереди.
Жена не ревела – окаменела: почуяла смертный час.
Всю гниль и мерзость жизни былой припомнила Китти враз.
А муж зарычал, как раненый пёс, и врезал ей между глаз.
Сотню футов по склону вниз кувырком катилась она.
Уступы, утёсы считала носом, шибанулась в комель бревна.
Зияла внизу во льду полынья; всплеснуло – и тишина.
Птичий гомон весну возвещал – пришла её череда.
Ветви одеты неясным светом и мерцающей корочкой льда.
А вдоль по тропе с добычей в руках спешил человек – в никуда.
Все силы растратил, стал туп как дятел, и мысли пошли вразброд:
Довольно гоняться, ведь мне не двадцать, пусть мерзкая тварь живёт.
Глаза с перепугу продрал: он в лачугу запрыгнул – и застил вход.
IV
Крепко нетрезвый, походкой нерезвой он тащился вдоль бережка.
Не грохнувшись с ног, перейти не мог ни ухаба, ни бугорка.
Крыл чью-то мать, и вставал опять, сделав два-три глотка.
Как загнанный лось измотанный, нёс он плоти больной тюрьму.
Мешая спать старухе-луне, влачился сквозь мрак и тьму.
И много видавшие дикие горы вслед потешались ему.
Полгода мотал, ослаб, устал, простыл, дрожал на ходу.
Все силы растратил, стал туп как дятел, и мысли пошли вразброд:
Довольно гоняться, ведь мне не двадцать, пусть мерзкая тварь живёт.
Глаза с перепугу продрал: он в лачугу запрыгнул – и застил вход.
Я вскинул ствол и в упор навёл на чёрного Демона Зла.
Он дико взвыл – мертвец бы вскочил, – но смерть его нагнала.
И странно: на шкуре ни дыр, ни раны, и кровь совсем не текла.
Вот эдак и кончился Черный Лис, задумка моя сбылась.
Можно чуть-чуть в кружки плеснуть – до света уйду от вас.
Давайте хлебнём в память о том, чья тропка оборвалась».
II
Китти и Айк – подлые твари, как только терпел их Бог.
Ни мертвы, ни живы – всё ждали поживы, забившись в прибрежный лог.
Ночью песни орали и виски жрали, днем дрыхли без задних ног.
Что видишь воочью полярной-то ночью? И вот – всезнайки молчат.
Язык на замке у тех, кто в тоске, у тех, по ком плачет ад,
Кто полон скверной; им жупел серный – последняя из наград.
Не спи, будь чуток, лови ход суток, рассчитывай наперёд.
Им в ум взошло твоё барахло, им срок назначен – восход.
За чудную шкурку – лису-чернобурку – баба на кровь рискнёт.
В логове барса – располагайся, он очень достойный зверь.
Верь волчьим клыкам и медвежьим когтям – не всякий раз, так теперь.
Но шлюхе-бабе с золотыми зубами, улыбке её – не верь!
Кто по алчбе покорился судьбе – законы перешагнул.
Чужак наклюкался допьяна – и сном беспробудным уснул.
И старый, холодный, седой Юкон тело его сглотнул.
Я вскинул ствол и в упор навёл на чёрного Демона Зла.
Он дико взвыл – мертвец бы вскочил, – но смерть его нагнала.
И странно: на шкуре ни дыр, ни раны, и кровь совсем не текла.
III
Судьбы подарок был чёрен, но ярок – не подобрать слова.
У Китти Стервы сдавали нервы и кругом шла голова.
Айк зубами скрипел, и злобой кипел, и сдерживался едва.
Легче добыть, чем поделить – добыча-то ведь одна.
Жадность клокочет, и каждый хочет долю урвать сполна.
И словно псы в закоулке глухом, сцепились муж и жена.
«Шкура моя! – орала она. – Я её добыла!»
«Валили вместе – делить честь по чести! – шипел он. – Ишь, подвела!»
И грызлись в драке, как две собаки из-за гнилого мосла.
Дрались, дрались – не разобрались. И баба стала мечтать:
Что толку драться? Надо податься в Доусон – шкуру продать,
Чёртову шкуру, добытую сдуру – а то добра не видать.
Муж спал, и она улизнула одна – во тьме казалось верней.
Пришпоривал страх, стучало в висках, и сердце билось сильней.
А он притворялся – тихонько поднялся и скрадом пошёл за ней.
Путь непростой: то утёс крутой, то обрыв – под ним глубина.
Он крался сзади, под ноги глядя, впереди тащилась она.
На Севере так: нерассчитанный шаг – и замыслам всем хана.
А снег уж маслился и оседал – попахивало весной.
Как соты мёдом, взялся водой подтаявший лёд речной,
Гнулся, постанывал и трещал, держа напор водяной.
Некуда деться. Будто младенца, шкуру прижав к груди,
Полезла по склону, твердя исступлённо: затеяла – так иди.
И охнула: словно из-под земли, муж возник впереди.
Жена не ревела – окаменела: почуяла смертный час.
Всю гниль и мерзость жизни былой припомнила Китти враз.
А муж зарычал, как раненый пёс, и врезал ей между глаз.
Сотню футов по склону вниз кувырком катилась она.
Уступы, утёсы считала носом, шибанулась в комель бревна.
Зияла внизу во льду полынья; всплеснуло – и тишина.
Птичий гомон весну возвещал – пришла её череда.
Ветви одеты неясным светом и мерцающей корочкой льда.
А вдоль по тропе с добычей в руках спешил человек – в никуда.
Все силы растратил, стал туп как дятел, и мысли пошли вразброд:
Довольно гоняться, ведь мне не двадцать, пусть мерзкая тварь живёт.
Глаза с перепугу продрал: он в лачугу запрыгнул – и застил вход.
IV
Крепко нетрезвый, походкой нерезвой он тащился вдоль бережка.
Не грохнувшись с ног, перейти не мог ни ухаба, ни бугорка.
Крыл чью-то мать, и вставал опять, сделав два-три глотка.
Как загнанный лось измотанный, нёс он плоти больной тюрьму.
Мешая спать старухе-луне, влачился сквозь мрак и тьму.
И много видавшие дикие горы вслед потешались ему.