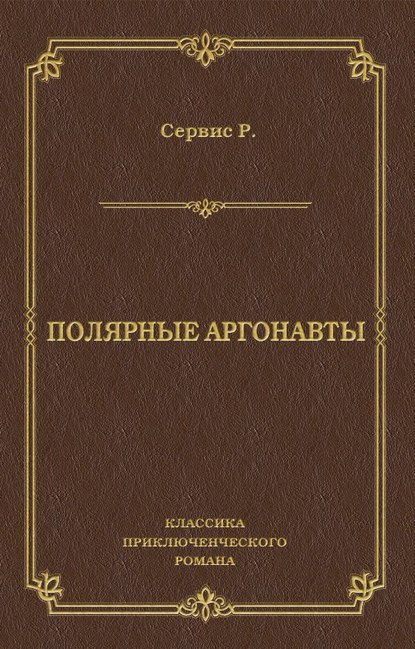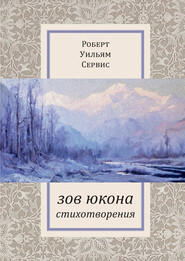По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полярные аргонавты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я увидел, что он нащупал мое слабое место, и, погрозив ему на прощанье, вышел.
В одной из соседних палаток находился ресторан, куда я направился, чтобы выпить чашку кофе. Я расспросил прислуживавшего мне человека, жирного веселого малого, относительно девушки. Да, он знал ее. Она жила вон в той палатке с мадам Винкельштейн. Говорили, что она ужасно убивалась по старику, бедная девочка.
Я поблагодарил его, проглотил свой кофе и направился к палатке. Пола была опущена, но я постучал о парусину, и тотчас же увидел мрачное лицо Мадам. Увидев меня, она сделалась еще мрачнее.
– Что вам нужно? – спросила она.
– Я хочу видеть Берну, – ответил я.
– Это невозможно. Ведь вы же слышите, разве этого недостаточно?
И я действительно услышал очень тихий жалобный звук, исходивший из палатки, что-то среднее между рыданьем и стонами, похожее на плач индейской женщины над покойником, только бесконечно более покорное и тоскливое. Я был потрясен, полон благоговения, неизмеримо грустен.
– Благодарю вас, – сказал я. – Простите. Я не хочу беспокоить ее в час горя. Я приду еще раз.
– Хорошо, – засмеялась она ядовито, – приходите еще раз.
Итак, мои ожидания не сбылись. Я подумывал о возвращении, но потом решил воспользоваться случаем, чтобы осмотреть немного знаменитый Чилкут, и направился далее. Лица тех сотен, которых я встретил, были те же, что попадались уже мне тысячами: отмеченные печатью Пути, изборожденные складками страдания, измученные усталостью, помертвелые от отчаяния.
Здесь были та же безумная спешка, то же равнодушие к бедствиям, та же суровая стоическая выносливость.
Снежная буря бушевала на вершине Чилкута, и снег кружился, покрывая тысячи ям глубиной от десяти до пятнадцати футов, вырытых для сохранения припасов. Я стоял на вершине почти отвесного склона, который носил название Лестницы. В ледяной коре были вырублены ступени, по которым взбирались люди с тяжелыми ношами на спинах. Можно было продвигаться только гуськом. Эта была знаменитая «Человеческая Цепь». По краям дорожки на разных расстояниях были вырублены площадки, чтобы дать возможность обессилевшим выйти из цепи и передохнуть. Но если какой-нибудь изнуренный путник спотыкался и падал в одну из расселин, ряд быстро смыкался, и никто не оглядывался на него. Люди надевали поверх обуви острые шипы, так что ноги их вонзались в скользкую поверхность. Многие из них имели палки, и все сгибались почти в три погибели под своими мешками. Они не разговаривали, губы их были сурово сжаты, глаза неподвижно уставлены в одну точку и мрачны. Они наклоняли головы, чтобы укрыться от порывов резкого ветра, но в какую бы сторону они ни поворачивались, он неизменно дул им навстречу. Снег лежал толстым слоем на их плечах и покрывал им грудь, на их бородах блестели ледяные сосульки. Когда они поднимались со ступеньки на ступеньку, казалось, будто ноги их налиты свинцом – с таким трудом они переставляли их, и площадки для отдыха по пути никогда не пустовали. Видно было, как они шатались, как пьяные, добравшись до вершины Пути под порывами ветра, который, казалось, одним дуновением заметал все тропинки. Они ощупью находили ямы для припасов, вырытые лишь накануне, а теперь покрытые глубоким снегом. Они спускались вниз с головокружительной быстротой, откидываясь назад на свои палки, ибо спуск был похож на каток. В минуту они исчезали из глаз, но назавтра люди из Чилкута появлялись вновь, и так повторялось каждый день. Крестный путь воистину был весь воплощен в муках этого подъема. Со своего места на вершине я видел, как людская цепь тянулась вверх звено за звеном, и каждое звено было человеком. И когда они взбирались по безжалостной тропинке, на каждом человеческом лице можно было прочесть палимпсест его души.
В одной из соседних палаток находился ресторан, куда я направился, чтобы выпить чашку кофе. Я расспросил прислуживавшего мне человека, жирного веселого малого, относительно девушки. Да, он знал ее. Она жила вон в той палатке с мадам Винкельштейн. Говорили, что она ужасно убивалась по старику, бедная девочка.
Я поблагодарил его, проглотил свой кофе и направился к палатке. Пола была опущена, но я постучал о парусину, и тотчас же увидел мрачное лицо Мадам. Увидев меня, она сделалась еще мрачнее.
– Что вам нужно? – спросила она.
– Я хочу видеть Берну, – ответил я.
– Это невозможно. Ведь вы же слышите, разве этого недостаточно?
И я действительно услышал очень тихий жалобный звук, исходивший из палатки, что-то среднее между рыданьем и стонами, похожее на плач индейской женщины над покойником, только бесконечно более покорное и тоскливое. Я был потрясен, полон благоговения, неизмеримо грустен.
– Благодарю вас, – сказал я. – Простите. Я не хочу беспокоить ее в час горя. Я приду еще раз.
– Хорошо, – засмеялась она ядовито, – приходите еще раз.
Итак, мои ожидания не сбылись. Я подумывал о возвращении, но потом решил воспользоваться случаем, чтобы осмотреть немного знаменитый Чилкут, и направился далее. Лица тех сотен, которых я встретил, были те же, что попадались уже мне тысячами: отмеченные печатью Пути, изборожденные складками страдания, измученные усталостью, помертвелые от отчаяния.
Здесь были та же безумная спешка, то же равнодушие к бедствиям, та же суровая стоическая выносливость.
Снежная буря бушевала на вершине Чилкута, и снег кружился, покрывая тысячи ям глубиной от десяти до пятнадцати футов, вырытых для сохранения припасов. Я стоял на вершине почти отвесного склона, который носил название Лестницы. В ледяной коре были вырублены ступени, по которым взбирались люди с тяжелыми ношами на спинах. Можно было продвигаться только гуськом. Эта была знаменитая «Человеческая Цепь». По краям дорожки на разных расстояниях были вырублены площадки, чтобы дать возможность обессилевшим выйти из цепи и передохнуть. Но если какой-нибудь изнуренный путник спотыкался и падал в одну из расселин, ряд быстро смыкался, и никто не оглядывался на него. Люди надевали поверх обуви острые шипы, так что ноги их вонзались в скользкую поверхность. Многие из них имели палки, и все сгибались почти в три погибели под своими мешками. Они не разговаривали, губы их были сурово сжаты, глаза неподвижно уставлены в одну точку и мрачны. Они наклоняли головы, чтобы укрыться от порывов резкого ветра, но в какую бы сторону они ни поворачивались, он неизменно дул им навстречу. Снег лежал толстым слоем на их плечах и покрывал им грудь, на их бородах блестели ледяные сосульки. Когда они поднимались со ступеньки на ступеньку, казалось, будто ноги их налиты свинцом – с таким трудом они переставляли их, и площадки для отдыха по пути никогда не пустовали. Видно было, как они шатались, как пьяные, добравшись до вершины Пути под порывами ветра, который, казалось, одним дуновением заметал все тропинки. Они ощупью находили ямы для припасов, вырытые лишь накануне, а теперь покрытые глубоким снегом. Они спускались вниз с головокружительной быстротой, откидываясь назад на свои палки, ибо спуск был похож на каток. В минуту они исчезали из глаз, но назавтра люди из Чилкута появлялись вновь, и так повторялось каждый день. Крестный путь воистину был весь воплощен в муках этого подъема. Со своего места на вершине я видел, как людская цепь тянулась вверх звено за звеном, и каждое звено было человеком. И когда они взбирались по безжалостной тропинке, на каждом человеческом лице можно было прочесть палимпсест его души.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: