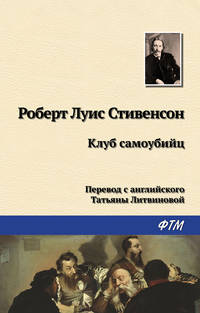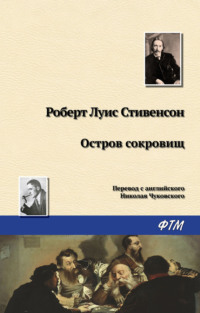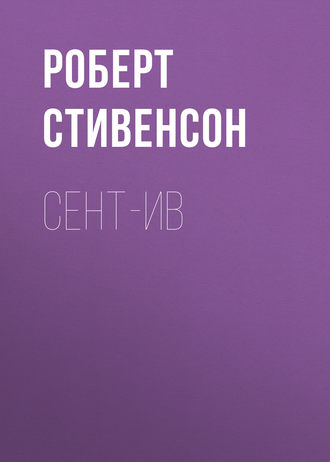
Сент-Ив
Не стану рассказывать читателю, как мы вошли в кухню, как приправляли пряностями подогретый эль (что вышло очень вкусно), как пили и беседовали – Фенн, держась тона старого, верного подчиненного, а я… ну, право же, чувствуя удивленное восхищение при виде его поразительного бесстыдства, слыша его неестественно ласковые речи; скоро мне удалось победить в себе всякое злобное чувство. Этот человек даже притягивал меня к себе своей бесконечной наглостью. Я начал видеть в нем какую-то странную прелесть – его апломб был так величествен. Я никогда еще не видел подобного негодяя. Низость Фенна по величине не уступала размерам его огромного живота, и мне чудилось, что ни за то, ни за другое его даже и винить нельзя. Фенн был так добр, что пустился в рассказы о себе; он сообщил, что несмотря на войну и высокие цены на продукты, фермерское дело совсем не шло. Говорил и о том, что вдоль большой дороги тянется холодная сырая местность, что ветры, дожди, времена года – все, точно умышленно, является несвоевременно; рассказал мне толстяк и о том, как умерла миссис Фенн. «С тех пор прошло два года. Она, моя хозяюшка, была замечательно хороша собой, сэр, если позволите сказать это», – проговорил он, поддаваясь внезапному припадку смирения. Словом, Фенн дал мне возможность изучить Джона Буля без прикрас: он показал мне его жадность, склонность к ростовщичеству, лицемерие, коварство, вырывающееся наружу, – все эти дурные свойства, доведенные до превосходной степени и достойные человека, с которым у меня произошло недоразумение в передней.
Глава XIII
Я встречаю двух соотечественников
Когда Берчель Фенн наговорился вволю, стал дышать правильнее и пришел в хорошее расположение духа, я решил, что могу, не подвергаясь опасности, попросить его познакомить меня с французами, которым предстояло сделаться моими спутниками. Я высказал ему эту просьбу. Оказалось, что в доме Берчеля скрывалось двое беглецов. Фенн повел меня к ним. По мере того, как приближалась минута моего свидания с французскими офицерами, сердце все сильнее и сильнее билось в моей груди. Созерцание представителя коварного Альбиона, только что показавшегося мне во всей своей непривлекательности, заставило меня с необычайной силой желать повидаться с соотечественниками. Я был готов с восторгом и слезами обнять их. Между тем меня ждало разочарование.
Беглещы помещались в большой низкой комнате, окна которой выходили во двор. Вероятно, в то время, как старый дом видел лучшие дни, эта зала служила библиотекой, так как вдоль обшивки ее стен тянулись следы полок. В одном из углов комнаты виднелось четыре или пять матрацев и беспорядочная груда постельного белья; там же стоял умывальник с куском мыла; отдаленную часть комнаты занимали простой кухонный стол и несколько стульев из соснового дерева, сдвинутые в кучу. Освещался низкий покой четырьмя окнами, согревал же его маленький ветхий очаг с косой решеткой и дымовым ходом, примыкавшим к отверстию гостеприимной большой трубы; в очаге лежали сильно дымившие и горевшие слабым огнем угли. Старый, измученный, седовласый офицер сидел на стуле, придвинутом как можно ближе к этому намеку на огонь. Старик кутался в камлотовый плащ с поднятым воротником, колени его упирались в прутья решетки, руки простирались над самым дымом, а между тем он дрожал от холода. Второй француз, высокое, цветущее, красивое создание, каждым жестом обличавшее, что женщины обожают его, по-видимому, перестал верить в спасительную силу огня и ходил взад и вперед по комнате; он страшно чихал, жестоко сморкался и не переставал браниться, жаловаться и сыпать отборными казарменными проклятиями.
Фенн ввел меня в комнату, сказав:
– Господа, вот вам еще спутник! – и ушел.
Старше только мельком взглянул на меня своими тусклыми глазами и сейчас же снова устремил их на огонь; по его телу пробежала дрожь, сильная, острая и судорожная, похожая на припадок икоты; затем он словно замер. Второй француз, изображавший из себя красавца, страдающего катаром, дерзко осмотрел мою фигуру, спросив:
– А вы кто такой?
Я отдал офицерам честь, сказав:
– Я Шамдивер, рядовой восьмого линейного полка.
– Превосходно, – проговорил младший из офицеров. – И вы едете с нами? Трое в одном экипаже и притом третий – неряха, рядовой! А кто же заплатит за вас, милейший?
– Если вам угодно, сударь, коснуться этой стороны дела, – вежливо ответил я, – я осмелюсь спросить – кто заплатил за вас?
– Ах, вы, кажется, желаете острить? – сказал он и принялся снова насмехаться над своей судьбой, жаловаться на погоду, на простуду, на опасность и дороговизну бегства, главное же – на стряпню проклятых англичан. По-видимому, его особенно сильно раздражала мысль о том, что я отправлюсь вместе с ними.
– Если бы вы знали, что вы делаете (тридцать тысяч миллионов свиней!), вы не навязывались бы нам! Лошади не могут тащить фуру. Дороги – сплошная топь и рытвины. В прошлую ночь нам с полковником пришлось половину пути идти пешком, – гром Господень! – и вдобавок по колено в грязи… А у меня эта чертова простуда… Потом страх, что нас поймают!.. К счастью, мы не встретили ни души, кругом была пустыня, настоящая пустыня, как и вся эта ужасная страна. Есть положительно нечего, да, нечего; дают только полусырое мясо да зелень, вареную в воде; пить тоже нечего, кроме ворчестерского варева. Ну, страдая катаром, у меня нет аппетита, правда? Будь я во Франции, я ел бы хороший бульон с гренками, яичницу, курицу с рисом, куропатку в капусте, словом, такие вещи, которые возбудили бы во мне желание покушать, черт возьми! Но тут, Господи, Боже ты мой! Что за страна! Что за холод! Толкуют о России… Ну, и здесь, мне кажется, достаточно холодно! А народ-то, взгляните! Что за раса! Не встретишь ни одного красивого человека, ни одного стройного офицера… – Он бросил беглый, на мгновение повеселевший взгляд на свою талию, потом продолжал: – Женщины – чистые кульки! Одно ясно мне – я не перевариваю англичан и ничего английского.
В этом человеке было что-то до такой степени антипатичное мне, что я невольно поморщился. Я положительно не выношу фатов и денди, даже когда они приличны и хорошо одеты. Майор же (младший офицер был в этом чине) походил на лакея, которому в жизни повезло. Мне даже казалось не по силам тяжело соглашаться с ним или делать вид, что я соглашаюсь с его речами.
– Вряд ли даже возможно ожидать, что вы переварите англичан, – вежливым тоном заметил я, – так как вам пришлось проглотить и переварить ваше честное слово.
Майор повернулся на каблуках с выражением лица, которое, вероятно, представлялось ему ужасным; заговорить же он не мог, так как снова стал чихать самым жестоким образом.
– Самому мне не случалось отведывать этого кушанья, – воспользовавшись благоприятной минутой, прибавил я. – Говорят, оно невкусно. А как вы нашли его, сударь?
В это мгновение полковник с поразительной быстротой пробудился от своей летаргии. Не успели мы с майором произнести ни слова, как старик уже стоял между нами, говоря:
– Стыдитесь, господа! Неужели теперь время для того, чтобы французы, товарищи по оружию, ссорились между собой? Мы окружены врагами. Шум голосов, одно чересчур громкое слово, и мы снова очутимся в неволе. Monsieur le Commandant, вы жестоко оскорблены, но я прошу, я требую, в случае нужды, я приказываю, чтобы дело было отложено до того времени, когда мы вернемся во Францию и нам не будет грозить никакая опасность. Тогда, если вы пожелаете, я предложу вам свои услуги. Вы же, молодой человек, выказали жестокость и легкомыслие, свойственное юности. Этот джентльмен выше вас по чину, он уже не молод. (Можете вообразить, какое лицо состроил майор в эту минуту!). Он нарушил свое слово, я не знаю, какое побуждение руководило им; вам тоже это неизвестно, быть может, в нем говорил патриотизм (во время вражды двух стран в этом нет ничего невероятного); может быть, человеколюбие, крайняя необходимость заставили его поступить так, как он поступил. Вы не знаете ничего о его прошлом, между тем решаетесь набросить тень на его честь. Нарушившего слово следует жалеть, а не поднимать на смех. Я, полковник империи, тоже нарушил данное слово. Но почему? В течение многих лет я хлопотал, чтобы меня обменяли на кого-нибудь из пленных англичан, однако люди, имевшие силу при военном министерстве, постоянно перебивали мне дорогу. Мне приходилось ждать, а там, дома, дочь моя лежит, не вставая с постели. Я и то боюсь, что опоздал! Она больна, очень больна, при смерти. У меня нет ничего, кроме моей дочери, моего императора, моей чести; я жертвую честью – пусть тот, кто желает, осуждает меня! Сердце мое сжалось.
– Ради Бога, – воскликнул я, – забудьте то, что я сказал! Слово? Может ли оно бороться с жизнью, смертью и любовью? Я прошу у вас извинения, а также и у майора. Пока мы будем вместе с вами, вам не придется более жаловаться на меня. Молю Бога, чтобы вы встретили вашу дочь живой и здоровой.
– Об этом поздно молиться, – проговорил полковник; в то же мгновение огонь оживления, на секунду вспыхнувший в нем, погас; он снова подсел к очагу и опять погрузился в прежнюю бесчувственность.
Я же не мог успокоиться. Я увидел страдания этого человека; я видел выражение его лица, и это переполняло меня горьким раскаянием; я настойчиво просил майора пожать мне руку (на что тот согласился без малейшего удовольствия) и продолжал рассыпаться в извинениях и оправданиях.
– И кто я такой? Разве я смею говорить о слове! Я простой рядовой, и мне незачем было давать или свято хранить слово. Раз я вышел за укрепления – я свободен, как ветер. Прошу вас поверить мне, что я до глубины души сожалею о вырвавшихся у меня невеликодушных словах. Позвольте мне… Как в этом проклятом доме привлекают к себе внимание? Где этот Фенн?
Я подбежал к одному из окон и распахнул его. Фенн, проходивший в эту минуту по двору, всплеснул руками, точно в порыве сильнейшего отчаяния; он закричал, чтобы я отошел от окна, сам же вбежал в дом и через мгновение появился на пороге нашей комнаты.
– О, сэр, – сказал он, – не подходите к этим окнам, вас могут увидеть с дороги, идущей по задворкам.
– Хорошо, – ответил я. – Я сделаюсь осторожен как мышь и невидим как дух. Но, Бога ради, принесите нам бутылку коньяку. Здесь сыро, точно в колодце, и эти господа умирают от холода.
Я заплатил Фенну (мне кажется, всегда лучше давать деньги вперед), а затем занялся очагом. Оттого ли, что я очень старательно раздувал угли, или оттого, что они достаточно согрелись, но вскоре в камине зашумело яркое пламя. Его отсвет, заблиставший среди мглы темного дождливого дня, по-видимому, оживил полковника, точно солнечный луч. Как только угли разгорелись, образовалась тяга, избавившая нас от дыма, и когда появился Фенн с бутылкой под мышкой и со стаканом в руках, в воздухе уже носилось что-то радостное, согревавшее душу.
Я налил в стакан немного коньяку и сказал:
– Полковник, я молодой человек, рядовой! Пробыв в этой комнате очень недолгое время, я уже успел показать вспыльчивость и неумение держаться. Будьте же настолько человеколюбивы, чтобы забыть мои прегрешения, и сделайте мне честь, приняв от меня этот стакан.
Полковник поднял голову и пристально, недоверчиво взглянул на меня.
– Дитя мое, – сказал он, – вы не в состоянии предложить мне выпить.
Я постарался успокоить его.
– Тогда благодарю вас; мне очень холодно, – проговорил старик. Он взял стакан, выпил; легкая краска набежала на его лицо.
– Благодарю вас вторично; коньяк идет к самому сердцу, – прибавил полковник.
Я попросил майора самого налить себе, и он, не скупясь, исполнил мою просьбу; весь остаток утра мой недавний враг поддевал себе коньяку то извиняясь, то бессловесно, и бутылка почти опустела раньше, чем накрыли на стол. Нам подали обед, который напророчил майор: мясо, овощи, картофель. Горчица лежала в чайной чашке; пиво принесли в коричневом кувшине, на котором изображалась охота: скакали собаки, охотники на лошадях, вдали неслась лиса. Посредине кувшина сидел и курил трубку гигантский Джон Буль (как две капли воды похожий на Фенна). Голову его украшал круглый парик. Пиво было очень хорошим, но майор остался им недоволен; он мешал его с коньяком, «чтобы отделаться от простуды», говорил он; ради лечебной цели майор выпил все оставшееся в бутылке. Он несколько раз указывал мне на это обстоятельство: налил мне остатки, подбросил бутылку в воздух и стал выделывать с нею всякие штуки. Наконец, истощив свою изобретательность и видя, что я не обращаю ни малейшего внимания на его намеки, он сам потребовал себе бутылку коньяку и заплатил за нее из собственного кармана.
Полковник уже ничего не ел; он сидел, погрузившись в глубокое раздумье, и только изредка как бы просыпался и начинал сознавать, где он и что с ним происходит. В течение каждого из этих коротких просветлений он в той или другой форме выражал мне свою благодарность и любезно, даже добро и ласково, обращался ко мне; это переполняло меня чувством невыразимой глубокой нежности к нему.
– Шамдивер, ваше здоровье, милый мальчик, – говорил он. – Нам с майором пришлось идти почти всю прошедшую ночь, и мне положительно казалось, что я не буду в состоянии проглотить ни одного куска, но вам пришла в голову счастливая мысль – вы дали мне коньяку, и это совсем переродило меня!
Полковник принимался за кушанье, отрезал себе большой кусок, но, не успев проглотить его, забывал об обеде, о своих товарищах, о том, где он находился, о своем бегстве; перед его умственным взором вставали невеселые видения – комната больной и умирающая девушка. Этот истомленный, слабый старик казался мне связкой еле живых костей, телом, в котором собралось множество смертельных страданий, а потому в его глубокой тревоге мне чудилось что-то высоко трагическое.
Я не мог обедать, мне представлялось, что есть за одним столом с этим пораженным горем отцом было бы грехом, было бы чем-то вроде грубой нахальной выходки. И, несмотря на мою давнишнюю привычку к невкусной английской пище, я ел едва ли больше, нежели онсам. Когда окончился обед, полковник погрузился в сон, напоминавший летаргию. Старик лежал на одном из матрацев, вытянув ноги и руки; дыхание его точно прекратилось; он походил на мертвеца.
За столом остались только мы с майором. Не думайте, что мы долго сидели с ним; зато все время оживленно беседовали. Майор пил, как рыба, или как англичанин, кричал, бил по столу кулаком, завывал отрывки каких-то песен, бранился со мной, мирился и, наконец, попробовал начать выбрасывать из окна блюда и тарелки, но после обеда это не могло удасться ему.
Мы пировали необычайно шумно для беглецов, которым следовало тщательно скрываться. Видя, что майор зашел уже так далеко, и сознавая, что нет ни малейшей возможности вернуть его к благоразумию, я сам притворился безумцем, постоянно наливал его стакан до краев, и то и дело предлагал ему всевозможные тосты; раньше чем я мог надеяться, мой собутыльник впал в сонливое состояние и стал заплетающимся языком лепетать бессвязные слова. С упрямством, свойственным всем подобным глупцам, он ни за что не хотел лечь на один из матрацев до тех пор, пока я сам не лег на другом. Но скоро комедия кончилась: майор заснул сном праведника; его храпение раздавалось, точно военная музыка, Я снова встал, придумывая, как бы протянуть скучное время до отъезда.
Накануне я спал в хорошей постели; теперь я не мог сомкнуть глаз, и мне оставалось только ходить по комнате из угла в угол, поддерживать огонь в камине да раздумывать о своем положении. Я сравнивал вчерашний день с сегодняшним. Вчера я чувствовал себя в безопасности, пользовался комфортом, свежим воздухом, свободно шел по большой дороге, входил в понравившиеся мне гостиницы; сегодня я скучал, тревожился, испытывал всевозможные неудобства. Я помнил, что нахожусь в руках Фенна, который, конечно, не был более фальшивым, чем я считал его, но мог оказаться мстительнее, нежели я предполагал. Я представил себе, что по ночам я буду трястись в закрытом фургоне, а днем скучать в каких-нибудь укромных местах. Мужество мое исчезало; я готов был улучить минуту, бежать и снова начать свое одинокое странствование, но мысль о полковнике остановила меня. Я мало знал старика, но считал, что в душе он ребенок, что характерную черту его натуры составляет та наивность и приветливая вежливость, которые свойственны только старым воинам да священникам; мне казалось, что бремя лет и печалей совершенно подорвало его силы. Я не мог бросить в несчастье этого старика, не мог оставить его наедине с себялюбивым воителем, храпевшим в эту минуту на матраце рядом со мной.
– Шамдивер, ваше здоровье, мой мальчик, – шептал мне на ухо тихий голос, не позволяя бежать. Мало обстоятельств, которыми я впоследствии был бы более доволен, нежели те, что заставили меня подумать о полковнике и задержаться в доме Фенна.
Вероятно, часов около четырех пополудни (по крайней мере, в это время дождь прекратился и солнце заходило, украшая небо своеобразным зимним убором) ход моих мыслей был нарушен: к крыльцу подъехала одноколка с двумя седоками. Я решил, что это соседи Фенна, какие-нибудь фермеры. Крупные, дюжие малые в серых блузах и сапогах с отворотами, по-видимому, хорошо угостились водкой еще до своего приезда к приятелю. Просидев же у него несколько часов, они окончательно напились. Фермеры и Фенн расположились в кухне, внизу, пили, кричали, пели; отзвук их веселья в некотором роде заменял мне общество. Нельзя сказать, чтобы их репертуар отличался разнообразием; например, песню о «Видикомбской ярмарке» я слышал по крайней мере раза три. Однако, хотя пение пировавших не отличалось особыми достоинствами, все же оно было приятнее храпения майора. Стемнело; отблеск огня, горевшего в камине, мерцал на обшивке стены. Свет в наших окнах, конечно, был виден не только с дороги, проходившей по задворкам, как говорил Фенн, но и со двора, на котором стояла одноколка, ожидавшая фермеров. Выйдя из дому, гости Берчеля должны были неминуемо увидеть освещенные окна и понять, что в доме кто-то есть. Предположив, что они станут допытываться, кто помещается в освещенной комнате, оставалось вопросом, окажется ли Фенн достаточно честным, чтобы скрыть нас, и хватит ли у него, после обильных возлияний, ума и хитрости благоразумно ответить на расспросы своих гостей. В таких размышлениях не заключалось ничего особенно приятного! Когда снизу в третий раз донеслось:
«Том Пирс, Том Пирс, дай мне твою серую лошадь.Я уеду далеко, далеко.Мне нужно поехать на Видикомбскую ярмарку…»я почувствовал, что сам очень охотно взял бы серую лошадь, чтобы умчаться на ней из того котла, кипевшего заботами, в который я попал благодаря моему визиту к Фенну. В отдаленном углу залитой светом комнаты лежали мои товарищи; один из них спал беззвучно, другой шумно храпел; полковник казался олицетворением смерти, майор – опьянения. Не следует удивляться, что я еле сдерживал желание присоединить свой голос к пению, доносившемуся до меня снизу, что я порой готов был засмеяться, порой же едва подавлял слезы – мне было так скучно, и я еле выносил муку ожидания!
Наконец часов в шесть вечера шумливые менестрели вышли во двор. Впереди них шествовал Фенн с фонарем в руках. Фермеры, громко разговаривая, взобрались в свою бричку; один из них схватил вожжи, одноколка тронулась и пропала из виду с чудесной быстротой, даже стук ее колес чуть не мгновенно замер в отдалении. Я уверен, что для пьяных существует свое особенное провидение, которое за них правит лошадьми и вообще хранит их от всяких бед и опасностей, но, без сомнения, эта одноколка даже ему доставила множество хлопот. Когда экипаж двинулся, Фенн с сердитым восклицанием отшатнулся от его колес, чтобы спасти пальцы своих ног, и неуверенными шагами пошел в дальний угол двора; фонарь, который он нес в руках, описывал неправильные дуги. В открытых дверях экипажного сарая уже виднелась большая голова кучера; он вывозил наружу закрытый фургон. Мне следовало воспользоваться этой минутой, чтобы поговорить с Фенном наедине; другого благоприятного случая трудно было бы ожидать.
Я ощупью спустился с лестницы и подошел к нашему хозяину как раз в то время, когда он освещал лошадиную сбрую, осматривая ее.
– Скоро мы расстанемся, – сказал я, – и вы сделали бы мне большое одолжение, приказав вашему кучеру доставить меня поближе к Дунстаблю. Я решил до этого пункта ехать в обществе полковника Икс и майора Игрек. У меня очень важное дело в окрестностях Дунстабля.
Фенн исполнил мою просьбу с почтительностью, которая явилась, по-видимому, следствием попойки.
Глава XIV
Путешествие в фургоне
Моих товарищей подняли с большим трудом; бедный старик полковник сейчас же ушел в свои вечные непрерывные грезы. О нем можно было только сказать, что он был глух ко всему окружающему и до крайности как-то тревожно вежлив; у майора хмель все еще не вполне выскочил из головы. Мы, сидя подле камина, напились чаю, потом осторожно, точно преступники, прокрались из дому; на воздухе нас охватил страшный, смертельный холод. Погода успела измениться. Как только дождик прекратился, начался настоящий мороз. Когда мы двинулись в путь, месяц, еще молодой, стоял почти в зените; его свет блестел на ледяных пеленах, покрывавших землю, дробился и искрился в замерзших сосульках. Стояла самая неудобная для поездок ночь. Однако лошади успели отлично отдохнуть за день, и Кинг (так звали большеголового малого) уверял, что наше путешествие обойдется без всяких неприятных приключений. На слова этого человека следовало полагаться. Несмотря на глупый вид, Кинг был незаменим в должности кучера Фенна; он превосходно знал все, что касалось лошадей, и в течение нескольких дней прекрасно, ни разу не сбившись с пути, вез нас по различным проселочным дорогам.
Внутри инструмента для пыток, называвшегося фургоном, было устроено сиденье. Мы сейчас же опустились на него. Дверца закрылась; нас окружила густая, душная тьма, и мы почувствовали, что экипаж осторожно выехал со двора. И всю эту ночь нас везли «осторожно»; не часто впоследствии удавалось нам пользоваться этим преимуществом. Обыкновенно мы передвигались в течение ночи и части дня, причем кучер нередко гнал лошадей быстрой рысью, а все дороги, которые выбирал он, были крайне плохими полевыми проселками: нас сильно трясло на жесткой скамье; на ухабах мы ударялись о потолок и стенки фургона и потому к концу переезда бывали в самом жалком положении; выйдя из нашей передвижной тюрьмы, мы зачастую прямо бросались на постели, не дотронувшись до еды; заснув же, спали как убитые до той минуты, когда нас снова сажали в фургон; только при первом жестоком толчке наша дремота проходила окончательно. Временами случались перерывы, и мы приветствовали их, как облегчение судьбы. Несколько раз фургон увязал в грязи; однажды он опрокинулся; нам пришлось выйти из ящика и помочь кучеру поднять фуру; иногда лошади совершенно выбивались из сил (так же, как в тот раз, когда я впервые встретил Кинга), и нам приходилось шагать вдоль дороги по грязи или по замерзшей земле до тех пор, пока не показывались первые лучи рассвета, или пока наше шествие не приближалось к какой-либо деревне; тогда мы, как привидения, скрывались в фургоне.
Большие английские дороги превосходны; они ровны, гладки, отлично проложены и содержатся до того хорошо, что в любую погоду почти на каждой из них человек может пообедать без малейшего отвращения. По английской большой дороге под звуки рожка мчатся дилижансы, делая по шестидесяти миль в день; скачут коляски вслед за покачивающимися курьерами, пролетают кровные рысаки, запряженные в легкие шарабаны, то в одиночку, то в пару гуськом, вселяя восхищение в сердца верноподданных короля и в то же время грозя им бедой. Тут же медленно тянутся фуры, позвякивая колокольчиками и бубенцами, целый день виднеются люди, путешествующие верхом, или путники-пешеходы (увы, и мистер Сент-Ив еще так недавно был свободным пешеходом!); они идут, встречаются, кланяются друг другу, разинув рот зевают один на другого; со всей Англии стекаются они на большую дорогу. Нет, нигде в мире путешествие не доставляет такого наслаждения, как в этой стране. К несчастью, нам необходимо было скрываться, и вся оживленная картина того, что делалось на большой дороге, была не про нас; мы вползали на холмы и спускались в долины, проезжая вдоль изгородей, по камням и рытвинам окольных проселков. Только дважды донеслось до меня дыхание большой дороги. Первый раз я один услышал его. Не знаю, где это было. Стояла темная ночь; я шел, пробираясь между камнями и выбоинами, и вдруг услышал звук почтового рожка; вероятно, дилижанс подходил к станции, и кондуктор давал знак приготовить свежих лошадей. Знакомый сигнал произвел на меня впечатление солнечного луча, внезапно блеснувшего среди ночной тьмы, отзвука голоса внешнего мира в тюрьме, петушиного пения, раздавшегося в море; уж не знаю, чему уподобить его, придумайте сравнение сами; во всяком случае, я едва не заплакал, услышав этот звук. Другой раз мы сильно запоздали; близился рассвет, лошади еле тащились, было холодно, неприветливо. Кинг колотил измученных животных, я вел под руку старого полковника, майор шумно кашлял. Наконец, Кинг, по-видимому, перестал даже стараться прибавить лошадям ходу – они привели его в полное отчаяние; несмотря на холод, несчастный кучер запыхался и его лицо пылало. Незадолго до восхода солнца мы взобрались на вершину холма: перед нами лежала большая дорога, она тянулась через луга, среди рядов стриженных деревьев; по ней несся Йоркский почтовый дилижанс, запряженный четверкой скачущих лошадей; кроме того, мы увидели также и карету и покачивавшегося форейтора, даже высунувшегося из окна экипажа путешественника, который или хотел подышать утренним воздухом, или же смотрел на проезжавший дилижанс. Итак, в течение одной минуты мы наслаждались картиной свободной жизни на большой дороге, представшей нам в самом заманчивом виде, видели воочию, с какой быстротой и комфортом люди передвигаются по ней! Потом, чувствуя жгучее ощущение всей невыгодности нашего положения, мы снова вошли в противную подвижную темницу.