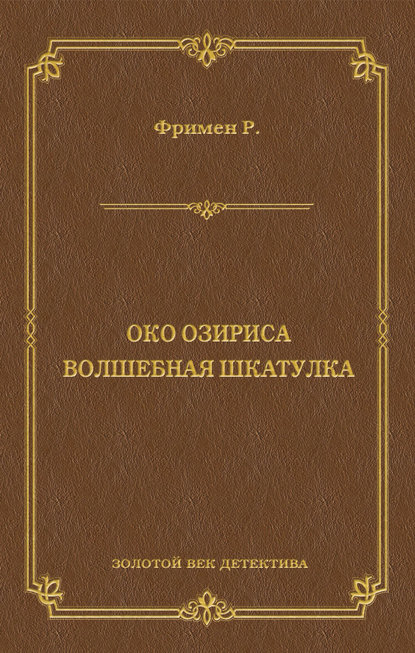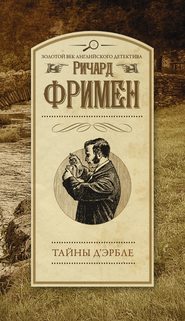По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Око Озириса. Волшебная шкатулка (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он, вероятно, был очень ученый человек? – заметил я.
– В известном отношении да. Для любителя-коллекционера он был очень образованный человек. Он знал египетские отделы всех музеев в мире и изучал их во всех подробностях. Но, главным образом, он интересовался вещами, а не событиями. Конечно, он знал очень много, чрезвычайно много по истории Египта, но все же прежде всего он был коллекционером.
– Что же станется с его коллекцией, если он действительно умер?
– Согласно завещанию, большая часть ее перейдет в Британский музей, остальное же он завещал своему поверенному, мистеру Джеллико.
– Мистеру Джеллико? Почему? Что станет делать мистер Джеллико с египетскими древностями?
– О, он тоже египтолог, и очень рьяный. У него прекрасная коллекция скарабеев и разных мелких вещей, которые удобно хранить в частном доме. По-моему, это увлечение всем египетским и сблизило его с моим дядей. Хотя, кажется, он, кроме того, и прекрасный юрист, и, во всяком случае, он очень осмотрительный и осторожный человек.
– Разве? Я бы этого не сказал, судя по завещанию вашего дяди.
– В данном случае мистер Джеллико не виноват. Он уверял нас, что упрашивал дядю разрешить ему заново написать завещание, составив более разумный текст. Но, по его словам, дядя Джон ни за что не соглашался. Он действительно был очень упрям. Мистер Джеллико слагает с себя всякую ответственность в этом деле. Он умывает руки и говорит, что это завещание составлено сумасшедшим. И это действительно так. Я просматривала его вчера или третьего дня и совершенно не понимаю, как мог здравомыслящий человек написать такой вздор.
– Значит, у вас есть копия? – живо спросил я, вспомнив напутственные слова Торндайка.
– Да. Вы хотели бы его видеть? Я знаю, отец мой говорил вам о нем. Его стоит прочитать, как любопытный образчик бессмыслицы.
– Мне очень хотелось бы показать его моему другу, доктору Торндайку, – сказал я. – Он говорил, что ему было бы очень интересно прочитать его и познакомиться со всеми его пунктами. Хорошо было бы дать ему завещание и узнать, что он скажет!
– Я бы ничего не имела против, – ответила она, – но вы знаете моего отца, знаете, вероятно, его ужас перед тем, что он называет «выклянчиванием даровых советов».
– Ему не следует быть таким щепетильным. Доктор Торндайк хочет видеть завещание, потому что это дело его интересует. Он ведь энтузиаст и просит об этом, как о личном одолжении.
– Это очень мило и деликатно с его стороны, и я объясню все моему отцу. Если он согласится показать копию доктору Торндайку, то я пришлю или принесу ее вам сегодня же вечером. Вы кончили?
Я с сожалением сказал, что кончил, и, оплатив скромный счет, мы вышли.
– Что за человек был ваш дядя? – сразу же спросил я, как только мы очутились на тихой улице. И тут же поспешно добавил: – Я надеюсь, что вы не примете мой вопрос за назойливое любопытство, но в моем представлении ваш дядя является чем-то вроде мистической абстракции, неизвестной величиной какой-то юридической проблемы.
– Мой дядя Джон был очень странным человеком, – задумчиво ответила она. – Очень упрямым, очень своенравным – тем, что люди называют «властным». Безусловно, у него были большие причуды и странности.
– Именно такое впечатление и получается от его завещания, – сказал я.
– Да, и не только от завещания. Возьмите, например, эту нелепую пенсию, которую он назначил моему отцу. Это было не только смешно, но и несправедливо. Они должны были разделить все состояние поровну, как хотел мой дед. И в то же время он вовсе не был скупым, только он всегда хотел действовать непременно по-своему, и потому часто поступал и несправедливо, и странно.
Мне вспоминается, – продолжала она после небольшой паузы, – один очень любопытный пример его странности и упрямства. Это – пустяк, но очень для него характерный. В его коллекции было одно очень красивое кольцо эпохи восемнадцатой династии. Говорили, что оно принадлежало царице Ти, матери нашего приятеля Аменхотепа Четвертого. Я сама этого не думаю, так как на кольце было изображение Ока Озириса, а Ти, как вам известно, была поклонницей Атона. Это было прелестное кольцо, и дядя Джон, питавший какую-то странную привязанность к мистическому оку Озириса, заказал одному очень умелому ювелиру две точные копии с него – одну для себя, а другую для меня. Естественно, что ювелир пожелал снять мерку с наших пальцев, но дядя Джон и слышать не хотел об этом. Кольца должны были быть точными копиями, а, стало быть, непременно таких же размеров, как и оригинал. Вы, конечно, представляете себе, что получилось. Мое кольцо оказалось слишком велико, и я не могла его носить, а кольцо дяди Джона было так узко, что хотя ему и удалось его надеть, но уже нельзя было его снять. Он мог его носить только благодаря тому, что левая его рука была значительно меньше правой.
– Значит, вы никогда не носили своего кольца?
– Никогда. Я хотела его переделать, но дядя энергично восстал. Поэтому я его убрала, и до сих пор оно лежит у меня в футляре.
– Необыкновенно упрямый старик! – заметил я.
– Да, и очень упорный. Он также доставил много огорчений моему отцу теми бесполезными перестройками в нашем доме, когда он водворил там свой музей. У нас особое чувство к этому дому. Наши предки жили в нем с тех пор, как он был выстроен, то есть в царствование королевы Анны, когда разбита была эта площадь ее имени. Это – милый старый дом. Хотите его посмотреть? Он тут, почти рядом.
Я с радостью согласился. Даже если бы это был угольный сарай или рыбная лавчонка, я все равно пошел бы туда с удовольствием для того лишь, чтобы продлить нашу прогулку. Но этот дом меня действительно интересовал, так как он имел отношение к таинственно исчезнувшему Джону Беллингэму.
Мы немедленно спустились по теневой западной стороне. На полпути моя спутница остановилась.
– Вот этот дом, – сказала она. – Он выглядит теперь мрачным и заброшенным. Но это был, наверное, самый восхитительный дом в те дни, когда мои предки из своих окон могли любоваться полями и лугами Хемпстэдских высот и Хайгэйта.
Она стояла на краю тротуара и внимательно смотрела на старый дом.
Мрачный, отталкивающий вид этого дома приковал и мое внимание. Все окна, начиная с подвального этажа и кончая чердаком, были закрыты ставнями. Не было заметно никаких признаков жизни. Массивная дверь в глубине великолепного резного портала была покрыта слоем сажи и казалась такой же вышедшей из употребления, как и проржавевшие тушилки, которыми ливрейные лакеи гасили факелы, когда в дни доброй королевы Анны какая-нибудь леди Беллингэм подымалась по ступенькам в своих раззолоченных носилках.
Мы молча направились домой. Моя спутница была погружена в глубокую задумчивость. Ее настроение заразило и меня. Как будто душа исчезнувшего человека вышла из этого большого безмолвного дома и присоединилась к нам.
Когда мы в конце концов подошли к воротам Невиль-Коурта, мисс Беллингэм остановилась и протянула мне руку.
– Большое, большое спасибо за вашу огромную помощь. Разрешите мне взять свою сумочку!
– Пожалуйста, если она вам нужна. Но только я выну записные книжки.
– Зачем? – спросила она.
– Как зачем? Ведь должен же я расшифровать свои записки.
Ее лицо приняло выражение крайнего смущения. Она была так поражена, что забыла даже высвободить свою руку.
– Боже мой! – воскликнула она. – Как это глупо с моей стороны. Но это совершенно невозможно, доктор Барклей, это отнимет у вас массу времени!
– Это вполне возможно, но ничего не поделаешь. В противном случае мои записки окажутся совершенно бесполезными. Вы возьмете сумочку?
– Конечно, нет. Но мне страшно неловко. Право, бросьте эту затею!
– Это значит конец нашей совместной работы, – трагическим тоном воскликнул я, пожав на прощание ее руку. Тут только она спохватилась и быстро выдернула ее.
– Неужели же вы хотите, чтобы пропал целый день работы? Я этого не хочу. А потому до свидания, до завтра! Я постараюсь прийти пораньше в читальный зал. А вы потрудитесь взять карточки. Да, и не забудьте, пожалуйста, о копии завещания для доктора Торндайка, хорошо?
– Хорошо. Если мой отец согласится, я пришлю вам ее еще сегодня вечером.
Она взяла у меня карточки и, еще раз поблагодарив меня, вошла во двор.
Завещание Джона Беллингэма
Работа, за которую я взялся с таким легким сердцем, оказалась действительно ужасающей, как сказала мисс Беллингэм. Для расшифровки записанного в течение двух с половиной часов при средней скорости около ста слов в минуту требуется немало времени. А так как выписки надо было сдать аккуратно к завтрашнему дню, то терять времени было нельзя, поэтому я через пять минут по возвращении в амбулаторию уже сидел за письменным столом, разложив перед собой записки, и энергично расшифровывал стенографические значки и разобранное записывал четким почерком. Занятие это имело для меня немалую прелесть прежде всего потому, что все фразы, которые я писал, были полны нежных воспоминаний, напоминали мне о том, как она шепотом диктовала их мне. Да и сам предмет был для меня полон интереса. Мне открывались новые перспективы, я переступал порог нового мира (который был ее миром). И потому я далеко не был доволен, когда приход случайных пациентов отрывал меня от работы.
Вечер подходил к концу, а из Невиль-Коурта еще ничего не было слышно, и я уже начал опасаться, что щепетильность мистера Беллингэма оказалась непреодолимой.
Но ровно в половине восьмого дверь амбулатории внезапно распахнулась, и в комнату вошла мисс Оман, держа в руках синий конверт, с таким таинственным видом, как будто это был ультиматум.
– Я принесла это вам от мистера Беллингэма, – сказала она. – Тут вложена записка.
– Вы мне разрешите прочесть ее, мисс Оман? – спросил я.
– Господи помилуй! – воскликнула она. – Да что же еще с ней делать? Ведь я для того ее и принесла.
– В известном отношении да. Для любителя-коллекционера он был очень образованный человек. Он знал египетские отделы всех музеев в мире и изучал их во всех подробностях. Но, главным образом, он интересовался вещами, а не событиями. Конечно, он знал очень много, чрезвычайно много по истории Египта, но все же прежде всего он был коллекционером.
– Что же станется с его коллекцией, если он действительно умер?
– Согласно завещанию, большая часть ее перейдет в Британский музей, остальное же он завещал своему поверенному, мистеру Джеллико.
– Мистеру Джеллико? Почему? Что станет делать мистер Джеллико с египетскими древностями?
– О, он тоже египтолог, и очень рьяный. У него прекрасная коллекция скарабеев и разных мелких вещей, которые удобно хранить в частном доме. По-моему, это увлечение всем египетским и сблизило его с моим дядей. Хотя, кажется, он, кроме того, и прекрасный юрист, и, во всяком случае, он очень осмотрительный и осторожный человек.
– Разве? Я бы этого не сказал, судя по завещанию вашего дяди.
– В данном случае мистер Джеллико не виноват. Он уверял нас, что упрашивал дядю разрешить ему заново написать завещание, составив более разумный текст. Но, по его словам, дядя Джон ни за что не соглашался. Он действительно был очень упрям. Мистер Джеллико слагает с себя всякую ответственность в этом деле. Он умывает руки и говорит, что это завещание составлено сумасшедшим. И это действительно так. Я просматривала его вчера или третьего дня и совершенно не понимаю, как мог здравомыслящий человек написать такой вздор.
– Значит, у вас есть копия? – живо спросил я, вспомнив напутственные слова Торндайка.
– Да. Вы хотели бы его видеть? Я знаю, отец мой говорил вам о нем. Его стоит прочитать, как любопытный образчик бессмыслицы.
– Мне очень хотелось бы показать его моему другу, доктору Торндайку, – сказал я. – Он говорил, что ему было бы очень интересно прочитать его и познакомиться со всеми его пунктами. Хорошо было бы дать ему завещание и узнать, что он скажет!
– Я бы ничего не имела против, – ответила она, – но вы знаете моего отца, знаете, вероятно, его ужас перед тем, что он называет «выклянчиванием даровых советов».
– Ему не следует быть таким щепетильным. Доктор Торндайк хочет видеть завещание, потому что это дело его интересует. Он ведь энтузиаст и просит об этом, как о личном одолжении.
– Это очень мило и деликатно с его стороны, и я объясню все моему отцу. Если он согласится показать копию доктору Торндайку, то я пришлю или принесу ее вам сегодня же вечером. Вы кончили?
Я с сожалением сказал, что кончил, и, оплатив скромный счет, мы вышли.
– Что за человек был ваш дядя? – сразу же спросил я, как только мы очутились на тихой улице. И тут же поспешно добавил: – Я надеюсь, что вы не примете мой вопрос за назойливое любопытство, но в моем представлении ваш дядя является чем-то вроде мистической абстракции, неизвестной величиной какой-то юридической проблемы.
– Мой дядя Джон был очень странным человеком, – задумчиво ответила она. – Очень упрямым, очень своенравным – тем, что люди называют «властным». Безусловно, у него были большие причуды и странности.
– Именно такое впечатление и получается от его завещания, – сказал я.
– Да, и не только от завещания. Возьмите, например, эту нелепую пенсию, которую он назначил моему отцу. Это было не только смешно, но и несправедливо. Они должны были разделить все состояние поровну, как хотел мой дед. И в то же время он вовсе не был скупым, только он всегда хотел действовать непременно по-своему, и потому часто поступал и несправедливо, и странно.
Мне вспоминается, – продолжала она после небольшой паузы, – один очень любопытный пример его странности и упрямства. Это – пустяк, но очень для него характерный. В его коллекции было одно очень красивое кольцо эпохи восемнадцатой династии. Говорили, что оно принадлежало царице Ти, матери нашего приятеля Аменхотепа Четвертого. Я сама этого не думаю, так как на кольце было изображение Ока Озириса, а Ти, как вам известно, была поклонницей Атона. Это было прелестное кольцо, и дядя Джон, питавший какую-то странную привязанность к мистическому оку Озириса, заказал одному очень умелому ювелиру две точные копии с него – одну для себя, а другую для меня. Естественно, что ювелир пожелал снять мерку с наших пальцев, но дядя Джон и слышать не хотел об этом. Кольца должны были быть точными копиями, а, стало быть, непременно таких же размеров, как и оригинал. Вы, конечно, представляете себе, что получилось. Мое кольцо оказалось слишком велико, и я не могла его носить, а кольцо дяди Джона было так узко, что хотя ему и удалось его надеть, но уже нельзя было его снять. Он мог его носить только благодаря тому, что левая его рука была значительно меньше правой.
– Значит, вы никогда не носили своего кольца?
– Никогда. Я хотела его переделать, но дядя энергично восстал. Поэтому я его убрала, и до сих пор оно лежит у меня в футляре.
– Необыкновенно упрямый старик! – заметил я.
– Да, и очень упорный. Он также доставил много огорчений моему отцу теми бесполезными перестройками в нашем доме, когда он водворил там свой музей. У нас особое чувство к этому дому. Наши предки жили в нем с тех пор, как он был выстроен, то есть в царствование королевы Анны, когда разбита была эта площадь ее имени. Это – милый старый дом. Хотите его посмотреть? Он тут, почти рядом.
Я с радостью согласился. Даже если бы это был угольный сарай или рыбная лавчонка, я все равно пошел бы туда с удовольствием для того лишь, чтобы продлить нашу прогулку. Но этот дом меня действительно интересовал, так как он имел отношение к таинственно исчезнувшему Джону Беллингэму.
Мы немедленно спустились по теневой западной стороне. На полпути моя спутница остановилась.
– Вот этот дом, – сказала она. – Он выглядит теперь мрачным и заброшенным. Но это был, наверное, самый восхитительный дом в те дни, когда мои предки из своих окон могли любоваться полями и лугами Хемпстэдских высот и Хайгэйта.
Она стояла на краю тротуара и внимательно смотрела на старый дом.
Мрачный, отталкивающий вид этого дома приковал и мое внимание. Все окна, начиная с подвального этажа и кончая чердаком, были закрыты ставнями. Не было заметно никаких признаков жизни. Массивная дверь в глубине великолепного резного портала была покрыта слоем сажи и казалась такой же вышедшей из употребления, как и проржавевшие тушилки, которыми ливрейные лакеи гасили факелы, когда в дни доброй королевы Анны какая-нибудь леди Беллингэм подымалась по ступенькам в своих раззолоченных носилках.
Мы молча направились домой. Моя спутница была погружена в глубокую задумчивость. Ее настроение заразило и меня. Как будто душа исчезнувшего человека вышла из этого большого безмолвного дома и присоединилась к нам.
Когда мы в конце концов подошли к воротам Невиль-Коурта, мисс Беллингэм остановилась и протянула мне руку.
– Большое, большое спасибо за вашу огромную помощь. Разрешите мне взять свою сумочку!
– Пожалуйста, если она вам нужна. Но только я выну записные книжки.
– Зачем? – спросила она.
– Как зачем? Ведь должен же я расшифровать свои записки.
Ее лицо приняло выражение крайнего смущения. Она была так поражена, что забыла даже высвободить свою руку.
– Боже мой! – воскликнула она. – Как это глупо с моей стороны. Но это совершенно невозможно, доктор Барклей, это отнимет у вас массу времени!
– Это вполне возможно, но ничего не поделаешь. В противном случае мои записки окажутся совершенно бесполезными. Вы возьмете сумочку?
– Конечно, нет. Но мне страшно неловко. Право, бросьте эту затею!
– Это значит конец нашей совместной работы, – трагическим тоном воскликнул я, пожав на прощание ее руку. Тут только она спохватилась и быстро выдернула ее.
– Неужели же вы хотите, чтобы пропал целый день работы? Я этого не хочу. А потому до свидания, до завтра! Я постараюсь прийти пораньше в читальный зал. А вы потрудитесь взять карточки. Да, и не забудьте, пожалуйста, о копии завещания для доктора Торндайка, хорошо?
– Хорошо. Если мой отец согласится, я пришлю вам ее еще сегодня вечером.
Она взяла у меня карточки и, еще раз поблагодарив меня, вошла во двор.
Завещание Джона Беллингэма
Работа, за которую я взялся с таким легким сердцем, оказалась действительно ужасающей, как сказала мисс Беллингэм. Для расшифровки записанного в течение двух с половиной часов при средней скорости около ста слов в минуту требуется немало времени. А так как выписки надо было сдать аккуратно к завтрашнему дню, то терять времени было нельзя, поэтому я через пять минут по возвращении в амбулаторию уже сидел за письменным столом, разложив перед собой записки, и энергично расшифровывал стенографические значки и разобранное записывал четким почерком. Занятие это имело для меня немалую прелесть прежде всего потому, что все фразы, которые я писал, были полны нежных воспоминаний, напоминали мне о том, как она шепотом диктовала их мне. Да и сам предмет был для меня полон интереса. Мне открывались новые перспективы, я переступал порог нового мира (который был ее миром). И потому я далеко не был доволен, когда приход случайных пациентов отрывал меня от работы.
Вечер подходил к концу, а из Невиль-Коурта еще ничего не было слышно, и я уже начал опасаться, что щепетильность мистера Беллингэма оказалась непреодолимой.
Но ровно в половине восьмого дверь амбулатории внезапно распахнулась, и в комнату вошла мисс Оман, держа в руках синий конверт, с таким таинственным видом, как будто это был ультиматум.
– Я принесла это вам от мистера Беллингэма, – сказала она. – Тут вложена записка.
– Вы мне разрешите прочесть ее, мисс Оман? – спросил я.
– Господи помилуй! – воскликнула она. – Да что же еще с ней делать? Ведь я для того ее и принесла.