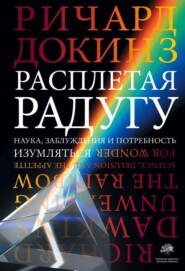По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Естественный отбор – это слепой часовщик. Он слеп, поскольку не заглядывает в будущее, не просчитывает последствий, не исходит из какой-либо цели. Однако живые результаты естественного отбора ошеломляют нас видимостью замысла – как будто их смастерил знаток своего дела – и создают поразительную иллюзию продуманности и целенаправленности. Задача данной книги – разрешить этот парадокс удовлетворительным для читателя образом, а задача настоящей главы – еще больше удивить читателя тем, насколько велика эта иллюзия замысла. Мы рассмотрим один конкретный пример и убедимся, что если вести речь о сложности и красоте устройства, то Пейли сказал ничтожно мало.
Орган или тело можно назвать хорошо сконструированными, если они обладают некими свойствами, которые им мог бы придать толковый инженер ради выполнения какой-то осмысленной задачи: полета, плавания, зрения, питания, размножения – или, говоря более широко, для выживания и распространения генов организма. И вовсе не обязательно, чтобы их устройство было самым лучшим, какое только может придумать инженер. Зачастую то, что является пределом возможностей одного инженера, удается превзойти другому – особенно если этот другой инженер живет в эпоху более развитых технологий. Но любой инженер способен распознать объект, который был, пусть даже и плохо, разработан для какой-то цели, а в большинстве случаев и понять, какова была эта цель, просто исходя из строения этого объекта. В главе 1 мы занимались по большей части философскими сторонами вопроса. Сейчас же я собираюсь изложить один конкретный, основанный на фактах пример, который, я уверен, способен поразить любого инженера, – а именно рассказать о сонаре (“радаре”) летучих мышей. Я буду идти по пунктам и каждый раз начинать с формулировки той или иной проблемы, стоящей перед живой машиной. Затем я буду рассматривать возможные варианты решения этой проблемы, какие могли бы прийти в голову разумному инженеру, а в заключение рассказывать о том решении, которое было принято природой на самом деле. Разумеется, этот конкретный пример взят просто для иллюстрации. Инженер, которого впечатлят летучие мыши, наверняка будет впечатлен и другими бесчисленными примерами устройства живых объектов.
Перед летучими мышами стоит проблема: как ориентироваться в темноте? Они охотятся по ночам и не могут использовать свет, чтобы обнаруживать добычу и не натыкаться на препятствия. Вы, возможно, скажете, что эта трудность надуманная и что ее легко избежать, просто поменяв свои привычки и охотясь днем. Однако дневная экономика и без того интенсивно эксплуатируется другими существами, например птицами. Поскольку имелись способы добывать себе хлеб насущный и ночью, а все альтернативные дневные профессии были уже заняты, то естественный отбор благоприятствовал тем летучим мышам, которые смогли преуспеть в ремесле ночной охоты. Кстати говоря, эта ночная деятельность уходит своими корнями, вероятно, к предкам всех нас, млекопитающих. Скорее всего, в те времена, когда в дневной экономике господствовали динозавры, нашим предкам-млекопитающим удавалось выжить, только кое-как перебиваясь по ночам. Лишь после необъяснимого массового вымирания динозавров около 65 млн лет назад наши предки получили возможность выглянуть на свет дневной в хоть сколько-нибудь заметных количествах.
Но вернемся к летучим мышам. Перед ними стоит инженерная задача: находить дорогу и добычу в темноте. Летучие мыши – не единственные, кто сталкивается сегодня с этой трудностью. Очевидно, что ночные насекомые, которые служат летучим мышам добычей, сами тоже должны как-то ориентироваться в пространстве. Глубоководным рыбам и китам перепадает мало света что днем, что ночью – или не перепадает вовсе. Это связано с тем, что солнечные лучи не могут проникать далеко в толщу воды. Рыбы и дельфины, живущие в чрезвычайно мутной воде, не имеют возможности видеть, поскольку, хотя свет там и есть, его загораживают и рассеивают взвешенные частички мути. Множеству других современных животных также приходится обеспечивать свое существование в условиях, когда использование зрения затруднено или невозможно.
Если бы инженеру было нужно решить проблему маневрирования в темноте, какие варианты он стал бы рассматривать? Первое, что могло бы прийти ему в голову, – это создать источник света, использовать нечто вроде фонарика или прожектора. Самостоятельно производить свет способны светляки и некоторые глубоководные рыбы (обычно при помощи бактерий), но процесс этот, судя по всему, крайне энергоемкий. Светляки излучают свет, чтобы привлечь партнеров для спаривания. Это не требует чрезмерных энергетических затрат: в ночной темноте самка видит с определенного расстояния точечные огоньки самцов, когда те попадают в поле ее зрения. Но для того, чтобы использовать свет для ориентировки, энергии требуется несоизмеримо больше, так как в этом случае глаза должны улавливать каждую крохотную порцию света, отражающуюся от каждой детали окружающей обстановки. Таким образом, тот источник света, который используется в качестве освещающих дорогу фар, должен быть значительно ярче, чем тот, что служит сигнальным маяком для других существ. Как бы то ни было, в расходе энергии тут дело или в чем другом, но положение дел, по всей видимости, таково, что, за возможным исключением некоторых жуткого вида глубоководных рыб, никто из животных, кроме человека, не использует искусственное освещение для ориентировки.
О чем еще мог бы подумать наш инженер? Ну, слепые люди иногда обладают способностью, которая может показаться сверхъестественной, – чувствовать препятствия на своем пути. Она была названа “лицевым зрением”, так как, по словам самих слепых, это ощущение несколько сродни прикосновениям к лицу. Помнится, как-то сообщалось об одном полностью слепом мальчике, который, используя “лицевое зрение”, с хорошей скоростью объезжал свой квартал на трехколесном велосипеде. Эксперименты показали, что на самом деле это “лицевое зрение” ничего общего с прикосновениями к лицу не имеет, хотя ощущения могут отражаться на переднюю часть лица, подобно отраженным (фантомным) болям в ампутированной конечности. В действительности же, как оказалось, ощущения эти приходят через уши. Слепые люди, даже не осознавая этого, для обнаружения препятствий используют эхо своих шагов и прочих звуков. Еще до того, как это выяснилось, инженеры уже создавали приборы, работающие на том же принципе, – к примеру, чтобы измерить глубину моря под кораблем. Стоило изобрести эту методику, как ее применение разработчиками оружия для обнаружения подводных лодок стало только вопросом времени. В ходе Второй мировой обе воюющие стороны во многом полагались на такие устройства – например, на те, что известны под кодовыми названиями Asdic (британское) и Sonar (американское), а также на использующие сходную технологию системы Radar (американская) и RDF (британская), которые улавливают эхо не звуковых, а радиосигналов.
Первооткрыватели сонара и радара не знали об этом, но теперь всему миру известно, что рукокрылые, а точнее естественный отбор, работавший над рукокрылыми, отладили этот метод на десятки миллионов лет раньше, и их “радар” обеспечивает распознавание объектов и навигацию столь великолепно, что инженеру остается лишь неметь от восхищения. Если подходить формально, то говорить о “радаре” у летучих мышей некорректно, так как они не используют радиоволны. Это скорее сонар. Однако математические теории, лежащие в основе радара и сонара, очень сходны, и наше научное понимание подробностей того, что происходит у летучих мышей, достигнуто во многом благодаря применению к ним теоретических основ работы радара. Американский зоолог Дональд Гриффин, которому мы в значительной степени обязаны открытием сонара у рукокрылых, придумал термин “эхолокация”, призванный объединить все механизмы наподобие сонара или радара – как используемые животными, так и созданные человеком. На практике же это слово стало применяться главным образом по отношению к сонару у животных.
Неверно говорить о летучих мышах так, будто все они одинаковы. Это все равно что говорить о собаках, львах, горностаях, медведях, гиенах, пандах и выдрах сразу одним скопом только потому, что все они относятся к хищникам. Различные группы рукокрылых используют сонар совершенно по-разному, и похоже, что они “изобрели” его порознь и независимо, – точно так же, как британцы, немцы и американцы независимо друг от друга изобрели радар. Не все рукокрылые используют эхолокацию. Крыланы, обитающие в тропических областях Старого Света, хорошо видят и ориентируются только при помощи зрения. Тем не менее представители одного или двух видов крыланов, например Rousettus, способны находить дорогу в полной темноте, когда глаза, как бы хороши они ни были, бессильны. Они пользуются сонаром, хотя и более топорным по сравнению с тем, что встречается у летучих мышей меньшего размера, хорошо знакомых нам, жителям умеренных широт. Rousettus во время полета громко и ритмично щелкает языком и ориентируется в пространстве, измеряя промежуток времени от каждого щелчка до его эха. Немалая доля щелчков Rousettus слышна и нам (из этого по определению следует, что они относятся к звукам, а не к ультразвукам; ультразвук – это тот же звук, только слишком высокий для человеческого уха).
Теоретически чем выше звук, тем более точным будет сонар. Низкие звуки характеризуются большей длиной волны, что не позволяет различать объекты, расположенные поблизости друг от друга. Поэтому если система наведения ракеты ориентируется при помощи эха, то в идеале, при отсутствии каких-либо особых ограничивающих условий, ракета будет испускать звуковые волны очень высокой частоты. Большинство летучих мышей действительно пользуются чрезвычайно высокими звуковыми сигналами – слишком высокими, чтобы люди могли их услышать, то есть ультразвуковыми. В отличие от Rousettus, который с помощью неспециализированных и относительно низких звуков устраивает себе небольшое эхолокационное приложение к хорошему зрению, мелкие рукокрылые, судя по всему, представляют собой куда более эффективные аппараты для эхонавигации. Вероятно, от их крохотных глазенок проку в большинстве случаев немного. Они живут в мире эха, и возможно, их мозг использует эхо для создания образов сродни зрительным, хотя мы вряд ли в состоянии “представить себе”, на что эти образы могут быть похожи. Шумы, производимые летучими мышами, не просто чуть-чуть выше тех, что можем услышать мы, как, например, ультразвуковой свисток для собак. Во многих случаях они несоизмеримо выше любой ноты, какую мы когда-либо только могли услышать или хотя бы вообразить. Кстати говоря, не слышим мы летучих мышей на свое счастье, ибо орут они так оглушительно, что спать под этот звук было бы невозможно.
Они словно самолеты-разведчики, ощетинившиеся сложнейшей аппаратурой. Их мозги – тонко настроенные компактные устройства, начиненные фантастической миниатюрной электроникой и оснащенные замысловатым программным обеспечением, расшифровывающим сигналы из мира эха в режиме реального времени. Их мордочки зачастую искривлены, как у горгулий, и кажутся отвратительными, если не принимать во внимание то, чем они являются на самом деле – это безупречные конструкции, позволяющие посылать ультразвук в любом нужном направлении.
Хотя мы и неспособны слышать ультразвуковые импульсы этих животных, некоторое представление о происходящем можно получить благодаря машине-переводчику – так называемому детектору летучих мышей. Этот прибор принимает ультразвуковые сигналы через специальный микрофон и превращает каждый импульс в щелчок или гудок, который мы можем услышать через наушники. Если мы придем с таким детектором на поляну, где кормится летучая мышь, мы будем слышать, когда производится тот или иной сигнал, хотя как “звучат” эти сигналы на самом деле, мы все равно не узнаем. Если наша летучая мышь – это представитель повсеместно распространенной группы ночниц Myotis, в обычном режиме исследующий участок своей охоты, то нам будет слышно бубнящее щелканье, примерно десять щелчков в секунду. Это темп стандартного телетайпа или ручного пулемета “Брен”.
Предполагается, что когда летучая мышь таким образом курсирует по окрестностям, ее картина мира обновляется десять раз в секунду. Наша же с вами картина мира обновляется, по-видимому, непрерывно – до тех пор пока мы держим свои глаза открытыми. Представить себе, каково это – иметь картину мира с прерывистой корректировкой, мы можем, используя стробоскоп в ночное время. Это иногда делается на дискотеках и бывает довольно зрелищно. Танцующий человек выглядит как ряд сменяющих друг друга неподвижных изваяний. Очевидно, что чем более высокую частоту миганий мы установим, тем больше то, что мы видим, будет похоже на нормальное “непрерывное” изображение. Стробоскопическое “взятие зрительных проб” с частотой десять раз в секунду будет почти в той же степени, что и “непрерывное” зрение, годиться для многих повседневных целей, но не для того, чтобы поймать мяч или насекомое.
Однако эта частота пробная, используемая летучей мышью при обычном крейсерском полете. Как только ночница замечает насекомое и начинает лететь наперехват, частота ее щелчков возрастает. Импульсы издаются быстрее, чем пули в пулеметной очереди, и вблизи летающей мишени доходят до 200 за секунду. Чтобы это сымитировать, мы должны будем разогнать наш стробоскоп так, чтобы его вспышка мигала в два раза чаще, чем происходят циклические перепады сетевого напряжения, заметные при работе ламп дневного света. Понятно, что в видимом мире, “пульсирующем” со столь высокой частотой, мы будем в состоянии пользоваться нашим зрением без затруднений даже для игры в сквош или в настольный теннис. Если мы допускаем, что мозг рукокрылых выстраивает образы, аналогичные нашим зрительным, то исходя только из частоты импульсов можно предположить, что картина мира, получаемая летучей мышью с помощью эха, не менее подробна и “непрерывна”, чем видимая нами. Разумеется, это не означает отсутствия других причин, в силу которых она может быть менее детализованной.
Тут может возникнуть вопрос: раз летучие мыши способны поднимать “частоту взятия проб” до 200 импульсов в секунду, почему же они не поддерживают ее постоянно на этом уровне? Раз у их “стробоскопа” имеется, как мы видим, “тумблер” частоты, почему же не держать его всегда “повернутым на максимум”, чтобы восприятие мира было настолько четким, насколько это возможно, – на случай любых непредвиденных обстоятельств? Одна из причин заключается в том, что такая высокая частота сигналов годится только для объектов, находящихся поблизости. Если импульс будет совсем уж “наступать на пятки” своему предшественнику, то он смешается с его эхом, возвращающимся от удаленной мишени. Даже если это не проблема, существуют, вероятно, и серьезные экономические причины для того, чтобы не поддерживать частоту импульсов постоянно на максимуме. Производить громкие ультразвуковые сигналы дорого. Это касается и расхода энергии, и износа голосового и слухового аппаратов, а также, возможно, и “машинного времени”. Мозг, занятый обработкой 200 отдельных эхо в секунду, может не изыскать “резервной мощности”, чтобы подумать о чем-нибудь еще. Даже “дежурный” уровень десять импульсов в секунду – это, вероятно, дорогое удовольствие, но все же куда меньшая роскошь по сравнению с максимальным, равным 200 импульсам в секунду. Отдельно взятая летучая мышь, которая резко повысит “дежурную частоту”, израсходует столько дополнительной энергии и т. п., что это не окупится более тонкой отлаженностью сонара. Когда в непосредственной близости от летучей мыши нет никаких движущихся объектов, кроме нее самой, то нет никакой необходимости обновлять картинку чаще, чем раз в десятую долю секунды, потому что за это время изображение меняется несильно. Если же поблизости появляется другой движущийся объект, к примеру летящее насекомое, которое крутится, уворачивается и пикирует, отчаянно стараясь избавиться от преследователя, то дополнительные выгоды летучей мыши оправдывают и, более того, превосходят увеличение издержек. Разумеется, данный анализ затрат и выгод целиком и полностью предположителен, но что-то подобное имеет место почти наверняка.
Инженеру, который приступает к разработке эффективного сонара или радара, очень скоро придется столкнуться с затруднением, вытекающим из необходимости делать импульсы чрезвычайно громкими. А они должны быть громкими, поскольку, когда звук распространяется, его волновой фронт имеет форму бесконечно увеличивающейся сферы. Интенсивность сигнала распределяется, в известном смысле “разбавляется” на всю поверхность этой сферы. Площадь поверхности любой сферы пропорциональна квадрату ее радиуса. Таким образом, по мере того как звуковая волна распространяется, а сфера растет, в каждой отдельной ее точке интенсивность сигнала ослабевает пропорционально не расстоянию от источника (т. е. радиусу), а квадрату этого расстояния. Это значит, что, удаляясь от своего источника (в данном случае от летучей мыши), звук стихает довольно быстро.
Когда этот “разбавленный” звук сталкивается с каким-либо объектом, например с мошкой, он отскакивает от нее рикошетом. Этот отраженный звук, в свою очередь, тоже идет увеличивающимся сферическим фронтом. По тем же причинам, что и в случае с исходным звуком, он ослабевает пропорционально квадрату расстояния от мошки. Когда сигнал в виде эха возвращается к летучей мыши, он ослаблен пропорционально не расстоянию от нее до мошки и даже не квадрату этого расстояния, а скорее квадрату квадрата, четвертой степени. Иными словами, он очень, очень тихий. Эту проблему можно отчасти решить, если направлять звук при помощи некоего подобия мегафона, но для этого летучая мышь уже должна знать направление, в котором находится ее мишень. Как бы то ни было, если летучей мыши требуется получать хоть сколько-нибудь заметное эхо от удаленных объектов, то ее исходный писк должен, несомненно, быть очень громким, а ухо – инструмент, который улавливает эхо, – высокочувствительным к очень тихим звукам. Как я уже упоминал, летучие мыши, в самом деле зачастую вопят как резаные, обладая при этом тончайшим слухом.
И тут возникает затруднение, способное обескуражить инженера, который взялся бы за разработку машины, похожей на летучую мышь. Раз микрофон, или ухо, обладает такой высокой чувствительностью, значит, ему грозит нешуточная опасность быть серьезно поврежденным своими же оглушительно громкими исходящими сигналами. Бесполезно бороться с этой проблемой, уменьшая силу звука, – тогда эхо будет слишком слабым, чтобы его можно было уловить. А против этой проблемы будет бесполезно бороться увеличением чувствительности микрофона (уха) – ведь оно лишь сделает его более уязвимым для повреждения исходящими сигналами (пусть даже они и станут чуточку слабее). Эта дилемма неизбежно следует из огромной разницы в интенсивности между исходящим сигналом и его эхом – разницы, неумолимо навязываемой нам законами физики.
Какой еще выход мог бы прийти в голову нашему инженеру? Когда разработчики радара времен Второй мировой столкнулись с этой проблемой, решение, на которое они натолкнулись, было названо ими “радаром с автоматизированной передачей и приемом”. Этот радар посылал достаточно мощные импульсы, которые вполне могли бы повредить высокочувствительные антенны, ожидающие слабых отраженных сигналов. Но схема “автоматизированной передачи и приема” временно отключала принимающую антенну непосредственно перед испусканием сигнала, а затем снова включала ее – так, чтобы она успела уловить эхо.
Рукокрылые отладили технологию “автоматизированной передачи и приема” давным-давно – вероятно, за миллионы лет до того, как наши с вами предки спустились с деревьев. А работает она так. В ушах у летучих мышей, так же как и у нас, звук передается от барабанной перепонки к сенсорным “клеткам-микрофонам” по мостику из трех миниатюрных косточек, названия которых соответствуют их форме и переводятся с латыни как “молоточек”, “наковальня” и “стремечко”. Надо сказать, что соединение и расположение этих трех косточек в точности таково, каким бы сделал его звуковой инженер, чтобы решить проблему согласования сопротивлений, но это другая история. Сейчас нам важно то, что у некоторых летучих мышей к стремечку и к молоточку подведены хорошо развитые мускулы. Когда они сокращаются, эффективность передачи звука через косточки падает – как если бы вы заглушили микрофон, пальцем придавив вибрирующую диафрагму. При помощи этих мышц рукокрылые способны временно выключать свои уши. Каждый раз непосредственно перед тем, как произвести исходящий звуковой импульс, летучая мышь сокращает эти мускулы, отключая таким образом уши и защищая их от повреждения громким сигналом. Затем мускулы расслабляются, и уши возвращаются в режим максимальной чувствительности – как раз вовремя, чтобы уловить вернувшееся эхо. Такая система переключения передачи и приема имеет смысл, только если координация во времени выверена с точностью до мгновения. Летучая мышь Tadarida способна поочередно сократить и расслабить эти мышцы-выключатели 50 раз в секунду, сохраняя абсолютную синхронность с пулеметными очередями исходящих ультразвуковых импульсов. Это чудо слаженности сравнимо с хитроумным изобретением, использовавшимся на некоторых истребителях в Первую мировую войну. Их пулеметы стреляли “сквозь” пропеллер – частота выстрелов была так тщательно скоординирована с его вращением, что пули неизменно пролетали между лопастями, не задевая их.
Затем наш инженер мог бы задуматься о следующей проблеме. Раз принцип работы сонара основан на измерении продолжительности паузы между звуком и его эхом – прием, которым, очевидно, пользуется Rousettus, – то издаваемым звукам следовало бы, по всей вероятности, быть отрывистыми, стаккато. Долгий, протяжный звук может не успеть закончиться к моменту возвращения эха и, даже будучи отчасти приглушен мускулами автоматического переключения передачи и приема, помешать восприятию. Действительно, может показаться, что в идеале импульсы рукокрылых должны быть чрезвычайно короткими. Однако чем короче звук, тем сложнее сделать его достаточно мощным, чтобы произвести хоть сколько-нибудь приемлемое эхо. Похоже, законы физики ставят нас перед необходимостью еще одного неприятного компромисса. Искусным инженерам тут могли бы прийти в голову два решения, и они действительно пришли им в голову при встрече с аналогичной проблемой – только опять-таки это было в ходе разработки радара. Какое из данных двух решений предпочтительнее, зависит от того, что важнее измерить: дальность (на каком расстоянии от прибора находится объект) или скорость (насколько быстро объект перемещается относительно прибора). Первое решение известно специалистам по радиолокации как “чирплет-радар”.
Сигналы радара можно представить как серию импульсов, однако каждый импульс характеризуется так называемой несущей частотой, которая аналогична “высоте” звука или ультразвука. Как мы знаем, крики летучих мышей повторяются с периодичностью, равной десяткам или сотням в секунду. Несущая частота каждого из этих импульсов измеряется десятками и сотнями тысяч повторяющихся циклов в секунду. Другими словами, каждый импульс – это высокий, пронзительный визг. Точно так же и каждый сигнал радара представляет собой “визг” радиоволн, отличающийся высокой несущей частотой. Особенностью чирплет-радара является то, что на протяжении каждого его “взвизгивания” несущая частота не является неизменной, а “взмывает” или “сползает” приблизительно на октаву. Если вам нужен эквивалентный звуковой образ, то представьте себе, что во время каждого импульса радар как бы присвистывает от удивления. Преимущество чирплет-радара перед радаром с фиксированной высотой импульсов состоит в следующем. Неважно, закончился исходящий “присвист” к моменту возвращения своего эха или еще нет. Их все равно не перепутаешь. Ведь эхо, улавливаемое в каждый конкретный момент времени, будет отражением более ранней части сигнала и потому иметь отличную от него частоту.
Разработчики человеческого радара извлекли немалую пользу из этой остроумной методики. А есть ли доказательства в пользу того, что летучие мыши тоже ее “открыли”, как это было с автоматизированной передачей и приемом? Ну, вообще-то многие виды рукокрылых действительно издают крики, высота которых постепенно снижается примерно на октаву. Такие “присвистывающие” сигналы называются частотно-модулированными (frequency modulated, FM). Казалось бы, это именно то, что нужно, чтобы воспользоваться принципом чирплет-радара. Тем не менее имеющиеся на сегодняшний день факты говорят о том, что летучие мыши используют этот метод не для того, чтобы отличать эхо от исходного сигнала, а для более тонкой задачи – чтобы отличать одно эхо от другого. Летучая мышь живет в мире эха, которое доносится от близких объектов, дальних объектов и от объектов, находящихся на всевозможных промежуточных расстояниях. Все эти звуковые отражения ей необходимо рассортировать. Если издавать плавно понижающиеся “присвистывания”, то можно провести четкую сортировку по высоте. Эхо, вернувшееся наконец от удаленного объекта, будет “старше”, чем эхо, которое в тот же момент пришло от объекта, расположенного поблизости. А значит, высота первого эха будет больше. Услышав несколько отраженных сигналов сразу, летучая мышь может положиться на простое практическое правило: чем звук выше, тем объект дальше.
Вторая идея, которая могла бы прийти в голову умному инженеру, особенно если он заинтересован в определении скорости движущейся мишени, – это сыграть на явлении, которое физики называют допплеровским смещением. Также его можно было бы назвать “эффектом скорой помощи”, поскольку наиболее известный его пример – это резкое падение высоты звука сирены у машины скорой помощи, после того как она промчится мимо нас. Допплеровское смещение наблюдается во всех случаях, когда источник звука (или света, или любых других волн) и его получатель движутся друг относительно друга. Для большей простоты представим себе, что источник звука неподвижен, а слушатель перемещается. Допустим, фабричная сирена непрерывно гудит на одной ноте. Звук распространяется вовне в виде идущих одна за другой волн. Эти волны невидимы, они из уплотненного воздуха. Но если бы их можно было увидеть, то они были бы похожи на концентрические окружности, расходящиеся по поверхности спокойного пруда от брошенных камешков. Представьте, что мы бросаем туда камешек за камешком, так что волны образуются непрерывно. Если в какой-нибудь точке этого пруда поставить на якорь игрушечную лодочку, то она будет ритмично подниматься и опускаться по мере прохождения под ней волн. Частота покачиваний лодочки аналогична высоте звука. Теперь давайте вообразим, что вместо того, чтобы стоять на якоре, наша лодочка плывет через пруд по направлению к центру, где возникают расходящиеся волны-окружности. Она по-прежнему будет покачиваться вверх-вниз, встречаясь с идущими друг за другом волнами. Но теперь, направляясь к источнику волн, она будет сталкиваться с ними чаще. Частота ее покачиваний будет выше. Когда же она минует источник волн и направится к противоположному берегу, частота, с которой она покачивается, очевидным образом уменьшится.
По тем же причинам, если мы будем мчаться на мотоцикле (желательно бесшумном) мимо гудящей фабричной сирены, то, пока мы приближаемся к фабрике, звук будет завышенным – фактически наши уши будет “накрывать” звуковой волной чаще, чем если бы мы просто сидели на одном месте. Из этих же рассуждений следует, что, когда наш мотоцикл проедет мимо фабрики и начнет от нее удаляться, высота звука понизится. Если мы остановимся, то услышим сигнал такой высоты, какая она есть на самом деле, – промежуточная между двумя значениями с допплеровским сдвигом частоты. Получается, что, зная точную высоту тона сирены, теоретически возможно вычислить, с какой скоростью мы движемся по направлению к ней или от нее. Для этого надо просто сравнить слышимую высоту звука с ее известным нам “настоящим” значением.
Этот принцип точно так же действует, когда источник звука перемещается, а слушатель неподвижен. Потому мы и можем наблюдать его в случае со скорой помощью. Ходят довольно неправдоподобные россказни, будто бы сам Кристиан Допплер, чтобы продемонстрировать свое открытие, нанял духовой оркестр, который играл на открытой грузовой платформе, несущейся по рельсам мимо изумленной публики. Что действительно важно, так это относительное движение, и, покуда речь идет о допплеровском эффекте, нам все равно – источник звука перемещается мимо уха или ухо мимо источника звука. Если два поезда едут в противоположных направлениях со скоростью 125 миль в час каждый, то для пассажира, находящегося в одном из них, свисток другого поезда должен резко понизить высоту в результате особенно значительного допплеровского смещения, поскольку относительная скорость будет составлять целых 250 миль в час.
Эффект Допплера используется и в полицейских портативных радарах – “ловушках для лихачей”. Неподвижно установленный прибор посылает радиолокационные сигналы вдоль дороги. Радиоволны отскакивают назад от приближающихся автомобилей и регистрируются приемным устройством. Чем быстрее движется машина, тем сильнее допплеровский сдвиг частоты. Сравнивая исходящую частоту с частотой возвращающегося эха, полицейские, а точнее их автоматизированная аппаратура, могут вычислить скорость каждой машины. Раз полиция освоила эту методику для ловли дорожных нарушителей, то можем ли мы надеяться, что и рукокрылые пользуются ею для измерения скорости насекомых, на которых охотятся?
Ответ будет – да. Давно известно, что мелкие летучие мыши, называемые подковоносами, издают не отрывистые щелчки и не нисходящие глиссандо, а продолжительные монотонные возгласы. Говоря “продолжительные”, я имею в виду – продолжительные по меркам рукокрылых. Эти “возгласы” все равно длятся менее десятой доли секунды. И, как мы дальше увидим, нередко в конце каждого возгласа к нему добавляется еще и нисходящее “присвистывание”. Но для начала просто представьте себе, как подковонос, непрерывно издавая ультразвуковой шум, на высокой скорости приближается к неподвижному объекту – скажем, к дереву. В связи с таким направлением движения летучей мыши звуковые волны ударяются о дерево с повышенной частотой. Если бы в дереве был спрятан микрофон, то по той причине, что животное приближается, он бы “слышал” звук с допплеровским завышением тона. В дереве нет микрофона, но точно таким же образом будет завышен тон у отражающегося от дерева эха. Итак, поскольку волны эха струятся от дерева обратно, то получается, что летучая мышь летит им навстречу. Следовательно, при восприятии летучей мышью высоты звучания эха происходит еще один допплеровский сдвиг в сторону завышения. Перемещение летучей мыши приводит к своего рода двойному допплеровскому эффекту, величина которого является точным показателем скорости движения животного относительно дерева. Сравнив высоту своего крика с высотой возвращающегося эха, летучая мышь (а точнее, встроенный в ее мозг “бортовой компьютер”) имела бы теоретическую возможность вычислить, насколько быстро она приближается к дереву. Пусть это ничего не сказало бы ей о том, как далеко от нее это дерево находится, тем не менее полученная информация сама по себе была бы очень ценной.
Если отражающий эхо объект – не неподвижное дерево, а перемещающееся насекомое, рассчитать последствия допплеровского эффекта будет труднее, однако летучая мышь будет по-прежнему иметь возможность вычислить относительную скорость своего движения по направлению к мишени – нет сомнений, что сложной управляемой ракете, какой является охотящаяся летучая мышь, эта информация крайне необходима. На самом деле некоторые рукокрылые придумали штуку поинтереснее, чем просто вопить на одной высоте и измерять высоту возвращающегося эха. Вместо этого они тщательно подстраивают высоту исходящих криков таким образом, чтобы высота эха после сдвига по Допплеру поддерживалась на неизменном уровне. Приближаясь со все возрастающей скоростью к движущемуся насекомому, они постоянно меняют высоту своих сигналов, все время добиваясь именно той частоты, какая нужна для того, чтобы сохранять высоту эха неизменной. Такая изобретательная уловка позволяет поддерживать эхо на той высоте звука, к которой уши этих летучих мышей наиболее чувствительны, что немаловажно, учитывая, насколько это эхо слабое. Следовательно, получить информацию для вычисления допплеровского эффекта животное может, следя за тем, на какой частоте ему сейчас нужно кричать для поддержания фиксированной высоты эха. Я не знаю, используется ли это ноу-хау в каких-либо рукотворных приборах, будь то сонары или радары. Но, коль скоро летучим мышам принадлежит пальма первенства во всех самых удачных решениях в данной области техники, готов биться об заклад, что используется.
Хотя может показаться, что два этих, весьма различных подхода – оценка допплеровского смещения и “чирплет-радар” – пригодны каждый для своих, особых целей, в действительности одни группы рукокрылых специализируются на первом, а другие – на втором из них. Некоторые, впрочем, пытаются, по-видимому, преуспеть и там и там, присоединяя FM-“присвистывание” к концу (или иногда к началу) протяжного “клича”, имеющего постоянную высоту. Еще один любопытный трюк, используемый подковоносами, связан с движениями их больших ушных раковин. В отличие от других летучих мышей подковоносы совершают частые взмахи ушами попеременно вперед и назад. Можно предположить, что такие дополнительные резкие перемещения звукоулавливающей поверхности относительно мишени модулируют эффект Допплера, сообщая дополнительную полезную информацию. Когда ухо делает взмах по направлению к мишени, кажущаяся скорость приближения к ней возрастает. Когда же оно отводится в противоположном направлении, все происходит наоборот. Мозгу летучей мыши “известно” направление взмахов каждого уха, и в принципе ему ничто не мешает пользоваться получаемой таким образом информацией для произведения необходимых вычислений.
Вероятно, самая серьезная из проблем, стоящих перед рукокрылыми, – это опасность непреднамеренных “помех”, создаваемых криками других летучих мышей. Однако, как показали эксперименты, сбить летучую мышь с толку мощными искусственными ультразвуковыми сигналами на удивление непросто. Впрочем, задним числом понимаешь, что это можно было предвидеть. Летучие мыши должны были научиться избегать помех еще давным-давно. Многие виды рукокрылых имеют привычку отдыхать, скапливаясь в огромных количествах в пещерах, где наверняка стоит оглушительная какофония из многочисленных ультразвуков и их эха, что, однако, не мешает летучим мышам легко порхать в полной темноте, не натыкаясь ни на стены пещеры, ни друг на друга. Каким же образом животное умудряется следить за собственным эхом, не путая его с эхом, создаваемым другими летучими мышами? Первое, что тут пришло бы в голову инженеру, – это некая разновидность частотного кодирования: каждая летучая мышь, подобно радиостанции, могла бы иметь свою собственную, личную частоту. Возможно, до некоторой степени это и так, но истинное положение дел, несомненно, сложнее.
Почему рукокрылые не “глушат” друг друга своими криками, не вполне ясно, но опыты, в которых им пытались “запудрить мозги”, дают нам любопытную подсказку. Оказывается, летучую мышь можно обмануть, если проигрывать ей запись ее собственного крика, но с задержкой. Другими словами, нужно фальшивое эхо ее собственных криков. Если аккуратно отрегулировать электронную аппаратуру, которая производит задержку этого фальшивого эха, то можно даже заставить летучую мышь пытаться сесть на “фантомную” поверхность. Полагаю, для нее это равносильно тому, чтобы смотреть на мир через линзу.
Не исключено, что у рукокрылых есть нечто, что мы могли бы назвать “фильтром странности”. Каждое последующее эхо, вызванное собственными криками летучей мыши, формирует такую картину мира, которая логична с точки зрения предшествовавшей картины, построенной на основании предыдущих отраженных сигналов. Если мозг летучей мыши услышит эхо крика другой летучей мыши и попытается поместить его в картину мира, которую он только что выстроил, получится бессмыслица. Создастся впечатление, будто все предметы вокруг стали внезапно разбегаться в разных случайных направлениях. Но предметам реального мира такое безумие несвойственно, а значит, мозг может спокойно проигнорировать подобное эхо как фоновый шум. Если же человек-экспериментатор будет подавать летучей мыши искусственное “эхо” ее сигналов с запозданием или, наоборот, преждевременно, то такие ложные звуки будут иметь смысл в рамках той картины мира, которую эта летучая мышь уже себе построила. Они являются правдоподобными в контексте своих предшественников, и потому “фильтр странности” их пропускает. Согласно им, окружающие предметы меняют свое местоположение совсем чуть-чуть, а это объектам реального мира вполне свойственно. Мозг летучей мыши твердо уверен в том, что мир, изображаемый эхом одного сигнала, должен либо ничем не отличаться от мира, нарисованного предыдущими звуковыми отражениями, либо отличаться от него незначительно. Например, преследуемое насекомое может слегка переместиться.
У философа Томаса Нагеля есть знаменитая статья, которая называется “Каково быть летучей мышью?”. Речь в ней идет не столько о рукокрылых, сколько о философской проблеме постижения того, “каково” это – быть кем-то, кем мы не являемся. Тем не менее для философа летучая мышь – пример чрезвычайно удачный, поскольку предполагается, что ощущения летучей мыши, ориентирующейся при помощи эхолокации, являются чем-то особенно чуждым для нас и отличным от наших ощущений. Можно почти с полной уверенностью сказать, что для того, чтобы почувствовать себя летучей мышью, без толку идти в пещеру, орать там, греметь кастрюлями, специально замерять продолжительность паузы до появления эха и на основании этого высчитывать, далеко ли до стены.
Все это соответствует тому, что чувствует летучая мышь, не более, чем следующее описание соответствует тому, как мы видим цвет. Возьмите прибор, измеряющий длину волны света, попадающего вам в глаз. Если она длинная – вы видите красный, а если короткая – фиолетовый или синий. Так уж вышло, и это научный факт, что у света, который мы называем красным, длина волны больше, чем у света, который мы называем синим. В нашей сетчатке включаются те или иные рецепторы – воспринимающие красный или синий – в зависимости от длины световой волны. Но понятие “длина волны” не играет ни малейшей роли в нашем субъективном восприятии цвета. То, “каково” это – различать красный и синий цвета, никоим образом не помогает нам узнать, в каком случае длина волны больше. Когда она для нас действительно важна (что бывает редко), мы должны ее просто помнить или (как обычно поступаю я) заглянуть в справочник. Аналогичным образом летучая мышь узнает местоположение насекомого, используя то, что мы называем эхом. Но когда она замечает насекомое, то думает о времени задержки эха наверняка не больше, чем мы с вами думаем о длинах волн, когда воспринимаем синий или красный цвет.
Да, в самом деле, если бы я был поставлен перед необходимостью попытаться сделать невозможное – представить себе, на что похоже быть летучей мышью, – то я предположил бы, что для летучих мышей ориентировка с помощью эха является во многом тем же самым, чем зрение для нас. Мы с вами животные, воспринимающие мир почти полностью через зрение, и потому вряд ли в состоянии осознать, какое непростое это дело. Предметы находятся “там-то”, и нам кажется, что там мы их и “видим”. Подозреваю, однако, что на самом деле мы видим искусную компьютерную модель, выстраиваемую мозгом на основании информации, приходящей извне, но преобразованной им так, чтобы ею было можно пользоваться. То, что снаружи является различиями в длине световой волны, компьютерная модель у нас в голове перекодирует в “цветовые” различия. Форма и прочие признаки трансформируются точно таким же образом, принимая вид, с которым удобно иметь дело. Наши с вами зрительные ощущения очень сильно отличаются от слуховых, но это никак напрямую не связано с физическими различиями между светом и звуком. И свет, и звук в конечном итоге переводятся соответствующими органами чувств в одни и те же нервные импульсы. По физическим свойствам нервного импульса невозможно определить, какую информацию он несет – о свете, о звуке или о запахе. Зрительные, слуховые и обонятельные ощущения так сильно отличаются друг от друга только потому, что нашему мозгу удобнее использовать разные типы внутренних моделей для мира зрительных образов, мира звуков и мира запахов. Мы используем зрительную и слуховую информацию различным образом и для разных целей – вот почему зрение и слух такие разные, а вовсе не непосредственно потому, что свет и звук – это различные физические явления.
Но летучая мышь использует звуковую информацию во многом для той же самой цели, для которой мы используем информацию зрительную. Она определяет местоположение предметов в трехмерном пространстве (и постоянно обновляет информацию об этом) с помощью звуков, так же как мы делаем это с помощью света. Следовательно, ей нужна такая внутренняя компьютерная модель, которая могла бы создавать образы, отражающие перемещение объектов в трехмерном пространстве. Суть здесь в том, что те формы, которые примет субъективный опыт животного, будут свойством его внутренней компьютерной модели. Эта модель конструируется в процессе эволюции исходя из того, насколько она годна для создания полезных внутренних представлений, безотносительно физической природы поступающих извне стимулов. Летучим мышам нужна такая же внутренняя модель для отображения местонахождения предметов в трехмерном пространстве, что и нам с вами. Тот факт, что их внутренняя модель формируется при помощи эха, а наша – при помощи света, не имеет отношения к делу. И та и другая внешняя информация будет на своем пути к мозгу преобразована в одинаковые нервные импульсы.
Итак, мое предположение состоит в том, что летучие мыши “видят” примерно так же, как и мы, пусть даже физический посредник, через который происходит преобразование внешнего мира в нервные импульсы, у них и совершенно иной: ультразвук, а не свет. Возможно, они даже могут испытывать ощущения, которые мы называем цветовыми, – эти ощущения не отсылают к физике и длине волн, но они отражают разнообразие внешнего мира и играют для летучих мышей ту же функциональную роль, какую цвет играет для нас. Кто знает, может быть, тонкая текстура поверхности у их самцов такова, что эхо, отскакивающее от нее, производит на самок впечатление роскошной окраски – этакий звуковой аналог брачного наряда райской птицы. И я подразумеваю под этим не просто какую-то расплывчатую метафору. Нет ничего невозможного в том, чтобы самка летучей мыши субъективно воспринимала самца, скажем, ярко-красным – точно так же, как я воспринимаю фламинго. Ну или, по меньшей мере, восприятие летучей мышью своего брачного партнера может отличаться от моего зрительного восприятия фламинго не больше, чем мое зрительное восприятие фламинго отличается от того, как фламинго видится другому фламинго.
Дональд Гриффин рассказывает, что было, когда в 1940 г. он и его коллега Роберт Галамбос впервые сообщили потрясенным участникам зоологической конференции о своем открытии эхолокации у рукокрылых. Скептицизм одного прославленного ученого сопровождался таким негодованием, что:
…он схватил Галамбоса за плечи и стал его трясти, попутно возмущаясь, что мы, конечно же, просто не могли иметь в виду такую дикость. Радар и сонар в то время еще относились к особо секретным военным разработкам, и мнение, будто летучие мыши способны на что-то, хотя бы отдаленно напоминающее недавние успехи электронной техники, оказалось для многих не только поразительно неправдоподобным, но и неприятным.
Этого знаменитого скептика легко понять. В таком нежелании поверить есть что-то очень человеческое. А точнее говоря, именно человеческое оно и есть. Именно из-за того, что наши собственные, человеческие чувства неспособны к тому, что по плечу рукокрылым, нам так тяжело поверить в это. Нам трудно представить себе, что то, что мы можем понять только на уровне искусственной аппаратуры или математических вычислений на бумаге, маленькое животное способно производить в своей голове. Однако математические расчеты, объясняющие основы зрения, будут точно так же сложны и труднопостижимы, но при этом ни для кого не составляет труда верить в то, что маленькие зверьки способны видеть. Причина таких двойных стандартов у нашего скептицизма весьма проста: видеть мы можем, а к эхолокации неспособны.
Я представляю себе мир, в котором ученое собрание существ, напоминающих летучих мышей и полностью слепых, ошеломлено известием о том, что животные, называемые людьми, способны, как это ни странно, использовать для ориентировки недавно открытые неслышимые лучи, называемые “световыми”, пока что являющиеся предметом сверхсекретных военных разработок. Эти в остальном непримечательные создания почти абсолютно глухие (на самом деле они в какой-то мере способны слышать и даже издавать немногочисленные неуклюже медленные, низкие и однообразные звуки, но используют эти урчания только для примитивных целей – например, для общения друг с другом – и, по-видимому, неспособны обнаруживать даже самые крупные объекты с их помощью). Вместо этого у них есть высокоспециализированные органы, так называемые глаза, для восприятия “световых” лучей. Основным источником этих лучей является солнце, и людям, что примечательно, удается использовать сложные отражения, отбрасываемые предметами при попадании на них солнечных лучей. У них имеется хитроумное устройство – “хрусталик”, – форма которого как будто бы математически рассчитана таким образом, чтобы направлять эти бесшумные лучи на пласт клеток, известный как “сетчатка”, где формируется точный образ, однозначно соответствующий взаимному расположению предметов окружающего мира. Каким-то непостижимым способом клетки сетчатки делают свет, с позволения сказать, “слышимым” и передают эту информацию в мозг. Наши математики показали, что если правильно выполнять довольно сложные расчеты, то безопасное перемещение в пространстве при помощи этих световых лучей теоретически возможно. И это будет так же эффективно, как и при помощи обычного ультразвука, а в некоторых отношениях даже более эффективно! Но кто бы мог подумать, что примитивные люди способны производить подобные вычисления?
Эхолотирование у летучих мышей – всего лишь один из тысяч примеров, на которых я мог бы пояснить свою мысль о превосходном устройстве. Животные производят такое впечатление, будто они были спроектированы искушенным в теории и поднаторевшим в практике физиком или инженером, однако нет никаких оснований предполагать, что сами рукокрылые знакомы с теорией и понимают ее в том же смысле, в каком ее понимает физик. Летучую мышь можно сравнить с полицейским радаром-ловушкой, а не с человеком, который его изобрел. Проектировщик детектора скорости понимал теоретические основы допплеровского эффекта, и это понимание выражалось в математических уравнениях, выписанных на бумаге во всех подробностях. Понимание создателя воплощено в устройстве прибора, но сам прибор не понимает того, как он работает. В состав прибора входят электронные элементы, которые соединены друг с другом таким образом, чтобы автоматически сличать две разные частоты радиоволн и переводить результат в удобные для использования единицы – мили в час. Совершаемые при этом вычисления сложны, но вполне по силам маленькой коробочке, начиненной современными электронными компонентами, если их правильно соединить друг с другом. Разумеется, осуществил это соединение (или по крайней мере разработал его схему) сложно устроенный и обладающий сознанием мозг, однако в непосредственной работе коробочки никакой обладающий сознанием мозг не участвует.
Благодаря знакомству с электронной техникой мы подготовлены к тому, чтобы согласиться: не имеющие сознания механизмы могут вести себя так, как будто они разбираются в сложных математических понятиях. Эта мысль полностью правомерна и тогда, когда речь идет о работе живых механизмов. Летучая мышь – это машина, электронное содержимое которой соединено таким образом, чтобы мускулы крыльев наводили ее на насекомых. По тому же принципу и неразумная управляемая ракета преследует самолет. До этих пор наша интуитивная аналогия с техникой была корректна. Однако знакомство с техникой подготовило нас и к тому, чтобы в возникновении сложно устроенных машин видеть руку разумного и целеустремленного создателя. В случае живых механизмов эта вторая, основанная на интуиции аналогия ошибочна. Их “проектировщиком” был бессознательный естественный отбор, слепой часовщик.
Я надеюсь, что эти истории из жизни летучих мышей вызывают в читателях такое же благоговение, какое они вызывают во мне и наверняка вызвали бы в Уильяме Пейли. В одном отношении наши с ним цели совпадают. Я не хочу, чтобы читатель недооценивал необычайные творения природы и то, каких сложных объяснений они требуют. И хотя во времена Пейли об эхолокации у рукокрылых еще не было известно, она подходит для его целей не хуже любого из приведенных им примеров. Пейли растолковывал свою мысль, приумножая примеры. Он прошелся по всему нашему организму – от головы до пальцев ног, – показывая, как каждая мельчайшая деталь каждой его части напоминает внутреннее устройство великолепно сработанных часов. Мне очень хотелось бы поступить точно так же, ведь тут можно рассказать немало удивительных историй, а рассказывать истории – моя слабость. Но на самом деле нет никакой необходимости плодить примеры. Одного-двух вполне достаточно. Весьма вероятно, что гипотеза, способная объяснить навигацию у летучих мышей, сможет объяснить все что угодно в мире живого, а если объяснение Пейли неверно хотя бы для одного из приведенных им примеров, то количеством дела уже не поправишь. Его гипотеза состояла в том, что “живые часы” были в буквальном смысле сконструированы и созданы искусным часовщиком. Наша современная гипотеза утверждает, что эта работа была проделана естественным отбором, причем постепенно, эволюционным путем.
Сегодняшние богословы отнюдь не так прямолинейны, как Пейли. Они не показывают пальцем на сложные живые механизмы, заявляя, что те, подобно часам, несомненно были придуманы неким создателем. Вместо этого наблюдается тенденция указывать на них со словами, что, дескать, “невозможно поверить”, будто такая сложность или такое совершенство могли развиться в результате естественного отбора. Читая подобные высказывания, я всегда испытываю желание написать на полях: “Говори за себя”. В недавно вышедшей книге “Вероятность Бога”, написанной епископом Бирмингемским Хью Монтефиоре, можно найти немало примеров такого подхода (только в одной главе я насчитал 35). До конца настоящей главы я буду пользоваться примерами из этого сочинения, поскольку оно представляет собой искреннюю и честную попытку уважаемого и образованного автора привести теологию природы в соответствие с новыми данными. Говоря “честную”, я имею в виду честную. В отличие от некоторых из своих коллег-богословов епископ Монтефиоре не боится утверждать, что вопрос о том, существует Бог или нет, – это типичный вопрос факта. Он не разменивается на хитрые уловки типа “христианство – это образ жизни; вопрос о существовании Бога больше не стоит, он не более чем мираж, навеянный реалистическими иллюзиями”. Некоторые части его книги посвящены физике и космологии, и не в моей компетенции их комментировать; отмечу разве, что, судя по всему, в качестве источников он использовал работы настоящих физиков. Ах, если бы он поступил так же и в отношении биологических разделов! Увы, тут он предпочел обратиться к трудам Артура Кестлера, Фреда Хойла, Гордона Рэттрей-Тейлора и Карла Поппера. Епископ верит в эволюцию, но не считает естественный отбор подходящим объяснением для того направления, которое эволюция приняла (отчасти в связи с тем прискорбным обстоятельством, что, как и многие другие, ошибочно представляет себе естественный отбор “случайным” и “бессмысленным”).
Он вовсю использует то, что можно определить как Убеждение Личным Недоверием. По ходу одной из глав мы встречаем следующие фразы в указанном порядке:
…С позиций дарвинизма тут, видимо, нет объяснения… Не проще будет объяснить… Трудно согласиться… Нелегко согласиться… Равным образом затруднительно объяснить… Я не думаю, что будет легко признать… Я с трудом могу себе представить… Я нахожу трудным для понимания… Такое объяснение не кажется правдоподобным… Не представляю себе, каким образом… Многие сложности поведения животных неодарвинизм, по-видимому, объяснить не в состоянии… Нелегко постичь, как такое поведение могло возникнуть посредством одного лишь естественного отбора… Это невероятно… Как мог столь сложный орган возникнуть в ходе эволюции?.. Нелегко увидеть… Трудно увидеть…
Как отмечал еще Дарвин, Убеждение Личным Недоверием чрезвычайно неубедительно. В некоторых случаях такой подход опирается на обычное невежество. Например, один из фактов, который епископ находит трудным для понимания, – это окраска белого медведя.
Если говорить о маскировке, то она не всегда легко поддается объяснению с неодарвинистских позиций. Раз белые медведи господствуют в Арктике, значит, у них не было видимой необходимости обзаводиться белой маскировкой.
Стоит перевести:
Орган или тело можно назвать хорошо сконструированными, если они обладают некими свойствами, которые им мог бы придать толковый инженер ради выполнения какой-то осмысленной задачи: полета, плавания, зрения, питания, размножения – или, говоря более широко, для выживания и распространения генов организма. И вовсе не обязательно, чтобы их устройство было самым лучшим, какое только может придумать инженер. Зачастую то, что является пределом возможностей одного инженера, удается превзойти другому – особенно если этот другой инженер живет в эпоху более развитых технологий. Но любой инженер способен распознать объект, который был, пусть даже и плохо, разработан для какой-то цели, а в большинстве случаев и понять, какова была эта цель, просто исходя из строения этого объекта. В главе 1 мы занимались по большей части философскими сторонами вопроса. Сейчас же я собираюсь изложить один конкретный, основанный на фактах пример, который, я уверен, способен поразить любого инженера, – а именно рассказать о сонаре (“радаре”) летучих мышей. Я буду идти по пунктам и каждый раз начинать с формулировки той или иной проблемы, стоящей перед живой машиной. Затем я буду рассматривать возможные варианты решения этой проблемы, какие могли бы прийти в голову разумному инженеру, а в заключение рассказывать о том решении, которое было принято природой на самом деле. Разумеется, этот конкретный пример взят просто для иллюстрации. Инженер, которого впечатлят летучие мыши, наверняка будет впечатлен и другими бесчисленными примерами устройства живых объектов.
Перед летучими мышами стоит проблема: как ориентироваться в темноте? Они охотятся по ночам и не могут использовать свет, чтобы обнаруживать добычу и не натыкаться на препятствия. Вы, возможно, скажете, что эта трудность надуманная и что ее легко избежать, просто поменяв свои привычки и охотясь днем. Однако дневная экономика и без того интенсивно эксплуатируется другими существами, например птицами. Поскольку имелись способы добывать себе хлеб насущный и ночью, а все альтернативные дневные профессии были уже заняты, то естественный отбор благоприятствовал тем летучим мышам, которые смогли преуспеть в ремесле ночной охоты. Кстати говоря, эта ночная деятельность уходит своими корнями, вероятно, к предкам всех нас, млекопитающих. Скорее всего, в те времена, когда в дневной экономике господствовали динозавры, нашим предкам-млекопитающим удавалось выжить, только кое-как перебиваясь по ночам. Лишь после необъяснимого массового вымирания динозавров около 65 млн лет назад наши предки получили возможность выглянуть на свет дневной в хоть сколько-нибудь заметных количествах.
Но вернемся к летучим мышам. Перед ними стоит инженерная задача: находить дорогу и добычу в темноте. Летучие мыши – не единственные, кто сталкивается сегодня с этой трудностью. Очевидно, что ночные насекомые, которые служат летучим мышам добычей, сами тоже должны как-то ориентироваться в пространстве. Глубоководным рыбам и китам перепадает мало света что днем, что ночью – или не перепадает вовсе. Это связано с тем, что солнечные лучи не могут проникать далеко в толщу воды. Рыбы и дельфины, живущие в чрезвычайно мутной воде, не имеют возможности видеть, поскольку, хотя свет там и есть, его загораживают и рассеивают взвешенные частички мути. Множеству других современных животных также приходится обеспечивать свое существование в условиях, когда использование зрения затруднено или невозможно.
Если бы инженеру было нужно решить проблему маневрирования в темноте, какие варианты он стал бы рассматривать? Первое, что могло бы прийти ему в голову, – это создать источник света, использовать нечто вроде фонарика или прожектора. Самостоятельно производить свет способны светляки и некоторые глубоководные рыбы (обычно при помощи бактерий), но процесс этот, судя по всему, крайне энергоемкий. Светляки излучают свет, чтобы привлечь партнеров для спаривания. Это не требует чрезмерных энергетических затрат: в ночной темноте самка видит с определенного расстояния точечные огоньки самцов, когда те попадают в поле ее зрения. Но для того, чтобы использовать свет для ориентировки, энергии требуется несоизмеримо больше, так как в этом случае глаза должны улавливать каждую крохотную порцию света, отражающуюся от каждой детали окружающей обстановки. Таким образом, тот источник света, который используется в качестве освещающих дорогу фар, должен быть значительно ярче, чем тот, что служит сигнальным маяком для других существ. Как бы то ни было, в расходе энергии тут дело или в чем другом, но положение дел, по всей видимости, таково, что, за возможным исключением некоторых жуткого вида глубоководных рыб, никто из животных, кроме человека, не использует искусственное освещение для ориентировки.
О чем еще мог бы подумать наш инженер? Ну, слепые люди иногда обладают способностью, которая может показаться сверхъестественной, – чувствовать препятствия на своем пути. Она была названа “лицевым зрением”, так как, по словам самих слепых, это ощущение несколько сродни прикосновениям к лицу. Помнится, как-то сообщалось об одном полностью слепом мальчике, который, используя “лицевое зрение”, с хорошей скоростью объезжал свой квартал на трехколесном велосипеде. Эксперименты показали, что на самом деле это “лицевое зрение” ничего общего с прикосновениями к лицу не имеет, хотя ощущения могут отражаться на переднюю часть лица, подобно отраженным (фантомным) болям в ампутированной конечности. В действительности же, как оказалось, ощущения эти приходят через уши. Слепые люди, даже не осознавая этого, для обнаружения препятствий используют эхо своих шагов и прочих звуков. Еще до того, как это выяснилось, инженеры уже создавали приборы, работающие на том же принципе, – к примеру, чтобы измерить глубину моря под кораблем. Стоило изобрести эту методику, как ее применение разработчиками оружия для обнаружения подводных лодок стало только вопросом времени. В ходе Второй мировой обе воюющие стороны во многом полагались на такие устройства – например, на те, что известны под кодовыми названиями Asdic (британское) и Sonar (американское), а также на использующие сходную технологию системы Radar (американская) и RDF (британская), которые улавливают эхо не звуковых, а радиосигналов.
Первооткрыватели сонара и радара не знали об этом, но теперь всему миру известно, что рукокрылые, а точнее естественный отбор, работавший над рукокрылыми, отладили этот метод на десятки миллионов лет раньше, и их “радар” обеспечивает распознавание объектов и навигацию столь великолепно, что инженеру остается лишь неметь от восхищения. Если подходить формально, то говорить о “радаре” у летучих мышей некорректно, так как они не используют радиоволны. Это скорее сонар. Однако математические теории, лежащие в основе радара и сонара, очень сходны, и наше научное понимание подробностей того, что происходит у летучих мышей, достигнуто во многом благодаря применению к ним теоретических основ работы радара. Американский зоолог Дональд Гриффин, которому мы в значительной степени обязаны открытием сонара у рукокрылых, придумал термин “эхолокация”, призванный объединить все механизмы наподобие сонара или радара – как используемые животными, так и созданные человеком. На практике же это слово стало применяться главным образом по отношению к сонару у животных.
Неверно говорить о летучих мышах так, будто все они одинаковы. Это все равно что говорить о собаках, львах, горностаях, медведях, гиенах, пандах и выдрах сразу одним скопом только потому, что все они относятся к хищникам. Различные группы рукокрылых используют сонар совершенно по-разному, и похоже, что они “изобрели” его порознь и независимо, – точно так же, как британцы, немцы и американцы независимо друг от друга изобрели радар. Не все рукокрылые используют эхолокацию. Крыланы, обитающие в тропических областях Старого Света, хорошо видят и ориентируются только при помощи зрения. Тем не менее представители одного или двух видов крыланов, например Rousettus, способны находить дорогу в полной темноте, когда глаза, как бы хороши они ни были, бессильны. Они пользуются сонаром, хотя и более топорным по сравнению с тем, что встречается у летучих мышей меньшего размера, хорошо знакомых нам, жителям умеренных широт. Rousettus во время полета громко и ритмично щелкает языком и ориентируется в пространстве, измеряя промежуток времени от каждого щелчка до его эха. Немалая доля щелчков Rousettus слышна и нам (из этого по определению следует, что они относятся к звукам, а не к ультразвукам; ультразвук – это тот же звук, только слишком высокий для человеческого уха).
Теоретически чем выше звук, тем более точным будет сонар. Низкие звуки характеризуются большей длиной волны, что не позволяет различать объекты, расположенные поблизости друг от друга. Поэтому если система наведения ракеты ориентируется при помощи эха, то в идеале, при отсутствии каких-либо особых ограничивающих условий, ракета будет испускать звуковые волны очень высокой частоты. Большинство летучих мышей действительно пользуются чрезвычайно высокими звуковыми сигналами – слишком высокими, чтобы люди могли их услышать, то есть ультразвуковыми. В отличие от Rousettus, который с помощью неспециализированных и относительно низких звуков устраивает себе небольшое эхолокационное приложение к хорошему зрению, мелкие рукокрылые, судя по всему, представляют собой куда более эффективные аппараты для эхонавигации. Вероятно, от их крохотных глазенок проку в большинстве случаев немного. Они живут в мире эха, и возможно, их мозг использует эхо для создания образов сродни зрительным, хотя мы вряд ли в состоянии “представить себе”, на что эти образы могут быть похожи. Шумы, производимые летучими мышами, не просто чуть-чуть выше тех, что можем услышать мы, как, например, ультразвуковой свисток для собак. Во многих случаях они несоизмеримо выше любой ноты, какую мы когда-либо только могли услышать или хотя бы вообразить. Кстати говоря, не слышим мы летучих мышей на свое счастье, ибо орут они так оглушительно, что спать под этот звук было бы невозможно.
Они словно самолеты-разведчики, ощетинившиеся сложнейшей аппаратурой. Их мозги – тонко настроенные компактные устройства, начиненные фантастической миниатюрной электроникой и оснащенные замысловатым программным обеспечением, расшифровывающим сигналы из мира эха в режиме реального времени. Их мордочки зачастую искривлены, как у горгулий, и кажутся отвратительными, если не принимать во внимание то, чем они являются на самом деле – это безупречные конструкции, позволяющие посылать ультразвук в любом нужном направлении.
Хотя мы и неспособны слышать ультразвуковые импульсы этих животных, некоторое представление о происходящем можно получить благодаря машине-переводчику – так называемому детектору летучих мышей. Этот прибор принимает ультразвуковые сигналы через специальный микрофон и превращает каждый импульс в щелчок или гудок, который мы можем услышать через наушники. Если мы придем с таким детектором на поляну, где кормится летучая мышь, мы будем слышать, когда производится тот или иной сигнал, хотя как “звучат” эти сигналы на самом деле, мы все равно не узнаем. Если наша летучая мышь – это представитель повсеместно распространенной группы ночниц Myotis, в обычном режиме исследующий участок своей охоты, то нам будет слышно бубнящее щелканье, примерно десять щелчков в секунду. Это темп стандартного телетайпа или ручного пулемета “Брен”.
Предполагается, что когда летучая мышь таким образом курсирует по окрестностям, ее картина мира обновляется десять раз в секунду. Наша же с вами картина мира обновляется, по-видимому, непрерывно – до тех пор пока мы держим свои глаза открытыми. Представить себе, каково это – иметь картину мира с прерывистой корректировкой, мы можем, используя стробоскоп в ночное время. Это иногда делается на дискотеках и бывает довольно зрелищно. Танцующий человек выглядит как ряд сменяющих друг друга неподвижных изваяний. Очевидно, что чем более высокую частоту миганий мы установим, тем больше то, что мы видим, будет похоже на нормальное “непрерывное” изображение. Стробоскопическое “взятие зрительных проб” с частотой десять раз в секунду будет почти в той же степени, что и “непрерывное” зрение, годиться для многих повседневных целей, но не для того, чтобы поймать мяч или насекомое.
Однако эта частота пробная, используемая летучей мышью при обычном крейсерском полете. Как только ночница замечает насекомое и начинает лететь наперехват, частота ее щелчков возрастает. Импульсы издаются быстрее, чем пули в пулеметной очереди, и вблизи летающей мишени доходят до 200 за секунду. Чтобы это сымитировать, мы должны будем разогнать наш стробоскоп так, чтобы его вспышка мигала в два раза чаще, чем происходят циклические перепады сетевого напряжения, заметные при работе ламп дневного света. Понятно, что в видимом мире, “пульсирующем” со столь высокой частотой, мы будем в состоянии пользоваться нашим зрением без затруднений даже для игры в сквош или в настольный теннис. Если мы допускаем, что мозг рукокрылых выстраивает образы, аналогичные нашим зрительным, то исходя только из частоты импульсов можно предположить, что картина мира, получаемая летучей мышью с помощью эха, не менее подробна и “непрерывна”, чем видимая нами. Разумеется, это не означает отсутствия других причин, в силу которых она может быть менее детализованной.
Тут может возникнуть вопрос: раз летучие мыши способны поднимать “частоту взятия проб” до 200 импульсов в секунду, почему же они не поддерживают ее постоянно на этом уровне? Раз у их “стробоскопа” имеется, как мы видим, “тумблер” частоты, почему же не держать его всегда “повернутым на максимум”, чтобы восприятие мира было настолько четким, насколько это возможно, – на случай любых непредвиденных обстоятельств? Одна из причин заключается в том, что такая высокая частота сигналов годится только для объектов, находящихся поблизости. Если импульс будет совсем уж “наступать на пятки” своему предшественнику, то он смешается с его эхом, возвращающимся от удаленной мишени. Даже если это не проблема, существуют, вероятно, и серьезные экономические причины для того, чтобы не поддерживать частоту импульсов постоянно на максимуме. Производить громкие ультразвуковые сигналы дорого. Это касается и расхода энергии, и износа голосового и слухового аппаратов, а также, возможно, и “машинного времени”. Мозг, занятый обработкой 200 отдельных эхо в секунду, может не изыскать “резервной мощности”, чтобы подумать о чем-нибудь еще. Даже “дежурный” уровень десять импульсов в секунду – это, вероятно, дорогое удовольствие, но все же куда меньшая роскошь по сравнению с максимальным, равным 200 импульсам в секунду. Отдельно взятая летучая мышь, которая резко повысит “дежурную частоту”, израсходует столько дополнительной энергии и т. п., что это не окупится более тонкой отлаженностью сонара. Когда в непосредственной близости от летучей мыши нет никаких движущихся объектов, кроме нее самой, то нет никакой необходимости обновлять картинку чаще, чем раз в десятую долю секунды, потому что за это время изображение меняется несильно. Если же поблизости появляется другой движущийся объект, к примеру летящее насекомое, которое крутится, уворачивается и пикирует, отчаянно стараясь избавиться от преследователя, то дополнительные выгоды летучей мыши оправдывают и, более того, превосходят увеличение издержек. Разумеется, данный анализ затрат и выгод целиком и полностью предположителен, но что-то подобное имеет место почти наверняка.
Инженеру, который приступает к разработке эффективного сонара или радара, очень скоро придется столкнуться с затруднением, вытекающим из необходимости делать импульсы чрезвычайно громкими. А они должны быть громкими, поскольку, когда звук распространяется, его волновой фронт имеет форму бесконечно увеличивающейся сферы. Интенсивность сигнала распределяется, в известном смысле “разбавляется” на всю поверхность этой сферы. Площадь поверхности любой сферы пропорциональна квадрату ее радиуса. Таким образом, по мере того как звуковая волна распространяется, а сфера растет, в каждой отдельной ее точке интенсивность сигнала ослабевает пропорционально не расстоянию от источника (т. е. радиусу), а квадрату этого расстояния. Это значит, что, удаляясь от своего источника (в данном случае от летучей мыши), звук стихает довольно быстро.
Когда этот “разбавленный” звук сталкивается с каким-либо объектом, например с мошкой, он отскакивает от нее рикошетом. Этот отраженный звук, в свою очередь, тоже идет увеличивающимся сферическим фронтом. По тем же причинам, что и в случае с исходным звуком, он ослабевает пропорционально квадрату расстояния от мошки. Когда сигнал в виде эха возвращается к летучей мыши, он ослаблен пропорционально не расстоянию от нее до мошки и даже не квадрату этого расстояния, а скорее квадрату квадрата, четвертой степени. Иными словами, он очень, очень тихий. Эту проблему можно отчасти решить, если направлять звук при помощи некоего подобия мегафона, но для этого летучая мышь уже должна знать направление, в котором находится ее мишень. Как бы то ни было, если летучей мыши требуется получать хоть сколько-нибудь заметное эхо от удаленных объектов, то ее исходный писк должен, несомненно, быть очень громким, а ухо – инструмент, который улавливает эхо, – высокочувствительным к очень тихим звукам. Как я уже упоминал, летучие мыши, в самом деле зачастую вопят как резаные, обладая при этом тончайшим слухом.
И тут возникает затруднение, способное обескуражить инженера, который взялся бы за разработку машины, похожей на летучую мышь. Раз микрофон, или ухо, обладает такой высокой чувствительностью, значит, ему грозит нешуточная опасность быть серьезно поврежденным своими же оглушительно громкими исходящими сигналами. Бесполезно бороться с этой проблемой, уменьшая силу звука, – тогда эхо будет слишком слабым, чтобы его можно было уловить. А против этой проблемы будет бесполезно бороться увеличением чувствительности микрофона (уха) – ведь оно лишь сделает его более уязвимым для повреждения исходящими сигналами (пусть даже они и станут чуточку слабее). Эта дилемма неизбежно следует из огромной разницы в интенсивности между исходящим сигналом и его эхом – разницы, неумолимо навязываемой нам законами физики.
Какой еще выход мог бы прийти в голову нашему инженеру? Когда разработчики радара времен Второй мировой столкнулись с этой проблемой, решение, на которое они натолкнулись, было названо ими “радаром с автоматизированной передачей и приемом”. Этот радар посылал достаточно мощные импульсы, которые вполне могли бы повредить высокочувствительные антенны, ожидающие слабых отраженных сигналов. Но схема “автоматизированной передачи и приема” временно отключала принимающую антенну непосредственно перед испусканием сигнала, а затем снова включала ее – так, чтобы она успела уловить эхо.
Рукокрылые отладили технологию “автоматизированной передачи и приема” давным-давно – вероятно, за миллионы лет до того, как наши с вами предки спустились с деревьев. А работает она так. В ушах у летучих мышей, так же как и у нас, звук передается от барабанной перепонки к сенсорным “клеткам-микрофонам” по мостику из трех миниатюрных косточек, названия которых соответствуют их форме и переводятся с латыни как “молоточек”, “наковальня” и “стремечко”. Надо сказать, что соединение и расположение этих трех косточек в точности таково, каким бы сделал его звуковой инженер, чтобы решить проблему согласования сопротивлений, но это другая история. Сейчас нам важно то, что у некоторых летучих мышей к стремечку и к молоточку подведены хорошо развитые мускулы. Когда они сокращаются, эффективность передачи звука через косточки падает – как если бы вы заглушили микрофон, пальцем придавив вибрирующую диафрагму. При помощи этих мышц рукокрылые способны временно выключать свои уши. Каждый раз непосредственно перед тем, как произвести исходящий звуковой импульс, летучая мышь сокращает эти мускулы, отключая таким образом уши и защищая их от повреждения громким сигналом. Затем мускулы расслабляются, и уши возвращаются в режим максимальной чувствительности – как раз вовремя, чтобы уловить вернувшееся эхо. Такая система переключения передачи и приема имеет смысл, только если координация во времени выверена с точностью до мгновения. Летучая мышь Tadarida способна поочередно сократить и расслабить эти мышцы-выключатели 50 раз в секунду, сохраняя абсолютную синхронность с пулеметными очередями исходящих ультразвуковых импульсов. Это чудо слаженности сравнимо с хитроумным изобретением, использовавшимся на некоторых истребителях в Первую мировую войну. Их пулеметы стреляли “сквозь” пропеллер – частота выстрелов была так тщательно скоординирована с его вращением, что пули неизменно пролетали между лопастями, не задевая их.
Затем наш инженер мог бы задуматься о следующей проблеме. Раз принцип работы сонара основан на измерении продолжительности паузы между звуком и его эхом – прием, которым, очевидно, пользуется Rousettus, – то издаваемым звукам следовало бы, по всей вероятности, быть отрывистыми, стаккато. Долгий, протяжный звук может не успеть закончиться к моменту возвращения эха и, даже будучи отчасти приглушен мускулами автоматического переключения передачи и приема, помешать восприятию. Действительно, может показаться, что в идеале импульсы рукокрылых должны быть чрезвычайно короткими. Однако чем короче звук, тем сложнее сделать его достаточно мощным, чтобы произвести хоть сколько-нибудь приемлемое эхо. Похоже, законы физики ставят нас перед необходимостью еще одного неприятного компромисса. Искусным инженерам тут могли бы прийти в голову два решения, и они действительно пришли им в голову при встрече с аналогичной проблемой – только опять-таки это было в ходе разработки радара. Какое из данных двух решений предпочтительнее, зависит от того, что важнее измерить: дальность (на каком расстоянии от прибора находится объект) или скорость (насколько быстро объект перемещается относительно прибора). Первое решение известно специалистам по радиолокации как “чирплет-радар”.
Сигналы радара можно представить как серию импульсов, однако каждый импульс характеризуется так называемой несущей частотой, которая аналогична “высоте” звука или ультразвука. Как мы знаем, крики летучих мышей повторяются с периодичностью, равной десяткам или сотням в секунду. Несущая частота каждого из этих импульсов измеряется десятками и сотнями тысяч повторяющихся циклов в секунду. Другими словами, каждый импульс – это высокий, пронзительный визг. Точно так же и каждый сигнал радара представляет собой “визг” радиоволн, отличающийся высокой несущей частотой. Особенностью чирплет-радара является то, что на протяжении каждого его “взвизгивания” несущая частота не является неизменной, а “взмывает” или “сползает” приблизительно на октаву. Если вам нужен эквивалентный звуковой образ, то представьте себе, что во время каждого импульса радар как бы присвистывает от удивления. Преимущество чирплет-радара перед радаром с фиксированной высотой импульсов состоит в следующем. Неважно, закончился исходящий “присвист” к моменту возвращения своего эха или еще нет. Их все равно не перепутаешь. Ведь эхо, улавливаемое в каждый конкретный момент времени, будет отражением более ранней части сигнала и потому иметь отличную от него частоту.
Разработчики человеческого радара извлекли немалую пользу из этой остроумной методики. А есть ли доказательства в пользу того, что летучие мыши тоже ее “открыли”, как это было с автоматизированной передачей и приемом? Ну, вообще-то многие виды рукокрылых действительно издают крики, высота которых постепенно снижается примерно на октаву. Такие “присвистывающие” сигналы называются частотно-модулированными (frequency modulated, FM). Казалось бы, это именно то, что нужно, чтобы воспользоваться принципом чирплет-радара. Тем не менее имеющиеся на сегодняшний день факты говорят о том, что летучие мыши используют этот метод не для того, чтобы отличать эхо от исходного сигнала, а для более тонкой задачи – чтобы отличать одно эхо от другого. Летучая мышь живет в мире эха, которое доносится от близких объектов, дальних объектов и от объектов, находящихся на всевозможных промежуточных расстояниях. Все эти звуковые отражения ей необходимо рассортировать. Если издавать плавно понижающиеся “присвистывания”, то можно провести четкую сортировку по высоте. Эхо, вернувшееся наконец от удаленного объекта, будет “старше”, чем эхо, которое в тот же момент пришло от объекта, расположенного поблизости. А значит, высота первого эха будет больше. Услышав несколько отраженных сигналов сразу, летучая мышь может положиться на простое практическое правило: чем звук выше, тем объект дальше.
Вторая идея, которая могла бы прийти в голову умному инженеру, особенно если он заинтересован в определении скорости движущейся мишени, – это сыграть на явлении, которое физики называют допплеровским смещением. Также его можно было бы назвать “эффектом скорой помощи”, поскольку наиболее известный его пример – это резкое падение высоты звука сирены у машины скорой помощи, после того как она промчится мимо нас. Допплеровское смещение наблюдается во всех случаях, когда источник звука (или света, или любых других волн) и его получатель движутся друг относительно друга. Для большей простоты представим себе, что источник звука неподвижен, а слушатель перемещается. Допустим, фабричная сирена непрерывно гудит на одной ноте. Звук распространяется вовне в виде идущих одна за другой волн. Эти волны невидимы, они из уплотненного воздуха. Но если бы их можно было увидеть, то они были бы похожи на концентрические окружности, расходящиеся по поверхности спокойного пруда от брошенных камешков. Представьте, что мы бросаем туда камешек за камешком, так что волны образуются непрерывно. Если в какой-нибудь точке этого пруда поставить на якорь игрушечную лодочку, то она будет ритмично подниматься и опускаться по мере прохождения под ней волн. Частота покачиваний лодочки аналогична высоте звука. Теперь давайте вообразим, что вместо того, чтобы стоять на якоре, наша лодочка плывет через пруд по направлению к центру, где возникают расходящиеся волны-окружности. Она по-прежнему будет покачиваться вверх-вниз, встречаясь с идущими друг за другом волнами. Но теперь, направляясь к источнику волн, она будет сталкиваться с ними чаще. Частота ее покачиваний будет выше. Когда же она минует источник волн и направится к противоположному берегу, частота, с которой она покачивается, очевидным образом уменьшится.
По тем же причинам, если мы будем мчаться на мотоцикле (желательно бесшумном) мимо гудящей фабричной сирены, то, пока мы приближаемся к фабрике, звук будет завышенным – фактически наши уши будет “накрывать” звуковой волной чаще, чем если бы мы просто сидели на одном месте. Из этих же рассуждений следует, что, когда наш мотоцикл проедет мимо фабрики и начнет от нее удаляться, высота звука понизится. Если мы остановимся, то услышим сигнал такой высоты, какая она есть на самом деле, – промежуточная между двумя значениями с допплеровским сдвигом частоты. Получается, что, зная точную высоту тона сирены, теоретически возможно вычислить, с какой скоростью мы движемся по направлению к ней или от нее. Для этого надо просто сравнить слышимую высоту звука с ее известным нам “настоящим” значением.
Этот принцип точно так же действует, когда источник звука перемещается, а слушатель неподвижен. Потому мы и можем наблюдать его в случае со скорой помощью. Ходят довольно неправдоподобные россказни, будто бы сам Кристиан Допплер, чтобы продемонстрировать свое открытие, нанял духовой оркестр, который играл на открытой грузовой платформе, несущейся по рельсам мимо изумленной публики. Что действительно важно, так это относительное движение, и, покуда речь идет о допплеровском эффекте, нам все равно – источник звука перемещается мимо уха или ухо мимо источника звука. Если два поезда едут в противоположных направлениях со скоростью 125 миль в час каждый, то для пассажира, находящегося в одном из них, свисток другого поезда должен резко понизить высоту в результате особенно значительного допплеровского смещения, поскольку относительная скорость будет составлять целых 250 миль в час.
Эффект Допплера используется и в полицейских портативных радарах – “ловушках для лихачей”. Неподвижно установленный прибор посылает радиолокационные сигналы вдоль дороги. Радиоволны отскакивают назад от приближающихся автомобилей и регистрируются приемным устройством. Чем быстрее движется машина, тем сильнее допплеровский сдвиг частоты. Сравнивая исходящую частоту с частотой возвращающегося эха, полицейские, а точнее их автоматизированная аппаратура, могут вычислить скорость каждой машины. Раз полиция освоила эту методику для ловли дорожных нарушителей, то можем ли мы надеяться, что и рукокрылые пользуются ею для измерения скорости насекомых, на которых охотятся?
Ответ будет – да. Давно известно, что мелкие летучие мыши, называемые подковоносами, издают не отрывистые щелчки и не нисходящие глиссандо, а продолжительные монотонные возгласы. Говоря “продолжительные”, я имею в виду – продолжительные по меркам рукокрылых. Эти “возгласы” все равно длятся менее десятой доли секунды. И, как мы дальше увидим, нередко в конце каждого возгласа к нему добавляется еще и нисходящее “присвистывание”. Но для начала просто представьте себе, как подковонос, непрерывно издавая ультразвуковой шум, на высокой скорости приближается к неподвижному объекту – скажем, к дереву. В связи с таким направлением движения летучей мыши звуковые волны ударяются о дерево с повышенной частотой. Если бы в дереве был спрятан микрофон, то по той причине, что животное приближается, он бы “слышал” звук с допплеровским завышением тона. В дереве нет микрофона, но точно таким же образом будет завышен тон у отражающегося от дерева эха. Итак, поскольку волны эха струятся от дерева обратно, то получается, что летучая мышь летит им навстречу. Следовательно, при восприятии летучей мышью высоты звучания эха происходит еще один допплеровский сдвиг в сторону завышения. Перемещение летучей мыши приводит к своего рода двойному допплеровскому эффекту, величина которого является точным показателем скорости движения животного относительно дерева. Сравнив высоту своего крика с высотой возвращающегося эха, летучая мышь (а точнее, встроенный в ее мозг “бортовой компьютер”) имела бы теоретическую возможность вычислить, насколько быстро она приближается к дереву. Пусть это ничего не сказало бы ей о том, как далеко от нее это дерево находится, тем не менее полученная информация сама по себе была бы очень ценной.
Если отражающий эхо объект – не неподвижное дерево, а перемещающееся насекомое, рассчитать последствия допплеровского эффекта будет труднее, однако летучая мышь будет по-прежнему иметь возможность вычислить относительную скорость своего движения по направлению к мишени – нет сомнений, что сложной управляемой ракете, какой является охотящаяся летучая мышь, эта информация крайне необходима. На самом деле некоторые рукокрылые придумали штуку поинтереснее, чем просто вопить на одной высоте и измерять высоту возвращающегося эха. Вместо этого они тщательно подстраивают высоту исходящих криков таким образом, чтобы высота эха после сдвига по Допплеру поддерживалась на неизменном уровне. Приближаясь со все возрастающей скоростью к движущемуся насекомому, они постоянно меняют высоту своих сигналов, все время добиваясь именно той частоты, какая нужна для того, чтобы сохранять высоту эха неизменной. Такая изобретательная уловка позволяет поддерживать эхо на той высоте звука, к которой уши этих летучих мышей наиболее чувствительны, что немаловажно, учитывая, насколько это эхо слабое. Следовательно, получить информацию для вычисления допплеровского эффекта животное может, следя за тем, на какой частоте ему сейчас нужно кричать для поддержания фиксированной высоты эха. Я не знаю, используется ли это ноу-хау в каких-либо рукотворных приборах, будь то сонары или радары. Но, коль скоро летучим мышам принадлежит пальма первенства во всех самых удачных решениях в данной области техники, готов биться об заклад, что используется.
Хотя может показаться, что два этих, весьма различных подхода – оценка допплеровского смещения и “чирплет-радар” – пригодны каждый для своих, особых целей, в действительности одни группы рукокрылых специализируются на первом, а другие – на втором из них. Некоторые, впрочем, пытаются, по-видимому, преуспеть и там и там, присоединяя FM-“присвистывание” к концу (или иногда к началу) протяжного “клича”, имеющего постоянную высоту. Еще один любопытный трюк, используемый подковоносами, связан с движениями их больших ушных раковин. В отличие от других летучих мышей подковоносы совершают частые взмахи ушами попеременно вперед и назад. Можно предположить, что такие дополнительные резкие перемещения звукоулавливающей поверхности относительно мишени модулируют эффект Допплера, сообщая дополнительную полезную информацию. Когда ухо делает взмах по направлению к мишени, кажущаяся скорость приближения к ней возрастает. Когда же оно отводится в противоположном направлении, все происходит наоборот. Мозгу летучей мыши “известно” направление взмахов каждого уха, и в принципе ему ничто не мешает пользоваться получаемой таким образом информацией для произведения необходимых вычислений.
Вероятно, самая серьезная из проблем, стоящих перед рукокрылыми, – это опасность непреднамеренных “помех”, создаваемых криками других летучих мышей. Однако, как показали эксперименты, сбить летучую мышь с толку мощными искусственными ультразвуковыми сигналами на удивление непросто. Впрочем, задним числом понимаешь, что это можно было предвидеть. Летучие мыши должны были научиться избегать помех еще давным-давно. Многие виды рукокрылых имеют привычку отдыхать, скапливаясь в огромных количествах в пещерах, где наверняка стоит оглушительная какофония из многочисленных ультразвуков и их эха, что, однако, не мешает летучим мышам легко порхать в полной темноте, не натыкаясь ни на стены пещеры, ни друг на друга. Каким же образом животное умудряется следить за собственным эхом, не путая его с эхом, создаваемым другими летучими мышами? Первое, что тут пришло бы в голову инженеру, – это некая разновидность частотного кодирования: каждая летучая мышь, подобно радиостанции, могла бы иметь свою собственную, личную частоту. Возможно, до некоторой степени это и так, но истинное положение дел, несомненно, сложнее.
Почему рукокрылые не “глушат” друг друга своими криками, не вполне ясно, но опыты, в которых им пытались “запудрить мозги”, дают нам любопытную подсказку. Оказывается, летучую мышь можно обмануть, если проигрывать ей запись ее собственного крика, но с задержкой. Другими словами, нужно фальшивое эхо ее собственных криков. Если аккуратно отрегулировать электронную аппаратуру, которая производит задержку этого фальшивого эха, то можно даже заставить летучую мышь пытаться сесть на “фантомную” поверхность. Полагаю, для нее это равносильно тому, чтобы смотреть на мир через линзу.
Не исключено, что у рукокрылых есть нечто, что мы могли бы назвать “фильтром странности”. Каждое последующее эхо, вызванное собственными криками летучей мыши, формирует такую картину мира, которая логична с точки зрения предшествовавшей картины, построенной на основании предыдущих отраженных сигналов. Если мозг летучей мыши услышит эхо крика другой летучей мыши и попытается поместить его в картину мира, которую он только что выстроил, получится бессмыслица. Создастся впечатление, будто все предметы вокруг стали внезапно разбегаться в разных случайных направлениях. Но предметам реального мира такое безумие несвойственно, а значит, мозг может спокойно проигнорировать подобное эхо как фоновый шум. Если же человек-экспериментатор будет подавать летучей мыши искусственное “эхо” ее сигналов с запозданием или, наоборот, преждевременно, то такие ложные звуки будут иметь смысл в рамках той картины мира, которую эта летучая мышь уже себе построила. Они являются правдоподобными в контексте своих предшественников, и потому “фильтр странности” их пропускает. Согласно им, окружающие предметы меняют свое местоположение совсем чуть-чуть, а это объектам реального мира вполне свойственно. Мозг летучей мыши твердо уверен в том, что мир, изображаемый эхом одного сигнала, должен либо ничем не отличаться от мира, нарисованного предыдущими звуковыми отражениями, либо отличаться от него незначительно. Например, преследуемое насекомое может слегка переместиться.
У философа Томаса Нагеля есть знаменитая статья, которая называется “Каково быть летучей мышью?”. Речь в ней идет не столько о рукокрылых, сколько о философской проблеме постижения того, “каково” это – быть кем-то, кем мы не являемся. Тем не менее для философа летучая мышь – пример чрезвычайно удачный, поскольку предполагается, что ощущения летучей мыши, ориентирующейся при помощи эхолокации, являются чем-то особенно чуждым для нас и отличным от наших ощущений. Можно почти с полной уверенностью сказать, что для того, чтобы почувствовать себя летучей мышью, без толку идти в пещеру, орать там, греметь кастрюлями, специально замерять продолжительность паузы до появления эха и на основании этого высчитывать, далеко ли до стены.
Все это соответствует тому, что чувствует летучая мышь, не более, чем следующее описание соответствует тому, как мы видим цвет. Возьмите прибор, измеряющий длину волны света, попадающего вам в глаз. Если она длинная – вы видите красный, а если короткая – фиолетовый или синий. Так уж вышло, и это научный факт, что у света, который мы называем красным, длина волны больше, чем у света, который мы называем синим. В нашей сетчатке включаются те или иные рецепторы – воспринимающие красный или синий – в зависимости от длины световой волны. Но понятие “длина волны” не играет ни малейшей роли в нашем субъективном восприятии цвета. То, “каково” это – различать красный и синий цвета, никоим образом не помогает нам узнать, в каком случае длина волны больше. Когда она для нас действительно важна (что бывает редко), мы должны ее просто помнить или (как обычно поступаю я) заглянуть в справочник. Аналогичным образом летучая мышь узнает местоположение насекомого, используя то, что мы называем эхом. Но когда она замечает насекомое, то думает о времени задержки эха наверняка не больше, чем мы с вами думаем о длинах волн, когда воспринимаем синий или красный цвет.
Да, в самом деле, если бы я был поставлен перед необходимостью попытаться сделать невозможное – представить себе, на что похоже быть летучей мышью, – то я предположил бы, что для летучих мышей ориентировка с помощью эха является во многом тем же самым, чем зрение для нас. Мы с вами животные, воспринимающие мир почти полностью через зрение, и потому вряд ли в состоянии осознать, какое непростое это дело. Предметы находятся “там-то”, и нам кажется, что там мы их и “видим”. Подозреваю, однако, что на самом деле мы видим искусную компьютерную модель, выстраиваемую мозгом на основании информации, приходящей извне, но преобразованной им так, чтобы ею было можно пользоваться. То, что снаружи является различиями в длине световой волны, компьютерная модель у нас в голове перекодирует в “цветовые” различия. Форма и прочие признаки трансформируются точно таким же образом, принимая вид, с которым удобно иметь дело. Наши с вами зрительные ощущения очень сильно отличаются от слуховых, но это никак напрямую не связано с физическими различиями между светом и звуком. И свет, и звук в конечном итоге переводятся соответствующими органами чувств в одни и те же нервные импульсы. По физическим свойствам нервного импульса невозможно определить, какую информацию он несет – о свете, о звуке или о запахе. Зрительные, слуховые и обонятельные ощущения так сильно отличаются друг от друга только потому, что нашему мозгу удобнее использовать разные типы внутренних моделей для мира зрительных образов, мира звуков и мира запахов. Мы используем зрительную и слуховую информацию различным образом и для разных целей – вот почему зрение и слух такие разные, а вовсе не непосредственно потому, что свет и звук – это различные физические явления.
Но летучая мышь использует звуковую информацию во многом для той же самой цели, для которой мы используем информацию зрительную. Она определяет местоположение предметов в трехмерном пространстве (и постоянно обновляет информацию об этом) с помощью звуков, так же как мы делаем это с помощью света. Следовательно, ей нужна такая внутренняя компьютерная модель, которая могла бы создавать образы, отражающие перемещение объектов в трехмерном пространстве. Суть здесь в том, что те формы, которые примет субъективный опыт животного, будут свойством его внутренней компьютерной модели. Эта модель конструируется в процессе эволюции исходя из того, насколько она годна для создания полезных внутренних представлений, безотносительно физической природы поступающих извне стимулов. Летучим мышам нужна такая же внутренняя модель для отображения местонахождения предметов в трехмерном пространстве, что и нам с вами. Тот факт, что их внутренняя модель формируется при помощи эха, а наша – при помощи света, не имеет отношения к делу. И та и другая внешняя информация будет на своем пути к мозгу преобразована в одинаковые нервные импульсы.
Итак, мое предположение состоит в том, что летучие мыши “видят” примерно так же, как и мы, пусть даже физический посредник, через который происходит преобразование внешнего мира в нервные импульсы, у них и совершенно иной: ультразвук, а не свет. Возможно, они даже могут испытывать ощущения, которые мы называем цветовыми, – эти ощущения не отсылают к физике и длине волн, но они отражают разнообразие внешнего мира и играют для летучих мышей ту же функциональную роль, какую цвет играет для нас. Кто знает, может быть, тонкая текстура поверхности у их самцов такова, что эхо, отскакивающее от нее, производит на самок впечатление роскошной окраски – этакий звуковой аналог брачного наряда райской птицы. И я подразумеваю под этим не просто какую-то расплывчатую метафору. Нет ничего невозможного в том, чтобы самка летучей мыши субъективно воспринимала самца, скажем, ярко-красным – точно так же, как я воспринимаю фламинго. Ну или, по меньшей мере, восприятие летучей мышью своего брачного партнера может отличаться от моего зрительного восприятия фламинго не больше, чем мое зрительное восприятие фламинго отличается от того, как фламинго видится другому фламинго.
Дональд Гриффин рассказывает, что было, когда в 1940 г. он и его коллега Роберт Галамбос впервые сообщили потрясенным участникам зоологической конференции о своем открытии эхолокации у рукокрылых. Скептицизм одного прославленного ученого сопровождался таким негодованием, что:
…он схватил Галамбоса за плечи и стал его трясти, попутно возмущаясь, что мы, конечно же, просто не могли иметь в виду такую дикость. Радар и сонар в то время еще относились к особо секретным военным разработкам, и мнение, будто летучие мыши способны на что-то, хотя бы отдаленно напоминающее недавние успехи электронной техники, оказалось для многих не только поразительно неправдоподобным, но и неприятным.
Этого знаменитого скептика легко понять. В таком нежелании поверить есть что-то очень человеческое. А точнее говоря, именно человеческое оно и есть. Именно из-за того, что наши собственные, человеческие чувства неспособны к тому, что по плечу рукокрылым, нам так тяжело поверить в это. Нам трудно представить себе, что то, что мы можем понять только на уровне искусственной аппаратуры или математических вычислений на бумаге, маленькое животное способно производить в своей голове. Однако математические расчеты, объясняющие основы зрения, будут точно так же сложны и труднопостижимы, но при этом ни для кого не составляет труда верить в то, что маленькие зверьки способны видеть. Причина таких двойных стандартов у нашего скептицизма весьма проста: видеть мы можем, а к эхолокации неспособны.
Я представляю себе мир, в котором ученое собрание существ, напоминающих летучих мышей и полностью слепых, ошеломлено известием о том, что животные, называемые людьми, способны, как это ни странно, использовать для ориентировки недавно открытые неслышимые лучи, называемые “световыми”, пока что являющиеся предметом сверхсекретных военных разработок. Эти в остальном непримечательные создания почти абсолютно глухие (на самом деле они в какой-то мере способны слышать и даже издавать немногочисленные неуклюже медленные, низкие и однообразные звуки, но используют эти урчания только для примитивных целей – например, для общения друг с другом – и, по-видимому, неспособны обнаруживать даже самые крупные объекты с их помощью). Вместо этого у них есть высокоспециализированные органы, так называемые глаза, для восприятия “световых” лучей. Основным источником этих лучей является солнце, и людям, что примечательно, удается использовать сложные отражения, отбрасываемые предметами при попадании на них солнечных лучей. У них имеется хитроумное устройство – “хрусталик”, – форма которого как будто бы математически рассчитана таким образом, чтобы направлять эти бесшумные лучи на пласт клеток, известный как “сетчатка”, где формируется точный образ, однозначно соответствующий взаимному расположению предметов окружающего мира. Каким-то непостижимым способом клетки сетчатки делают свет, с позволения сказать, “слышимым” и передают эту информацию в мозг. Наши математики показали, что если правильно выполнять довольно сложные расчеты, то безопасное перемещение в пространстве при помощи этих световых лучей теоретически возможно. И это будет так же эффективно, как и при помощи обычного ультразвука, а в некоторых отношениях даже более эффективно! Но кто бы мог подумать, что примитивные люди способны производить подобные вычисления?
Эхолотирование у летучих мышей – всего лишь один из тысяч примеров, на которых я мог бы пояснить свою мысль о превосходном устройстве. Животные производят такое впечатление, будто они были спроектированы искушенным в теории и поднаторевшим в практике физиком или инженером, однако нет никаких оснований предполагать, что сами рукокрылые знакомы с теорией и понимают ее в том же смысле, в каком ее понимает физик. Летучую мышь можно сравнить с полицейским радаром-ловушкой, а не с человеком, который его изобрел. Проектировщик детектора скорости понимал теоретические основы допплеровского эффекта, и это понимание выражалось в математических уравнениях, выписанных на бумаге во всех подробностях. Понимание создателя воплощено в устройстве прибора, но сам прибор не понимает того, как он работает. В состав прибора входят электронные элементы, которые соединены друг с другом таким образом, чтобы автоматически сличать две разные частоты радиоволн и переводить результат в удобные для использования единицы – мили в час. Совершаемые при этом вычисления сложны, но вполне по силам маленькой коробочке, начиненной современными электронными компонентами, если их правильно соединить друг с другом. Разумеется, осуществил это соединение (или по крайней мере разработал его схему) сложно устроенный и обладающий сознанием мозг, однако в непосредственной работе коробочки никакой обладающий сознанием мозг не участвует.
Благодаря знакомству с электронной техникой мы подготовлены к тому, чтобы согласиться: не имеющие сознания механизмы могут вести себя так, как будто они разбираются в сложных математических понятиях. Эта мысль полностью правомерна и тогда, когда речь идет о работе живых механизмов. Летучая мышь – это машина, электронное содержимое которой соединено таким образом, чтобы мускулы крыльев наводили ее на насекомых. По тому же принципу и неразумная управляемая ракета преследует самолет. До этих пор наша интуитивная аналогия с техникой была корректна. Однако знакомство с техникой подготовило нас и к тому, чтобы в возникновении сложно устроенных машин видеть руку разумного и целеустремленного создателя. В случае живых механизмов эта вторая, основанная на интуиции аналогия ошибочна. Их “проектировщиком” был бессознательный естественный отбор, слепой часовщик.
Я надеюсь, что эти истории из жизни летучих мышей вызывают в читателях такое же благоговение, какое они вызывают во мне и наверняка вызвали бы в Уильяме Пейли. В одном отношении наши с ним цели совпадают. Я не хочу, чтобы читатель недооценивал необычайные творения природы и то, каких сложных объяснений они требуют. И хотя во времена Пейли об эхолокации у рукокрылых еще не было известно, она подходит для его целей не хуже любого из приведенных им примеров. Пейли растолковывал свою мысль, приумножая примеры. Он прошелся по всему нашему организму – от головы до пальцев ног, – показывая, как каждая мельчайшая деталь каждой его части напоминает внутреннее устройство великолепно сработанных часов. Мне очень хотелось бы поступить точно так же, ведь тут можно рассказать немало удивительных историй, а рассказывать истории – моя слабость. Но на самом деле нет никакой необходимости плодить примеры. Одного-двух вполне достаточно. Весьма вероятно, что гипотеза, способная объяснить навигацию у летучих мышей, сможет объяснить все что угодно в мире живого, а если объяснение Пейли неверно хотя бы для одного из приведенных им примеров, то количеством дела уже не поправишь. Его гипотеза состояла в том, что “живые часы” были в буквальном смысле сконструированы и созданы искусным часовщиком. Наша современная гипотеза утверждает, что эта работа была проделана естественным отбором, причем постепенно, эволюционным путем.
Сегодняшние богословы отнюдь не так прямолинейны, как Пейли. Они не показывают пальцем на сложные живые механизмы, заявляя, что те, подобно часам, несомненно были придуманы неким создателем. Вместо этого наблюдается тенденция указывать на них со словами, что, дескать, “невозможно поверить”, будто такая сложность или такое совершенство могли развиться в результате естественного отбора. Читая подобные высказывания, я всегда испытываю желание написать на полях: “Говори за себя”. В недавно вышедшей книге “Вероятность Бога”, написанной епископом Бирмингемским Хью Монтефиоре, можно найти немало примеров такого подхода (только в одной главе я насчитал 35). До конца настоящей главы я буду пользоваться примерами из этого сочинения, поскольку оно представляет собой искреннюю и честную попытку уважаемого и образованного автора привести теологию природы в соответствие с новыми данными. Говоря “честную”, я имею в виду честную. В отличие от некоторых из своих коллег-богословов епископ Монтефиоре не боится утверждать, что вопрос о том, существует Бог или нет, – это типичный вопрос факта. Он не разменивается на хитрые уловки типа “христианство – это образ жизни; вопрос о существовании Бога больше не стоит, он не более чем мираж, навеянный реалистическими иллюзиями”. Некоторые части его книги посвящены физике и космологии, и не в моей компетенции их комментировать; отмечу разве, что, судя по всему, в качестве источников он использовал работы настоящих физиков. Ах, если бы он поступил так же и в отношении биологических разделов! Увы, тут он предпочел обратиться к трудам Артура Кестлера, Фреда Хойла, Гордона Рэттрей-Тейлора и Карла Поппера. Епископ верит в эволюцию, но не считает естественный отбор подходящим объяснением для того направления, которое эволюция приняла (отчасти в связи с тем прискорбным обстоятельством, что, как и многие другие, ошибочно представляет себе естественный отбор “случайным” и “бессмысленным”).
Он вовсю использует то, что можно определить как Убеждение Личным Недоверием. По ходу одной из глав мы встречаем следующие фразы в указанном порядке:
…С позиций дарвинизма тут, видимо, нет объяснения… Не проще будет объяснить… Трудно согласиться… Нелегко согласиться… Равным образом затруднительно объяснить… Я не думаю, что будет легко признать… Я с трудом могу себе представить… Я нахожу трудным для понимания… Такое объяснение не кажется правдоподобным… Не представляю себе, каким образом… Многие сложности поведения животных неодарвинизм, по-видимому, объяснить не в состоянии… Нелегко постичь, как такое поведение могло возникнуть посредством одного лишь естественного отбора… Это невероятно… Как мог столь сложный орган возникнуть в ходе эволюции?.. Нелегко увидеть… Трудно увидеть…
Как отмечал еще Дарвин, Убеждение Личным Недоверием чрезвычайно неубедительно. В некоторых случаях такой подход опирается на обычное невежество. Например, один из фактов, который епископ находит трудным для понимания, – это окраска белого медведя.
Если говорить о маскировке, то она не всегда легко поддается объяснению с неодарвинистских позиций. Раз белые медведи господствуют в Арктике, значит, у них не было видимой необходимости обзаводиться белой маскировкой.
Стоит перевести: