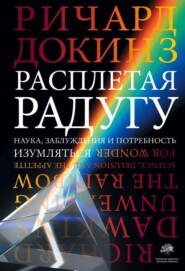По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расширенный фенотип: длинная рука гена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Некоторые авторы и в самом деле бросили именно такой вызов всей неодарвинистской СТЭ и заявили, что не относят себя к неодарвинистам. Гудвин (Goodwin, 1979) в опубликованном диспуте с Деборой Чарлзуорт и другими сказал: “…в неодарвинизме имеется неувязка… неодарвинизм не показывает способа, которым генотип формирует фенотип. Так что эта теория в данном отношении несовершенна”. Гудвин, разумеется, вполне прав, что индивидуальное развитие – вещь чертовски сложная, и мы пока мало понимаем, как формируются фенотипы. Но то, что фенотипы формируются, и то, что гены вносят значительный вклад в их изменчивость – факты неоспоримые, и этого вполне достаточно для того, чтобы в неодарвинизме не было неувязок. С таким же успехом Гудвин мог сказать, что пока Ходжкин и Хаксли не выяснили, как включается нервный импульс, мы не имели права думать, будто поведение контролируется нервными импульсами. Конечно, было бы здорово знать, как делаются фенотипы, но, пока эмбриологи заняты выяснением вопроса, все остальные на основании известных генетике фактов имеют право оставаться неодарвинистами, а на эмбриональное развитие смотреть, как на черный ящик. Не существует конкурирующей теории, которая хотя бы отдаленно могла претендовать на звание не страдающей неувязками.
Из факта, что генетики имеют дело с фенотипическими различиями, следует, что не надо бояться постулировать существование генов со сколь угодно сложными фенотипическими эффектами и с фенотипическими эффектами, проявляющимися только при очень сложных условиях развития. Недавно мы вместе с профессором Джоном Мэйнардом Смитом принимали участие в публичном диспуте с двумя радикальными критиками “социобиологии”, проходившем перед студенческой аудиторией. В этой дискуссии мы пытались первым делом разъяснить, что в том, чтобы говорить о гене “признака X”, нет ничего диковинного, даже если X – сложная заученная модель поведения. Мэйнард Смит решил привести гипотетический пример – это оказался “ген умения завязывать шнурки”. Ад кромешный вырвался на волю в ответ на такой наглый генетический детерминизм! Воздух сгустился от этой безошибочно узнаваемой атмосферы блестяще подтвердившихся наихудших подозрений. Восторженно-скептические вопли заглушили спокойное и терпеливое объяснение того, насколько же скромное заявление делается при постулировании такого гена, как ген завязывания шнурков. Позвольте мне объяснить это при помощи мысленного эксперимента, с виду еще более радикального, хотя в действительности безобидного (Dawkins, 1981).
Чтение – навык огромной сложности, но само по себе это не причина не верить в возможность существования гена чтения. Для того чтобы убедиться в существовании гена чтения, было бы достаточно открыть ген неспособности к чтению, к примеру, вызывающий повреждение мозга, приводящее к особой форме дислексии. Человек с такой дислексией должен быть нормальным и умным во всех отношениях, но только не уметь читать. Вряд ли какой генетик очень уж удивится, если окажется, что эта дислексия наследуется прямо по Менделю. Очевидно, что ген в рассматриваемой ситуации будет проявлять свой эффект только при наличии такого фактора среды, как нормальное образование. В доисторическом окружении этот ген не имел бы никаких заметных эффектов или бы имел какие-то другие эффекты и был бы известен пещерным генетикам, как, скажем, ген неспособности читать следы животных. В нашем образованном окружении правильно было бы назвать его “геном дислексии”, поскольку дислексия была бы его наиболее заметным проявлением. Аналогично, ген, вызывающий полную слепоту, тоже будет препятствовать чтению, но рассматривать его как ген неспособности к чтению бессмысленно – просто потому, что неспособность к чтению будет не самым заметным и разрушительным его фенотипическим эффектом.
Вернемся к нашему гену дислексии. Из общепринятых условностей генетической терминологии следует, что находящийся в том же локусе ген дикого типа, ген, имеющийся у остальных членов популяции в двойной дозе, правильно будет называть “геном чтения”. Если вы возражаете против этого, то вы должны также возражать и тогда, когда мы говорим о гене высокорослости у менделевского гороха, поскольку логика терминологии в том и в другом случае идентична. В обоих случаях рассматриваемый признак – это отличие, и в обоих случаях отличие проявляется только в определенных условиях среды. Причина, почему нечто столь простое, как различие в одном гене, может иметь такие сложные последствия, определяя, способен ли человек научиться читать или насколько хорошо он завязывает шнурки, состоит, в общем, в следующем. Каким бы сложным ни было данное состояние вселенной, разница между ним и альтернативным состоянием может быть обусловлена чем-то чрезвычайно простым.
Мысль, которую я хотел донести, используя пример с муравьиными львами, универсальна. Я мог бы использовать какую угодно реальную или предполагаемую дарвиновскую адаптацию. Чтобы лучше подчеркнуть это, приведу еще один пример. Тинберген с соавторами (Tinbergen et al., 1962) исследовал приспособительное значение своеобразной схемы поведения – уборки яичной скорлупы – у обыкновенной чайки (Larus ridibundus). Вскоре после вылупления птенца родительская особь берет пустую скорлупу в клюв и уносит подальше от гнезда. Тинберген и его коллеги рассмотрели много возможных гипотез насчет ценности этой поведенческой схемы для выживания. Они предполагали, например, что пустая скорлупа служит субстратом для размножения болезнетворных бактерий или что ее острые края ранят птенцов. Но гипотеза, для которой они в конце концов нашли доказательства, заключалась в том, что пустая скорлупа – прекрасный маяк, привлекающий к гнезду ворон и других охотников за птенцами и яйцами. Они проводили изощренные опыты, выставляя искусственные гнезда с пустыми скорлупками и без них, и показали, что яйца, лежащие вместе с пустой скорлупой, в самом деле, с большей вероятностью подвергаются атакам ворон, чем яйца без такого соседства. Был сделан вывод, что естественный отбор благоприятствовал поведению уборки скорлупы у взрослых чаек, поскольку в прошлом взрослые чайки, не делавшие этого, оставляли меньше потомства.
Как и в примере с муравьиными львами, никто никогда не проводил генетическое исследование поведения уборки скорлупы у обыкновенной чайки. Прямых доказательств того, что изменчивость в склонности убирать пустые скорлупки действительно наследуется, нет. Однако, несомненно, предположение, что это так или что когда-то это было так, является принципиально необходимым для гипотезы Тинбергена. В его гипотезе, если ее сформулировать обычным языком, без генетических терминов, нет ничего особенно спорного. И тем не менее она, так же как и все отвергнутые Тинбергеном соперничающие гипотезы, целиком и полностью опирается на предположение, что давным-давно жили-были чайки с наследственной склонностью убирать скорлупу и другие чайки – с наследственной склонностью не убирать ее или убирать не столь регулярно. Должны были существовать гены уборки скорлупы.
Тут я должен внести нотку предостережения. Положим, мы и вправду изучим генетику уборки скорлупы у современных чаек. Заветной мечтой генетиков поведения было бы обнаружить простую менделевскую мутацию, полностью меняющую подобную модель поведения или же совсем выключающую ее. Согласно изложенным выше рассуждениям, такой мутантный ген поистине был бы “геном неуборки скорлупы”, и, по определению, его аллель дикого типа следовало бы назвать геном уборки скорлупы. А теперь нотка предостережения. Совершенно определенно, отсюда не следует, что именно этот локус “для” уборки скорлупы был одним из тех, на которые действовал естественный отбор во время эволюции данной адаптации. Напротив, представляется гораздо более вероятным, что такая сложная схема поведения, как уборка скорлупы, создавалась действием отбора на множество локусов, каждый из которых вносил незначительный вклад, взаимодействуя с остальными. Но когда поведенческий комплекс уже создан, несложно представить себе мощную единичную мутацию, в результате которой он будет разрушен. Генетикам поневоле приходится использовать генетическую изменчивость, доступную им для исследований. Они предполагают также, что естественный отбор, производя эволюционные преобразования, имеет дело со сходной генетической изменчивостью. Но у них нет никаких оснований считать, что локусы, контролирующие современную изменчивость некой адаптации, – это те же самые локусы, на которые действовал отбор, создавая эту адаптацию изначально.
Рассмотрим самый знаменитый пример того, как сложное поведение контролируется одним геном, – исследование гигиеничного поведения у пчел, проведенное Ротенбулером (Rothenbuhler, 1964). Я привожу этот пример, поскольку он хорошо демонстрирует, как различия в поведении высокой сложности могут быть следствием различий в единственном гене. В гигиеничном поведении медоносных пчел породы “Браун” задействована вся нервно-мышечная система, однако, согласно модели Ротенбулера, сам факт того, что они следуют данной схеме поведения, в то время как пчелы породы “Ван Ской” этого не делают, обусловлен различиями всего в двух локусах. Один локус определяет раскупоривание ячеек с больными личинками, а второй – удаление больных личинок после раскупоривания. Следовательно, можно представить себе естественный отбор, благоприятствующий раскупоривающему поведению, а также естественный отбор, благоприятствующий извлекающему поведению, имея в виду отбор по этим двум генам за счет соответствующих конкурентных аллелей. Но мне здесь хочется обратить внимание на то, что все это, хоть и возможно, вряд ли очень интересно с эволюционной точки зрения. Современный ген раскупоривания и современный ген извлечения запросто могли и не принимать участия в реальном процессе естественного отбора, управлявшем эволюционной “сборкой” данного поведения.
Ротенбулер обнаружил, что даже пчелам “Ван Ской” иногда свойственно гигиеничное поведение. Их отличие от пчел “Браун” является хоть и очень сильным, но только количественным. Следовательно, можно предположить, что у пчел обеих пород были гигиеничные предки и что в нервных системах у пчел обеих пород имеется механизм для раскупоривающего и извлекающего поведения; просто пчелы “Ван Ской” обладают генами, не позволяющими им этот механизм включить. Если же мы углубимся еще дальше в прошлое, то, возможно, встретим там предка всех современных пчел, который не только сам не был гигиеничным, но и никогда не имел гигиеничного предка. Должно было произойти эволюционное развитие, создавшее раскупоривающее и извлекающее поведение из ничего, и в ходе этого эволюционного развития действовал отбор по многим генам, которые теперь одинаковы как у породы “Браун”, так и у “Ван Ской”. Итак, хотя гены раскупоривания и извлечения у породы “Браун” действительно справедливо названы генами раскупоривания и извлечения, они определены так только потому, что у них случайно оказались аллели, эффект которых – препятствовать выполнению данного поведения. Способ действия таких аллелей может быть грубым и разрушительным. Они могут просто разрывать какую-то важную связь в нейронном аппарате. Вспоминается образная иллюстрация того, как опасны выводы из опытов по удалению участков мозга, сделанная Грегори (Gregory, 1961): “… Удаление любого из расположенных в разных местах резисторов может заставить радиоприемник издавать свист, но из этого не следует ни того, что свист непосредственно связан с этими резисторами, ни даже того, что здесь имеется хоть какая-то причинная связь, кроме самой косвенной. В частности, мы не можем говорить, что в нормальной электрической цепи функция резисторов – заглушать свист. Нейрофизиологи, столкнувшись с подобной ситуацией, придумали “супрессорные зоны””.
По моему мнению, данная мысль является поводом для того, чтобы быть осмотрительным, а не для того, чтобы отказаться от всей генетической теории естественного отбора! Не беда, что ныне живущие генетики лишены возможности изучать те самые локусы, на которые естественный отбор действовал в прошлом, дав начало эволюции исследуемых адаптаций. Хуже то, что генетикам приходится сосредоточивать свое внимание на локусах, которые скорее удобны для этого, нежели эволюционно значимы. Тем не менее, остается верным, что эволюционное формирование сложных и интересных адаптаций состояло в замещении генов их аллелями.
Эти доводы могут косвенным образом внести вклад в одну модную в настоящее время дискуссию, дать ей материал для развития. Сейчас активно и даже страстно спорят, существует ли значимая наследственная изменчивость по умственным способностям у человека? Являются ли некоторые из нас генетически более умными, чем другие? Понятие “умный” само по себе вызывает споры, и это правильно. Но я думаю, что при любом значении этого термина следующие утверждения будут приняты без возражений. 1) Было время, когда наши предки были менее умными, чем мы. 2) Таким образом, в нашей родословной шло возрастание умственных способностей. 3) Это возрастание произошло путем эволюции, возможно движимой естественным отбором. 4) Независимо от того, под действием отбора или без него происходили эволюционные изменения фенотипов, по крайней мере часть из них отражала соответствующие генетические изменения: шло замещение одних аллелей другими, и, как следствие, средние умственные способности возрастали из поколения в поколение. 5) Итак, по определению, хотя бы в прошлом должна была существовать значимая наследственная изменчивость по умственным способностям у человеческой популяции. Некоторые люди были генетически умнее своих современников, другие же были генетически относительно более глупыми.
Последнее предложение может вызвать содрогание от идеологического беспокойства, однако ни одно из моих пяти утверждений не может быть всерьез поставлено под сомнение, так же как и их логическое следствие. Эти рассуждения годятся не только для объема мозга, но и равным образом для любого поведенческого мерила умственных способностей, какое мы только можем придумать. Они не связаны с примитивистскими воззрениями на человеческий интеллект как на одномерную скалярную величину. Тот факт, сам по себе важный, что интеллект – не просто скалярная величина, здесь совершенно не имеет отношения к делу, так же как и трудность измерения интеллекта на практике. Вывод предыдущего абзаца неизбежно вытекает только из того, что мы – эволюционисты, согласные с утверждением, что давным-давно наши предки были менее умными, чем мы (по какому угодно критерию). И, тем не менее, из этого еще не следует, что хоть какая-то наследственная изменчивость по умственным способностям сохранилась у человеческой популяции в наши дни: возможно, генетическое разнообразие полностью изведено отбором. А с другой стороны, возможно, и нет, так что мой мысленный эксперимент, по крайней мере, показывает нежелательность догматичного и истеричного отрицания самой возможности наследственной изменчивости по умственным способностям у людей. Мое собственное мнение, чего бы оно ни стоило, состоит в том, что даже если в современных человеческих популяциях и есть наследственная изменчивость такого рода, основывать на этом какую-то политику было бы нелогично и безнравственно.
Итак, существование дарвиновских адаптаций подразумевает, что когда-либо существовали гены для создания этих адаптаций. Об этом не всегда говорится в открытую. Всегда можно говорить о естественном отборе какой-либо схемы поведения двумя способами. Мы можем, к примеру, говорить о том, что особь, склонная следовать данной схеме поведения, “приспособленнее” особи, у которой такая тенденция не столь выражена. Это модная нынче фразеология в рамках концепции “эгоистичного организма” и “центральной теоремы социобиологии”. Альтернативный и равноценный способ – это говорить непосредственно о том, что гены выполнения данной поведенческой схемы выживают лучше, чем их аллели. Постулировать гены при обсуждении дарвиновских адаптаций – всегда законно, и одной из центральных мыслей этой книги будет то, что зачастую это безусловно полезно. Те возражения против “излишнего засорения генетическими терминами” языка функциональной этологии, которые мне приходилось слышать, выдают полную неспособность выдержать столкновение с правдой о том, что в действительности представляет собой дарвиновский отбор.
Позвольте мне проиллюстрировать эту неспособность с помощью еще одной забавной истории. Недавно я посещал исследовательский семинар, который вел некий антрополог. Он пытался объяснить возникновение в различных племенах своеобразных брачных отношений (в данном случае речь шла о полиандрии) в терминах теории родственного отбора. Теоретики родственного отбора могут создавать модели, предсказывающие, при каких условиях мы можем ожидать появление полиандрии. Так, согласно одной модели, сделанной для тасманийских аборигенных кур (Maynard Smith & Ridpath, 1972), биолог может предполагать полиандрию в том случае, если половое соотношение в популяции смещено в пользу самцов и партнеры – близкие родственники. Антрополог старался показать, что полиандрические племена, о которых он говорил, живут как раз в таких условиях, и подразумевал тем самым, что племена, где наблюдаются более обычные формы отношений: моногамия и полигиния, живут в иных условиях.
Я, будучи зачарован представленной им информацией, попытался, однако, предупредить его о некоторых затруднениях в его гипотезе. Я обратил внимание на то, что теория родственного отбора является генетической по своей сути и что сформированные родственным отбором приспособления к местным условиям должны были возникнуть путем замещения одних аллелей другими в ряду поколений. Достаточно ли долго эти полиандрические племена прожили в таких необычных условиях, спросил я, достаточно ли поколений было для того, чтобы необходимое генетическое замещение успело произойти? Есть ли вообще какие-то основания думать, будто разнообразие брачных отношений у человека находится под контролем генов?
Оратор, поддерживаемый многими своими коллегами-антропологами, присутствовавшими на семинаре, запротестовал против того, чтобы приплетать сюда гены. “Речь идет не о генах, – сказал он, – а о схеме общественного поведения”. Некоторые из его коллег испытывали заметную неловкость уже только от того, что было произнесено слово из трех букв – “ген”. Я попытался убедить его, что это он “приплел сюда гены”, хотя надо признать, что самого слова “ген” не произносил. Вот именно это я и хочу здесь разъяснить. Вы не можете говорить ни о родственном отборе, ни о какой другой разновидности дарвиновского отбора, не приплетая гены, неважно, в явной форме или нет. Рассуждая на тему родственного отбора, даже для объяснения особенностей брачных отношений в различных племенах, мой дорогой антрополог невольно привлек к обсуждению гены. Жаль, что он не сделал этого осознанно, потому что тогда бы ему стало ясно, с какими громадными трудностями столкнется его гипотеза: либо эти полиандрические племена прожили множество веков в своих необычных условиях и при частичной генетической изоляции, либо же естественный отбор должен был благоприятствовать тому, чтобы у всех на свете людей были гены, программирующие некую сложную “условную стратегию”. Ирония в том, что среди всех участников того семинара, посвященного полиандрии, именно я предложил в ходе дискуссии наименее “генетически детерминистский” взгляд на данный вопрос. Но поскольку я настаивал на том, чтобы говорить о генетической природе родственного отбора открыто, то, боюсь, был принят за чудака, одержимого генами, за “типичного генетического детерминиста”. Описанный случай хорошо иллюстрирует основную идею этой главы, что честное признание фундаментальной генетической природы дарвиновского отбора так легко путают с нездоровой озабоченностью идеями о врожденности индивидуального развития.
То же самое предубеждение против неприкрытого разговора о генах является всеобщим среди биологов и в тех случаях, когда можно прекрасно растечься мыслью на уровне индивидуума.
Утверждение “отбор благоприятствует генам выполнения поведения X за счет генов невыполнения X” несет неуловимый призвук наивности и непрофессионализма. Где доказательства, что есть такие гены? Как вы смеете выдумывать гены ad hoc, просто потому что они годятся для вашей гипотезы! Выражение “особи, выполняющие X, более приспособлены, чем особи, не выполняющие X” звучит куда респектабельнее. Даже если неизвестно, так ли это в действительности, его примут за допустимое предположение. Но обе фразы абсолютно равнозначны. Во второй нет ничего, что не было бы уже более ясно сказано в первой. Однако, признав эту равнозначность и открыто заговорив о генах “тех или иных адаптаций”, мы рискуем подвергнуться обвинениям в “генетическом детерминизме”. Надеюсь, мне удалось показать, что этот риск происходит от недоразумения и ни от чего больше. Разумный и совершенный способ рассуждать о естественном отборе – “генный селекционизм” – принимают за прочный предрассудок, касающийся индивидуального развития, – “генетический детерминизм”. Любой, кто ясно думает о подробностях возникновения адаптаций, практически вынужден, если не осознанно, так безотчетно, думать и о генах, пусть бы даже и о гипотетических. Как я покажу в этой книге, многое можно сказать в пользу того, чтобы генетическую основу спекуляций на тему дарвиновских функций озвучивать откровенно, а не просто подразумевать. Это хороший способ избежать некоторых соблазнительных ошибок в рассуждениях (Lloyd, 1979). При этом может создаться впечатление, полностью неверное, будто мы одержимы генами и всей той мифической дребеденью, которую гены привнесли в современное журналистское сознание. Но называемая детерминизмом убежденность в том, что онтогенез неуклонен, словно движение по рельсам, находится (или должна находиться) за тысячу миль от того, о чем мы думаем. Конечно, отдельные социобиологи могут быть или не быть генетическими детерминистами. Также они могут быть растафарианцами, шейкерами или марксистами. Но их личное мнение по поводу генетического детерминизма, как и их личные религиозные убеждения, не имеет никакого отношения к тому факту, что они используют язык “генов такого-то поведения”, когда говорят о естественном отборе.
Немалая часть этой главы основывалась на предположении, что биологам может захотеться размышлять о дарвиновских “функциях” поведения. Но это не значит, что у любого поведения непременно есть дарвиновская функция. Возможно, существует широкий класс моделей поведения, нейтральных с точки зрения отбора или же вредных для тех, кто им следует, и бессмысленно рассматривать их как дарвиновские адаптации. Если это так, то доводы настоящей главы к ним неприменимы. Но вполне законно сказать: “Я интересуюсь адаптациями. Мне не обязательно думать, что все схемы поведения – адаптации, но я хочу изучать те схемы поведения, которые ими являются”. Аналогично, предпочтение изучать позвоночных, а не беспозвоночных, не обязывает нас считать, будто все животные – позвоночные. Пусть область наших исследований – адаптивное поведение, в таком случае мы не можем говорить о дарвиновской эволюции интересующих нас явлений, не постулируя для них генетической основы. А употребление словосочетания “ген признака X”, как более удобного, когда речь идет о “генетической основе признака X”, уже более полувека является стандартной практикой в популяционной генетике.
То же, насколько обширен класс моделей поведения, которые мы можем считать адаптациями, – вопрос совершенно особый и рассматривается в следующей главе.
Глава 3
Пределы совершенства
Так или иначе, в этой книге много внимания уделено логике дарвиновского объяснения биологических функций. Как известно из горького опыта, биолог, выказывающий большой интерес к объяснению функций, легко подвергается обвинениям, и порой настолько страстным, что человек, привыкший более к научным, нежели к идеологическим дебатам, может испугаться (Lewontin, 1977), – на него навешивают ярлык “адаптациониста”, считающего, что все животные абсолютно совершенны (Lewontin, 1979a, b; Gould & Lewontin, 1979). Адаптационизм определяют как “подход к изучению эволюции, принимающий без каких-либо доказательств, что все аспекты морфологии, физиологии и поведения живых организмов являются наиболее адаптивными, оптимальными способами решения проблем” (Lewontin, 1979b). В первоначальном варианте главы я выражал сомнение, что адаптационисты в полном смысле этого слова могут реально существовать, но недавно мне попалась следующая цитата – по иронии судьбы, из Левонтина собственной персоной: “В одном, я думаю, все эволюционисты согласны между собой – в том, что поистине невозможно выполнять свою работу лучше, чем это делает организм в свойственной ему среде” (Lewontin, 1967). С тех пор, кажется, Левонтин уже совершил свое путешествие в Дамаск, так что представлять его здесь в качестве делегата от адаптационистов было бы нечестно. Ведь в последние годы он вместе с Гульдом был одним из наиболее ясно высказывавшихся и убедительных критиков адаптационизма. За образец адаптациониста я возьму Э. Дж. Кейна, который остался (Cain, 1979) неизменно верен взглядам, изложенным в его острой и изящной статье “Совершенство животных”.
Будучи систематиком, Кейн в этой работе (Cain, 1964) нападает на традиционное противопоставление “функциональных” признаков, не считающихся надежными систематическими характеристиками, “предковым”, которые признаются таксономически важными. Кейн убедительно доказывает, что древние “базовые” признаки, такие как пятипалая конечность тетрапод или водная стадия онтогенеза амфибий, существуют, потому что они функционально полезны, а не потому что являются неизбежным историческим наследством, как это обычно подразумевается. Если одна из двух групп “в каком угодно смысле примитивнее другой, значит, сама ее примитивность должна быть приспособлением к какому-то менее специализированному способу жизни, который данная группа успешно осуществляет; это не может быть просто признаком неэффективности” (с.57). Сходную мысль Кейн высказывает и по поводу так называемых незначительных признаков, критикуя Дарвина, который находился под влиянием (на первый взгляд, неожиданным) Ричарда Оуэна, за чрезмерную готовность признать отсутствие функций. “Никому не придет в голову, что полоски на теле львят или пятна птенцов дрозда как-то полезны этим животным…” – это высказывание Дарвина сегодня сочтут рискованным даже самые яростные критики адаптационизма. Действительно, создается впечатление, что история на стороне адаптационистов, в том смысле что на частных примерах они вновь и вновь приводят насмешников в замешательство. Прославленное исследование давления отбора, поддерживающего полиморфизм окраски улитки Cepaea nemoralis, проведенное самим Кейном совместно с Шеппардом и их учениками, было, возможно, инициировано, в частности, тем фактом, что “самонадеянно утверждалось, будто для улитки не может быть важно, одна полоска у нее на раковине, или две” (Cain, p.48). “Но, возможно, наиболее примечательное функциональное объяснение “незначительного” признака дается в работе Мэнтон по двупарноногой многоножке Polyxenus, где показано, что признак, описываемый ранее как “орнамент” (что может быть бесполезнее?), – это почти в буквальном смысле ось, вокруг которой вращается вся жизнь животного” (Cain, p.51).
Адаптационизм как рабочая гипотеза, почти вера, несомненно, вдохновил некоторые выдающиеся открытия. Фон Фриш (von Frisch, 1967), бросив вызов респектабельному ортодоксальному учению фон Хесса, окончательно доказал наличие цветного зрения у рыб и медоносных пчел рядом контролируемых экспериментов. Его заставила провести эти эксперименты невозможность поверить в то, что, например, яркая окраска цветков существует без причины или только для услаждения человеческих глаз. Это, разумеется, не доказательство ценности адаптационистской веры. Каждый новый случай нужно рассматривать заново, с учетом его особенностей.
Веннер (Wenner, 1971), усомнившись в гипотезе фон Фриша о танце пчел, сослужил неоценимую службу, ибо этим он спровоцировал Дж. Л. Гульда (Gould, 1976) на блестящее подтверждение теории фон Фриша. Если бы Веннер был бо?льшим адаптационистом, исследования Гульда могло бы не быть, но зато и сам Веннер не позволил бы себе так беспечно заблуждаться. Любой адаптационист, признав, возможно, важность выявленных Веннером пробелов в постановке исходных экспериментов фон Фриша, сразу же перескочит, как это сделал Линдауэр (Lindauer, 1971), к фундаментальному вопросу: а почему вообще пчелы танцуют? Веннер не отрицал ни того, что они танцуют, ни того, что их танец, как это и утверждал фон Фриш, содержит полную информацию о направлении и расстоянии до источника пищи. Он отрицал только то, что другие пчелы используют заключенную в танце информацию. Адаптационист никогда не будет счастлив, зная, что какие-то животные совершают отнимающие уйму времени действия (притом настолько сложные, что их невозможно объяснить случайностью) безо всякого смысла. Тем не менее, адаптационизм – это палка о двух концах. Теперь я восхищен окончательными опытами Гульда, и не в мою пользу говорит тот факт, что будь я, как это ни невозможно, достаточно изобретателен, чтобы придумать их сам, я все равно не стал бы этим заниматься по причине своего чрезмерного адаптационизма. Я просто знал, что Веннер неправ (Dawkins, 1969)!
Адаптационистское мышление (но не слепая убежденность) оказалось ценным источником проверяемых гипотез в физиологии. Барлоу (Barlow, 1961), осознав огромную функциональную необходимость подавлять избыток входящих сигналов в сенсорных системах, пришел к удивительно связному пониманию множества фактов сенсорной биологии. Аналогичные, основанные на функциях, рассуждения применимы к моторной системе и вообще к системам, организованным по иерархическому принципу (Dawkins, 1976b; Haliman, 1977). Адаптационистская убежденность ничего не скажет нам о физиологическом механизме; для этого необходим эксперимент. Но осторожный адаптационистский подход может подсказать, какие из множества физиологических гипотез являются наиболее многообещающими и должны быть проверены в первую очередь.
Я попытался показать, что у адаптационизма есть как достоинства, так и недостатки. Но задача этой главы – дать классификацию факторов, ограничивающих совершенство, перечислить причины, почему тот, кто изучает адаптации, должен действовать осмотрительно. Прежде чем перейти к моему списку из шести ограничивающих совершенство факторов, я хочу разделаться с тремя другими, о которых говорят, но которые кажутся мне менее убедительными. В первую очередь возьмем нынешнюю полемику между генетиками, работающими на биохимическом уровне, по поводу “нейтральных мутаций” – она просто не имеет отношения к делу. Когда говорят о нейтральных мутациях в биохимическом смысле, то имеется в виду, что никакие изменения полипептидной структуры, получающиеся благодаря этим мутациям, не влияют на ферментативную активность белка. В данном случае нейтральная мутация не меняет хода эмбрионального развития, не имеет никакого фенотипического эффекта в том смысле, в каком биолог, изучающий целостный организм, понимает фенотипический эффект. Биохимическая полемика о нейтральных мутациях затрагивает интересный и важный вопрос, все ли изменения в генах имеют фенотипические проявления. Полемика об адаптационизме совершенно иная. В ней разбирается следующее: если уже есть фенотипический эффект, достаточно крупный, чтобы видеть его и задаваться о нем вопросами, должны ли мы непременно считать его результатом естественного отбора? “Нейтральные мутации” биохимиков более чем нейтральны. С точки зрения тех из нас, кто рассматривает морфологию, физиологию и поведение на макроскопическом уровне, это и не мутации вовсе. Мэйнард Смит (Maynard Smith, 1976b) имел в виду именно это: “Я рассматриваю “темп эволюции” как темп адаптивных преобразований. В этом смысле изменения в нейтральном аллеле не имеют отношения к эволюции”. Если биолог, изучающий целостный организм, видит генетически детерминированное различие между фенотипами, то он уже знает, что здесь не идет речь о нейтральности, как она сейчас понимается в полемике генетиков, работающих на биохимическом уровне.
Тем не менее, он может вести речь о нейтральных признаках, как они понимались в более ранней полемике (Fisher & Ford, 1950; Wright, 1951). Генетическое различие может проявляться на фенотипическом уровне, оставаясь при этом нейтральным для отбора. Однако математические вычисления, вроде тех, что были сделаны Фишером (Fisher, 1930b) и Холдейном (Haldane, 1932a), показывают, как ненадежны бывают субъективные человеческие суждения об “очевидно бессмысленной” природе некоторых биологических признаков. Например, Холдейн, сделав разумные допущения для типичной популяции, показал, что даже при таком слабом давлении отбора, как 1 на 1000, понадобится всего несколько тысяч поколений, чтобы закрепить изначально редкую мутацию, – маленькое время по геологическим меркам. Получается, в упоминающейся ниже полемике Райт был понят неверно.
Райт (Wright, 1980), узнав, что мысль об эволюции неадаптивных признаков путем дрейфа генов получила название “эффект Сьюэлла Райта”, был смущен “не только потому, что другие ранее выдвигали ту же идею, но и потому, что я сам вначале (1929 г.) резко ее отвергал, утверждая, что один только случайный дрейф приводит “неизбежно к вырождению и вымиранию”. Я отнес кажущиеся неадаптивными таксономические различия на счет плейотропного эффекта, а еще вероятнее, нашего незнания того, в чем их приспособительное значение”. Фактически, Райт хотел показать, что причудливая смесь дрейфа генов и естественного отбора способна создавать приспособления лучше, чем отбор, действующий в одиночку (см. с.39–40).
Второе предполагаемое ограничение для совершенства связано с аллометрией (Huxley, 1932): “Размер рогов у самцов оленей увеличивается быстрее, чем размер животного в целом… то есть, чем крупнее олень, тем более непропорционально крупные у него рога. Таким образом, нет необходимости выдвигать предположения насчет наличия у крупных оленей особой потребности в чрезвычайно крупных рогах” (Lewontin, 1979b). Ну, что ж, в словах Левонтина есть мысль, но я бы предпочел высказать ее по-другому. Из того, как это сказано сейчас, можно заключить, что аллометрическая константа неизменна и ниспослана свыше. Но величины, постоянные на одной временно?й шкале, могут быть переменными на другой. Аллометрическая константа – это параметр индивидуального развития. Как и любой другой параметр такого рода, она может подвергаться наследственной изменчивости и, следовательно, меняться в эволюционном масштабе времени (Clutton-Brock & Harvey, 1979). Высказывание Левонтина выглядит аналогичным вот чему: у всех приматов есть зубы; это совершенно очевидный факт, и, таким образом, нет необходимости выдвигать предположения насчет наличия у приматов особой потребности в зубах. Но, возможно, он хотел сказать что-то вроде следующего.
В ходе эволюции индивидуального развития оленей у них выработался механизм, благодаря которому рога растут непропорционально быстро относительно всего тела, с определенным коэффициентом аллометрии. Весьма вероятно, что эволюция этой аллометрической системы шла под влиянием отбора, никак не связанного с социальной функцией рогов: возможно, она оказалась сопряжена с какими-то предшествующими событиями в онтогенезе, и мы не увидим эту связь, пока не узнаем больше биохимических и цитологических подробностей эмбрионального развития. Пусть даже наличие чересчур крупных рогов влияет на естественный отбор на уровне поведения, но не исключено, что это влияние теряется на фоне более важных факторов отбора, связанных со скрытыми деталями раннего развития.
Уильямс (Williams, 1966, p.16) использовал аллометрию в своих рассуждениях о давлении отбора, приведшем к увеличению объема головного мозга человека. Он предположил, что главной мишенью отбора была способность к обучению на начальных этапах, в детстве. “Отбор, направленный на как можно более раннее приобретение речевых навыков, мог, в качестве аллометрического эффекта на развитие мозга, создать популяции, способные иногда порождать Леонардо”. Однако Уильямс никогда не рассматривал аллометрию как оружие против объяснения биологических явлений с помощью адаптаций. Чувствуется, что он был приверженцем не столько своей конкретной теории церебральной гипертрофии, сколько общего принципа, провозглашенного им в заключительном риторическом вопросе: “Не вправе ли мы ожидать, что нам будет гораздо проще понять человеческий разум, если мы узнаем цель, ради которой он возник?”
Все сказанное об аллометрии применимо также к плейотропии – способности одного гена давать несколько фенотипических эффектов. Это третье из предполагаемых ограничений совершенства, которые я хочу убрать с дороги, прежде чем приступить к своему основному перечню. Оно уже было упомянуто в моей цитате из Райта. Источник путаницы здесь, вероятно, в том, что плейотропия использовалась в качестве аргумента обеими полемизирующими сторонами, если только это можно назвать полемикой. Фишер (Fisher, 1930b) показал нам, как маловероятно то, чтобы какой-либо фенотипический эффект гена был нейтрален; так насколько же менее вероятно, чтобы все фенотипические эффекты гена оказались нейтральными. С другой стороны, Левонтин (Lewontin, 1979b) отметил, что “многие изменения признаков являются в большей степени следствием плейотропного действия генов, нежели прямым результатом естественного отбора по самим признакам. Желтый цвет мальпигиевых сосудов у насекомого не может сам по себе быть объектом для естественного отбора, поскольку ни один организм никогда этого цвета не увидит. Здесь мы, скорее, имеем дело с плейотропным последствием биохимических преобразований красного глазного пигмента, которые могут иметь приспособительное значение”. Тут нет настоящего разногласия. Фишер говорил о том, как влияет на отбор генетическая мутация, а Левонтин – о том, как влияет на отбор фенотипический признак; ровным счетом то же самое разграничение я провел, когда рассуждал о нейтральности, как ее понимают генетики, работающие на биохимическом уровне.
Взгляды Левонтина на плейотропию родственны другим его взглядам, а именно, на проблему определения того, что он называет естественными “лоскутками” – “фенотипическими единицами” эволюции. Иногда многие эффекты одного гена в принципе неразделимы – это различные стороны одного и того же явления, подобно тому как Эверест раньше назывался по-разному в зависисимости от того, с какой стороны на него смотрели. Биохимик видит молекулу, переносящую кислород, а этолог – красный цвет. Но существует и более интересная разновидность плейотропии, когда два фенотипических эффекта мутации можно отделить друг от друга. Фенотипическое проявление любого гена (относительно других его аллелей) принадлежит не только данному гену, но и эмбриологическому контексту, в котором он действует. Это предоставляет неисчислимые возможности модифицировать фенотипические последствия одной мутации при помощи других и является основой для таких почтенных идей, как теория Фишера (Fisher, 1930a) об эволюции доминантности, теории старения Медоуэра (Medawar, 1952) и Уильямса (Williams, 1957) и теория Гамильтона (Hamilton, 1967) об инертности Y-хромосомы. В связи со сказанным, если у мутации есть один полезный эффект и один вредный, то у отбора нет причин не благоприятствовать генам-модификаторам, которые разделяют эти два эффекта или же ослабляют вредный, усиливая полезный. Здесь, как и в случае с аллометрией, Левонтин представляет действие генов слишком уж неизменным, рассматривая плейотропию, как если бы она была свойством самого гена, а не взаимодействия между геном и его (способным к модификации) эмбриональным окружением.
Это приводит меня к моей собственной критике наивного адаптационизма, к моему собственному перечню пределов совершенства, который имеет много общего с аналогичными перечнями Левонтина и Кейна, а также Мэйнарда Смита (Maynard Smith, 1978b), Остера с Уилсоном (Oster & Wilson, 1978), Уильямса (Williams, 1966), Кьюрио (Curio, 1973) и прочих. Действительно, в нем куда больше согласия, чем можно было бы ожидать, учитывая полемический тон последних критических статей. Я буду мало касаться частных случаев, только в качестве примеров. И Кейн, и Левонтин равно подчеркивают, что не в общих интересах бороться с нашей изобретательностью в выдумывании возможной пользы от конкретных странных поступков, совершаемых животными. Нас здесь интересует более фундаментальный вопрос: на что вообще теория естественного отбора дает нам право рассчитывать? Мое первое ограничение совершенства – одно из самых очевидных, о нем упоминало большинство авторов, писавших об адаптациях.
Не в ногу со временем
Животные, которых мы видим, с большой вероятностью уже устарели, так как они созданы действием генов, прошедших отбор в некую давнюю эпоху, когда условия были иными. Мэйнард Смит (Maynard Smith, 1976b) предлагает количественную меру данного эффекта – “груз отставания”. Он (Maynard Smith, 1978b) ссылается на Нельсона, который показал, что олуши, в норме откладывающие только одно яйцо, вполне способны благополучно высидеть и выкормить двоих птенцов, если еще одно яйцо подбросить в качестве эксперимента. Несомненно, затруднительный случай для гипотезы Лэка об оптимальном размере выводка, и сам Лэк (Lack, 1966) не замедлил использовать “запаздывание” в качестве лазейки. Он выдвинул предположение, вполне правдоподобное, что выводок из одного птенца сформировался у олуш в тот период, когда пища была не столь обильна, и что у них еще не было времени проэволюционировать в соответствии с изменившимися обстоятельствами.
Такое выручение гипотезы из беды post hoc способно вызвать обвинения в грехе нефальсифицируемости, но мне подобные обвинения представляются неконструктивными, почти что нигилистическими. Мы не в парламенте и не в суде, где защитники дарвинизма, как и их противники, подсчитывают очки, заработанные в прениях. За исключением немногих подлинных противников дарвинизма, которые вряд ли читают эти строки, мы все в одной команде, все дарвинисты и по существу сходимся в понимании единственной, что ни говори, имеющейся у нас работающей теории, которая объясняет организованную сложность жизни. У всех нас должно быть искреннее желание узнать, почему олуши откладывают только одно яйцо, хотя могли бы два, а не воспользоваться этим фактом как поводом для дебатов. Возможно, Лэк обратился к теории “запаздывания” post hoc, но это не мешает ей быть проверяемой и оказаться совершенно верной. Несомненно, есть и другие толкования, которые, к счастью, тоже можно проверить. Мэйнард Смит, конечно же, прав, что “пораженческое” (Tinbergen, 1965) и непроверяемое объяснение “естественный отбор опять напортачил” надо оставить в стороне как крайнее средство, использующееся в простых исследовательских стратегиях только за неимением лучшего. Левонтин (Lewontin, 1978b) говорит во многом то же самое: “Следовательно, биологи в каком-то смысле вынуждены придерживаться крайне адаптационистского хода рассуждений, поскольку альтернативные варианты, которые несомненно действуют во многих случаях, в конкретных случаях невозможно проверить”.
Вернемся непосредственно к эффекту отставания во времени. Принимая во внимание то, что современный человек резко изменил среду обитания многих животных и растений за время, ничтожное по обычным эволюционным меркам, мы можем рассчитывать на довольно частые встречи с анахроничными адаптациями. Защитная реакция ежей, сворачивающихся клубком от хищников, прискорбно неэффективна против автомобилей.
Критики-непрофессионалы часто ставят вопрос о какой-нибудь очевидно неприспособительной особенности поведения современного человека – скажем, об усыновлении или контрацепции – после чего бросают вызов: “Объясните-ка это с помощью ваших эгоистичных генов, если сможете”. Понятно, что, как уже верно подчеркивали Левонтин, Гульд и другие, каждый мог бы, в меру своего остроумия, вытащить из рукава под видом “социобиологического” объяснения какую-нибудь небылицу, но я согласен с ними, а также с Кейном, что отвечать на такие вызовы – это заниматься упражнениями в пустословии, которые представляются однозначно вредными. Усыновление и контрацепция, так же как чтение, математика и депрессии, – суть результаты деятельности животного, чья окружающая среда в корне отличается от той, в которой его гены отбирались естественным отбором. Данный вопрос, касающийся приспособительного значения поведения в искусственном мире, никогда не должен вставать; и хотя глупый вопрос может быть достоин глупого ответа, мудрее будет вообще никак не отвечать и объяснить почему.
Здесь уместен аналогичный пример, услышанный мной от Р. Д. Александера. Мотыльки летят на пламя свечи, что никак не улучшает их совокупную приспособленность. В мире до изобретения свечей маленькие источники яркого света в темноте могли быть небесными телами, удаленными на оптически бесконечное расстояние, или же выходами из пещер и тому подобных замкнутых пространств. В последнем случае ценность для выживания приближения к источнику света сразу можно предположить. В первом тоже можно, хотя здесь она и менее очевидна (Fraenkel & Gunn, 1940). Для многих насекомых небесные тела служат компасами. Они находятся в оптической бесконечности, следовательно, их лучи параллельны, и насекомое, неизменно движущееся, скажем, под углом 30° к ним, будет перемещаться по прямой линии. Но если лучи исходят не из бесконечности, тогда они не параллельны, и насекомое, поступающее подобным образом, будет двигаться по спирали к источнику света (если угол направления острый), или от него (если угол тупой), или же кружиться вокруг источника света по орбите (если придерживаться курса, в точности равного 90° по отношению к лучам). Таким образом, самосожжение насекомых в пламени свечи не имеет само по себе никакой ценности для выживания: согласно нашей теории, оно – побочный продукт полезной способности ориентироваться с помощью источников света, расстояние до которых “принимается” за бесконечное. Когда-то такое “допущение” было безопасным. Теперь это не так, и, может быть, прямо сейчас отбор трудится над изменением поведения насекомых. (Что, однако, не обязательно. Накладные расходы на производство необходимых улучшений могут перевесить возможную выгоду: мотыльки, которые тратят усилия на отличение свечей от звезд, могут быть в среднем менее успешны, чем те, кто не замахивается на дорогостоящее распознавание и согласен на небольшой риск самосожжения.)
Но тут мы затрагиваем материи более тонкие, чем просто гипотеза отставания во времени. Это уже упоминавшаяся проблема того, какие признаки животных мы предпочитаем определять как самостоятельные единицы, которые необходимо объяснять. Левонтин (Lewontin, 1979b) ставит этот вопрос так: “Каковы “естественные лоскутки” движущих сил эволюции? Какова структура фенотипа в эволюции? Каковы фенотипические единицы эволюции?” Парадокс о пламени свечи возник только из-за способа, каким мы предпочли охарактеризовать поведение мотылька. Мы спросили: “Почему мотыльки летят в пламя свечи?” – и были озадачены. Если бы мы определили поведение по-иному и спросили: “Почему мотыльки движутся под постоянным углом к световым лучам (а это может случайно направлять их по спирали к источнику света, когда оказывается, что лучи не параллельны)?” – тогда, возможно, мы были бы озадачены меньше.
Рассмотрим более серьезный пример: мужскую гомосексуальность у человека. На первый взгляд, существование заметного меньшинства мужчин, предпочитающих половые контакты с представителями своего пола, создает затруднение для любой незатейливой дарвинистской теории. Довольно путаный заголовок распространявшейся частным образом гомосексуалистской брошюры, автор которой был достаточно любезен, чтобы прислать ее мне, подытоживает проблему: “Почему вообще есть “геи”? Почему эволюция не уничтожила “гейство” миллионы лет назад?” Между прочим, по мнению автора, эта проблема так важна, что подрывает основы всего дарвиновского мировоззрения. Трайверс (Trivers, 1974), Уилсон (Wilson, 1975, 1978) и особенно Вайнрих (Weinrich, 1976) обсуждают разнообразные варианты возможности того, что в некий период истории гомосексуалы могли быть функционально эквивалентны стерильным рабочим, которые не имеют своего потомства, чтобы лучше заботиться о других родственниках. Мне эта мысль не кажется особенно правдоподобной (Ridley & Dawkins, 1981), и уж конечно не более правдоподобной, чем гипотеза “подленького самца”. Согласно последней, гомосексуальность представляет собой “альтернативную тактику самцов” для получения возможности спариваться с самками. В обществе, где доминирующие самцы охраняют свои гаремы, отношение доминирующего самца к заведомому гомосексуалу будет с большей вероятностью толерантным, чем к заведомому гетеросексуалу, и, на основании этого, подчиненный в других отношениях самец сможет тайно копулировать с самками.
Но я привожу здесь гипотезу “подленького самца” не столько в качестве реалистичного предположения, сколько как наглядный пример того, до какой степени легко и неубедительно выдумывать подобные объяснения (Левонтин (Lewontin, 1979b) использовал такую же дидактическую уловку, рассуждая об обнаруженной гомосексуальности у Drosophila). Главное положение, которое я хочу доказать, совсем другое и куда более важное. Это вновь проблема того, как мы описываем фенотипический признак, который пытаемся объяснить.
Разумеется, гомосексуальность является затруднением для дарвинистов только в том случае, если в различии между гомосексуальным и гетеросексуальным индивидуумами имеется генетический компонент. Покуда это предмет спорный (Weinrich, 1976), давайте для наших рассуждений предположим, что имеется. И теперь возникает вопрос, каков смысл высказывания, что существует генетический вклад в данное различие – в просторечии, “ген (или гены) гомосексуальности”. Ведь это трюизм, недостойный даже называться аксиомой, причем скорее из области логики, нежели генетики, что фенотипический “эффект” гена – понятие, имеющее смысл только в определенном контексте влияний окружающей среды, причем окружающая среда включает в себя и все остальные гены генома. “Ген признака A” в окружении X может запросто оказаться геном признака B в окружении Y. Говорить об абсолютном, бесконтекстном фенотипическом эффекте попросту бессмысленно.
Даже если имеются гены, которые в сегодняшних условиях формируют гомосексуальный фенотип, это не означает, что в других условиях, скажем, в тех, какие были у наших предков в плейстоцене, они должны были оказывать такое же фенотипическое действие. Ген гомосексуальности, существующий в нашей современной среде, мог быть в плейстоцене геном чего-то совершенно иного. Итак, здесь мы обнаружили возможность особой разновидности “эффекта запаздывания во времени”. Может быть так, что фенотип, который мы пытаемся объяснить, даже и не существовал в неких давних условиях среды, и это несмотря на то, что соответствующий ген тогда уже вовсю существовал. Обычный эффект запаздывания, который мы обсуждали в начале настоящего раздела, касался изменений окружающей среды, проявлявшихся в изменении давления отбора. А теперь мы добавили более тонкую мысль, что изменения окружающей среды могут менять саму природу фенотипического признака, который мы беремся объяснять.
Исторически обусловленные ограничения
Реактивный двигатель сменил винтовой потому, что лучше справлялся с большинством задач. Разработчики первого реактивного двигателя начинали с чистой чертежной доски. Представьте себе, что бы они произвели, если бы вынуждены были создавать свой реактивный двигатель из уже существовавшего пропеллерного путем “эволюции”, заменяя по одной детали за раз – гайку за гайкой, шуруп за шурупом, заклепку за заклепкой. Собранный так реактивный двигатель был бы, в самом деле, замысловатым механизмом. Трудно вообразить, что самолет, сконструированный таким эволюционным способом, поднимется когда-нибудь с земли. И это не все: чтобы сделать аналогию с биологическими объектами более полной, мы должны добавить еще одно ограничение. Подниматься в воздух должен не только окончательный вариант, но и все промежуточные, причем каждый из них должен летать лучше своего предшественника. Взглянув в таком свете, мы будем далеки от того, чтобы считать животных совершенными, и сможем только удивляться, как у них вообще хоть что-то работает.
Найти у животных бесспорные примеры устройств, нелепых, будто нарисованных Хитом Робинсоном (или Рубом Голдбергом – Gould, 1978), труднее, чем можно предположить, исходя из предыдущего абзаца. Мой любимый пример, подсказанный профессором Дж. Д. Карри, – возвратный гортанный нерв. У млекопитающих, особенно у жирафа, кратчайший путь от мозга до гортани ни в коем случае не пролегает через заднюю стенку аорты, однако именно там проходит возвратный гортанный нерв. Можно предположить, что когда-то у отдаленных предков млекопитающих прямая линия между выходом данного нерва и его концевым органом проходила сзади от аорты. Когда же, в свой срок, шея начала удлиняться, то и нерв стал увеличивать свой крюк вокруг аорты, однако предельная стоимость каждого этапа удлинения этого окольного пути была небольшой. Значительная мутация могла бы полностью изменить прохождение нерва, но только ценой серьезных нарушений раннего эмбрионального развития. Возможно, что обладающий пророческим даром богоподобный дизайнер мог еще в девоне предвидеть жирафа и изначально направить этот нерв по-другому, но естественный отбор не может предвидеть. Как заметил Сидни Бреннер, нельзя рассчитывать на то, что естественный отбор мог благоприятствовать какой-нибудь бесполезной мутации в кембрии просто потому, что “она могла пригодиться в меловом периоде”.