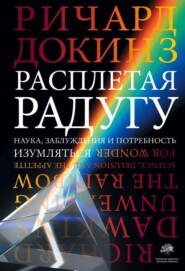По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если вообразить себе технологию, отличающуюся от современных разве что чуть большей быстродейственностью, то вполне правдоподобен следующий научно-фантастический сюжет. Враждебные иностранные силы выкрали профессора Криксона и заставляют его работать над созданием биологического оружия. Для спасения цивилизации ему жизненно необходимо сообщить некую секретную информацию во внешний мир, но все обычные каналы связи для него закрыты. За исключением одного. Код ДНК состоит из шестидесяти четырех троичных «кодонов» – достаточно, чтобы зашифровать весь английский алфавит (как заглавные буквы, так и строчные) плюс десять цифр, знак пробела и точку. Профессор Криксон берет с лабораторной полки особо заразный штамм вируса гриппа и встраивает в его геном полный текст своего послания внешнему миру, написанного великолепным английским языком. Он многократно воспроизводит свое послание в разных частях модифицированного генома с добавлением легко распознаваемой «сигнальной» последовательности – скажем, первой десятки простых чисел. Затем он заражает этим вирусом сам себя и чихает в комнате с большим скоплением народа. По планете прокатывается волна эпидемии гриппа, и медицинские лаборатории разных стран принимаются за расшифровку вирусного генома, чтобы разработать вакцину. Вскоре выясняется, что в геноме имеется странная повторяющаяся последовательность. Кого-нибудь настораживают простые числа – такое не могло возникнуть спонтанно, – и он догадывается прибегнуть к методам дешифровки. Отсюда уже рукой подать до прочтения написанного профессором Криксоном англоязычного текста, прочиханного по всему миру.
Наша генетическая система – универсальная для всего живого на планете – является в самой своей основе цифровой. В тех участках человеческого генома, что в настоящее время заполнены «мусорной» ДНК – то есть такой ДНК, которая не используется организмом (по крайней мере, по прямому назначению), – можно при желании зашифровать с дословной точностью полный текст Нового Завета. В каждой клетке вашего тела содержится нечто аналогичное сорока шести гигантским лентам с записанными на них цифровыми данными, неустанно снимаемыми огромным количеством одновременно работающих считывающих головок. Во всех клетках эти ленты – хромосомы – несут одну и ту же информацию, но считывающие головки каждого типа клеток отыскивают различные участки «базы данных» для сугубо своих, специализированных целей. Вот почему мышечные клетки так отличаются от клеток печени. Нет никакой одушевленной жизненной силы, никакого пульсирующего, самовоспроизводящегося, протоплазменного, мистического киселя. Жизнь – это просто байты, байты и еще раз байты цифровой информации.
Гены – это информация в чистом виде: информация, которую можно зашифровать, перешифровать и расшифровать без потерь и искажений смысла. Чистая информация может быть скопирована, и, поскольку речь идет о цифровой информации, точность этого копирования будет высочайшей. Та аккуратность, с какой воспроизводятся «буквы» ДНК, способна составить конкуренцию любым достижениям современных инженеров. Эти символы копируются из поколения в поколение, и случайные ошибки редки – их хватает только на то, чтобы вносить некоторое разнообразие. Очевидно, что среди получающегося разнообразия наиболее многочисленными будут непроизвольно становиться те комбинации символов, которые, будучи расшифрованными и примененными внутри организмов, заставляют организмы предпринимать активные шаги по сохранению и распространению этих самых ДНК-инструкций. Мы – и под «нами» я подразумеваю все живое – представляем собой машины выживания, запрограммированные распространять цифровую базу данных, запрограммировавшую нас. Выходит, что дарвинизм – это выживание тех, кто выжил на уровне строгого цифрового кода.
Задним числом понятно, что иначе и быть не могло. В аналоговой генетической системе нет ничего невообразимого, но мы уже видели, что происходит с аналоговой информацией при повторном копировании. Это «испорченный телефон». Усиленные телефонные сигналы, многократно переписанные магнитофонные ленты, ксерокопии ксерокопий – аналоговые данные так подвержены постепенному разрушению, что копирование возможно лишь на протяжении ограниченного числа поколений. Гены же способны самовоспроизводиться хоть десять миллионов раз подряд, едва ли вообще хоть сколько-нибудь разрушаясь. Дарвинизм возможен только потому, что – если не считать отдельных мутаций, которые естественный отбор либо выпалывает, либо сохраняет, – копировальный процесс безупречен. Лишь цифровой генетической системе под силу поддерживать жизнь по Дарвину в течение эонов. Тысяча девятьсот пятьдесят третий год – год двойной спирали – войдет в историю не только как дата, положившая конец мистическим и обскурантистским взглядам на живую природу; для ученых-дарвинистов он станет также годом, начиная с которого их предмет окончательно перешел на цифровые рельсы.
Река чистейшей цифровой информации, величаво текущая сквозь геологические эпохи, разветвляясь на три миллиарда рукавов, – картина впечатляющая. Но какое место она отводит привычным для нас признакам живого? Где на ней организмы, руки и ноги, глаза, мозги и вибриссы, листья, стволы и корни? Неужели мы – животные, растения, простейшие, грибы и бактерии – всего лишь берега для ручейков с цифровыми данными? В каком-то смысле так оно и есть. Но этим, как я уже намекал, дело не исчерпывается. Гены не только производят собственные копии, перетекающие от поколения к поколению. Они еще и проводят свое время внутри сменяющих друг друга организмов, влияя на их форму и поведение. Организмы тоже кое-что да значат.
Скажем, тело белого медведя – это не просто пара берегов для цифровой струйки. Также оно – сложный механизм размером с медведя. Все гены, принадлежащие целой популяции белых медведей, представляют собой коллектив надежных попутчиков, то и дело встречающихся друг с другом. Но это не значит, будто они проводят все свое время сразу со всеми остальными членами коллектива; в рамках имеющегося множества попутчиков им постоянно приходится менять компанию. Упомянутое множество определяется как набор тех генов, которые потенциально могут встретиться с любыми другими генами из того же набора (но ни с одним геном из существующих на свете тридцати миллионов других наборов). Сами же встречи происходят внутри какой-либо клетки в организме белого медведя. И организм этот – отнюдь не пассивный резервуар для ДНК.
Начнем с того, что само количество клеток белого медведя, в каждой из которых имеется полный набор генов, поражает воображение: около девятисот миллионов миллионов для взрослого самца. Если выстроить все клетки единственной медвежьей особи в ряд, то получившуюся линию можно было бы протянуть отсюда до Луны и обратно. Эти клетки распределяются между парой сотен четко различимых клеточных типов, более или менее общих для всех млекопитающих: мышечные клетки, нервные клетки, клетки костей, кожи и так далее. Клетки, принадлежащие к каждому из этих определенных типов, собираются вместе, формируя ткани: мышечную, костную и прочие. Во всех этих непохожих друг на друга клетках содержатся генетические инструкции по производству любой из них. Однако работают в них только те гены, которые необходимы для соответствующей ткани. Вот почему клетки из разных тканей отличаются друг от друга по форме и размеру. Еще любопытнее то, что гены, включающиеся в том или ином типе клеток, делают так, чтобы образующаяся из этих клеток ткань тоже принимала определенную форму. Кости – это отнюдь не аморфная масса жесткой и прочной ткани. Каждая кость имеет особые очертания со свойственными ей полыми трубками, шишками, впадинами, выступами и отростками. Клетки, благодаря включающимся у них внутри генам, запрограммированы вести себя так, словно им известно, где они расположены относительно своих соседок по ткани и как им следует выстраиваться, чтобы приобрести форму ушной раковины, сердечного клапана, хрусталика или мышцы сфинктера.
Сложность организма, такого как полярный медведь, многослойна. Организм представляет собой замысловатую совокупность филигранно отделанных органов вроде печени, почек или костей. А каждый орган – это многоуровневое строение, составленное из определенных тканей, строительными блоками которых являются клетки, обычно расположенные слоями и пластами, но нередко образующие и плотные скопления. Если же увеличить масштаб, то каждая клетка обладает крайне сложной внутренней структурой из складчатых мембран. Эти мембраны, а также жидкость между ними, служат полигоном для протекания хитроумных и очень разнообразных химических реакций. На химзаводе, принадлежащем компании ICI или Union Carbide, может проводиться несколько сотен реакций различного типа. Эти химические реакции разграничены стенками колб, пробирок и тому подобного. Количество реакций, одновременно протекающих внутри живой клетки, может быть не меньшим. В каком-то смысле мембраны клетки сродни стеклянной химической посуде, но аналогия эта неудачна по двум причинам. Во-первых, хотя многие реакции идут между мембранами, немало их протекает и непосредственно внутри вещества мембран. Во-вторых, здесь существует и иной, более важный способ отграничивать реакции друг от друга: каждая из них катализируется своим собственным специфическим ферментом.
Ферментом называется очень крупная молекула, чья трехмерная структура ускоряет какую-то одну определенную химическую реакцию, обеспечивая благоприятную для протекания этой реакции поверхность. А поскольку трехмерная структура – это в биологических молекулах самое главное, мы можем представить себе фермент в виде большого станка, тщательно отлаженного для того, чтобы штамповать молекулы определенной формы. Таким образом, внутри каждой отдельно взятой клетки – на поверхности различных молекул ферментов – могут одновременно и обособленно друг от друга протекать сотни разнообразных химических реакций. То, какие именно реакции происходят в данной клетке, определяется наличием в ней тех или иных ферментов в достаточном количестве. Формирование каждой молекулы фермента, в том числе и придание ей столь необходимой пространственной структуры, обусловлено действием некоего конкретного гена. Дело в том, что точная последовательность нескольких сотен кодовых знаков в гене определяет – в соответствии с набором правил, доподлинно нам известных и называемых генетическим кодом, – последовательность аминокислот в молекуле фермента. Каждый фермент – это линейная цепочка аминокислот, а каждая линейная цепочка аминокислот спонтанно сворачивается в особенную, уникальную трехмерную структуру, наподобие узла, где одни участки цепи образуют сшивки с другими участками. Точная трехмерная структура такого узла определяется одномерной последовательностью аминокислот, а значит, одномерной последовательностью кодовых символов в гене. Вот каким образом химические реакции, протекающие в клетке, зависят от того, какие гены в ней работают.
Ну а от чего же в таком случае зависит включение тех или иных генов в конкретной клетке? Ответ: от того, какие химические вещества в ней уже имеются. Здесь есть что-то от парадокса про курицу и яйцо, но проблема эта не непреодолима. Принцип ее решения крайне прост, хотя подробности и трудны для понимания. В информатике этот принцип называется самозагрузкой. Когда я только начинал пользоваться компьютерами в 1960-е годы, все программы загружались при помощи бумажной ленты. (В Америке в те времена для этой цели нередко использовались перфокарты, но действовали они точно так же.) Прежде чем ввести в компьютер длиннющую ленту с какой-нибудь серьезной программой, следовало установить на него небольшую программу, называемую загрузчиком. Программа эта выполняла только одно действие: объясняла компьютеру, как загружать бумажные ленты. Но вот наш «курино-яичный» парадокс: как же можно было загрузить ленту с программой-загрузчиком? В современные компьютеры аналог такой программы встроен изначально, но в те далекие времена вам сперва приходилось щелкать переключателями в некой ритуальной последовательности, которая объясняла компьютеру, как прочесть начало ленты с программой-загрузчиком. Затем это начало сообщало ему, как прочесть следующий участок ленты, и так далее. По мере того как вся лента с программой-загрузчиком оказывалась заглочена компьютером, он уже умел читать любые бумажные ленты и был готов к использованию.
При формировании зародыша вначале одна-единственная клетка – оплодотворенная яйцеклетка – делится на две, каждая половинка тоже делится, образуя четыре клетки, которые, в свою очередь, образуют восемь, и так далее. Через какие-нибудь несколько десятков делений количество клеток будет исчисляться триллионами – такова мощь экспоненциального роста. Но, если бы дело только тем и ограничивалось, все эти триллионы клеток были бы одинаковыми. Каким же образом им тогда удается дифференцироваться (прибегнем к этому научному термину) в клетки печени, почек, мышц и прочего? Тоже путем самозагрузки, и вот как это происходит. Несмотря на то что яйцеклетка имеет сферическую форму, ее внутреннему содержимому присуща полярность. У нее есть верхняя и нижняя часть, равно как и, во многих случаях, передняя и задняя (а также, следовательно, левая и правая стороны). Полярность эта проявляется в виде градиента концентрации различных веществ. Концентрация одних постепенно возрастает от переднего края к заднему, концентрация других – от верхушки к низу. Эти первичные градиенты весьма просты, но для того, чтобы осуществить первый этап «самозагрузки», их достаточно.
Когда из яйца образуется, скажем, тридцать две клетки (то есть после пяти делений), в одних клетках окажется больше, чем полагалось бы по справедливости, химических соединений из верхней части, а в других – соединений из нижней части. Кроме того, вещества могут неравномерно распределяться между клетками и в передне-заднем направлении. Этой разницы хватает для того, чтобы включить различные комбинации генов в различных клетках. Таким образом, клетки разных частей зародыша уже на ранних этапах его развития содержат разный набор ферментов, благодаря чему в клетках следующих поколений включаются все новые и новые комбинации генов. Следовательно, клеточные линии эмбриона преобразуются по-разному, а не остаются идентичными своим предшественницам и друг другу.
Это расхождение существенно отличается от того расхождения между видами, о котором мы говорили выше. Клеточное запрограммировано и предсказуемо до мелочей, в то время как видовое было непредсказуемым и случайным результатом географических событий. Более того, при расхождении видов накапливаются различия и между генами – то, что я романтически назвал «прощанием навек». А когда внутри зародыша однородная группа клеток разделяется на две, обе дочерние линии получают одни и те же гены, а именно – все. Однако в разных клетках оказываются разные сочетания химических веществ, что приводит в действие разные сочетания генов, причем функция некоторых генов состоит в том, чтобы включать или выключать другие гены. И такая «самозагрузка» продолжается до тех пор, пока мы не получим полного набора различных клеточных типов. Развивающийся эмбрион не только дифференцируется в пару сотен разнообразных типов клеток. Также его внутреннее и внешнее строение претерпевает изящные динамичные преобразования, самым значительным из которых является, вероятно, одно из самых первых: процесс, называемый гаструляцией. Выдающийся эмбриолог Льюис Вольперт заявил даже, что «самое важное событие в вашей жизни – не рождение, не женитьба и не смерть, а гаструляция». В ходе гаструляции полый шарик из клеток изгибается, образуя двухслойную чашу. Практически все представители животного царства проходят в своем развитии через данный этап. На этом общем фундаменте покоится все эмбриологическое разнообразие. Гаструляцию я здесь привел просто как единичный и особенно яркий пример беспокойного, напоминающего оригами движения клеточных листков, часто наблюдаемого при развитии зародышей.
По завершении виртуозно выполненного оригами, после нескончаемого складывания, выпячивания, впячивания и растягивания клеточных слоев, после динамичного регулирования скорости роста одних частей зародыша относительно других, после дифференцировки сотен специализированных типов клеток, различающихся по химическому составу и физическим свойствам, после того как общее число клеток будет исчисляться триллионами, возникнет конечный результат – младенец. Впрочем, и этот результат еще не конечный, поскольку весь процесс роста взрослеющего, а затем стареющего индивидуума (роста, при котором опять-таки одни части организма увеличиваются быстрее других) можно рассматривать как продолжение все того же эмбрионального развития – как этап развития индивидуального, или онтогенеза.
Люди не похожи друг на друга из-за количественных различий в некоторых деталях онтогенеза. Клеточный слой вырос чуть-чуть дальше, прежде чем подогнуться, и мы получаем… Что же именно? Орлиный нос вместо вздернутого; плоскостопие, которое, быть может, спасет вам жизнь, так как из-за него вас не примут в армию; особую форму лопатки, способствующую тому, что вы будете хорошо бросать копья (или ручные гранаты, или крикетные мячи, в зависимости от обстоятельств). Порой индивидуальные отличия в оригами клеточных слоев оказываются трагическими – например, рождается ребенок с культями вместо рук. Последствия тех индивидуальных отличий, которые проявляются не в клеточных оригами, а исключительно на химическом уровне, могут быть не менее серьезными: неспособность переваривать молоко, предрасположенность к гомосексуальности, или к аллергии на арахис, или к ощущению, будто манго неприятно отдает скипидаром.
Эмбриональное развитие – очень сложное физическое и химическое действо. Малейшее изменение на любом его этапе может иметь значительные последствия в дальнейшем. Что не так уж удивительно, если вспомнить, насколько это самозагружающийся процесс. Многие отличия в индивидуальном развитии обусловлены разницей в условиях окружающей среды, например, кислородным голоданием или воздействием талидомида. Многие другие различия обусловлены генами – причем рассматриваемыми не по отдельности, а во взаимодействии друг с другом и с особенностями окружающей среды. Такой многосоставной, калейдоскопический, причудливо самозагружающийся процесс, как развитие зародыша, одновременно и устойчив, и чувствителен. Устойчив он потому, что успешно предотвращает многие потенциальные изменения, производя на свет живого младенца вопреки непредвиденностям, которые иногда кажутся непреодолимыми. И в то же время он до такой степени чувствителен к изменениям, что два индивидуума, будь то даже однояйцевые близнецы, не могут быть в буквальном смысле слова идентичными по всем признакам.
Итак, к чему я, собственно, веду. В той степени, в какой индивидуальные различия обусловлены генами (а степень эта бывает как маленькой, так и большой), естественный отбор может благоприятствовать одним особенностям эмбриологического оригами или эмбриологической химии и не благоприятствовать другим. В той степени, в какой гены влияют на вашу способность совершать меткие броски, она может быть поддержана или не поддержана отбором. Если эта способность хоть сколько-нибудь, сколь угодно мало, помогает индивидууму дожить до детородного возраста, то в той степени, в какой она предопределена некими генами, возрастают и шансы этих генов прорваться в следующее поколение. Любая особь может погибнуть по причинам, никак не связанным с ее метательными способностями. Но ген, при наличии которого эти способности имеют тенденцию быть лучше, чем при его отсутствии, обитает во множестве организмов – как успешных, так и неудачливых – на протяжении многих поколений. С точки зрения данного конкретного гена все прочие причины гибели усредняются. В долгосрочной перспективе для него имеет значение только река из ДНК, текущей сквозь поколения и находящей лишь временное прибежище в конкретных организмах, лишь временно делящей организм с генами-попутчиками – как удачливыми, так и не очень.
В долгосрочной перспективе эта река заполняется генами, хорошо умеющими выживать благодаря каким-то своим качествам: это может быть легкое улучшение способности бросать копье, легкое улучшение способности распознавать яд или что угодно другое. А гены, в среднем выживающие хуже – потому, например, что наделяют тела, по которым они передаются, астигматизмом (и следовательно, те хуже мечут копья) или же делают их менее привлекательными, отчего те реже спариваются, – такие гены будут склонны к исчезновению из генной реки. При этом нельзя упускать из виду и сделанный нами ранее вывод о том, что гены, сохраняющиеся в реке, будут хорошо уметь выживать в типичной среде обитания, характерной для данного вида. И возможно, наиболее важным фактором этой среды являются принадлежащие тому же биологическому виду другие гены – те, с которыми некий конкретный ген имеет шансы встретиться в одном организме, те другие гены, которые плывут сквозь геологические эпохи по той же реке, что и он.
Глава 2
Вся Африка и потомки ее
Нередко считается, что утверждать, будто наука – не более чем наш современный миф о происхождении мира, очень умно. Дескать, у евреев были их Адам и Ева, у шумеров – Мардук и Гильгамеш, у греков – Зевс и другие олимпийские боги, у викингов – Валгалла. Так что же такое эволюция, спрашивают иные сообразительные люди, как не современный эквивалент богов и героев сказаний – не хуже и не лучше, не правдивее и не лживее, чем они? Модная салонная философия, называемая культурным релятивизмом, в своих крайних формах гласит, будто наука претендует на истину не больше, чем мифология какого-либо племени, просто наше современное западное племя предпочитает такую, научную, мифологию. Как-то раз один мой коллега-антрополог вынудил меня поставить вопрос ребром. «Представьте себе, – сказал я, – что существует племя, верящее, будто луна – это большая тыква, заброшенная в небо и висящая на уровне верхушек деревьев. Действительно ли вы считаете научную истину, что Луна находится на расстоянии четверти миллиона миль от нас и что ее диаметр составляет четверть диаметра Земли, не более верной, чем легенда этого племени про тыкву?» – «Именно, – ответствовал антрополог. – Просто мы выросли в культуре с научным взглядом на мир. А они приучены видеть мир иначе. Ни один из этих способов не является более правильным, чем другой».
Покажите мне культурного релятивиста на высоте тридцати тысяч футов, и я покажу вам лицемера. Самолеты, построенные по правилам науки, работают. Они держатся в воздухе и доставляют вас в пункт назначения. Чего не скажешь о летательных аппаратах, выполненных по племенным и мифическим технологиям: о макетах самолетов, используемых в карго-культах, или о скрепленных воском крыльях Икара[7 - Я уже не в первый раз прибегаю к этому железному аргументу и должен подчеркнуть, что направлен он исключительно против тех, кто придерживается взглядов моего коллеги из примера с тыквой. Существуют люди, которые также называют себя культурными релятивистами, чем вносят путаницу, поскольку их убеждения совсем другие и вполне разумные. По их мнению, культурный релятивизм означает всего-навсего то, что вы не можете понять чью-либо культуру, если излагаете ее в терминах своей собственной. Любое характерное для той или иной культуры верование следует рассматривать только в контексте других верований, ей свойственных. Подозреваю, что эта, здравая, разновидность культурного релятивизма является исходной, а та, которую я критикую, – экстремистским, хотя и пугающе распространенным, искажением. Разумным релятивистам следует прилагать больше усилий, чтобы отмежеваться от своих вздорных собратьев. – Прим. автора.]. Если вы летите на международный конгресс антропологов или литературных критиков, то причина, по которой вы туда, скорее всего, попадете, а не рухнете на вспаханное поле, состоит в том, что многочисленные инженеры с западным научным образованием не ошиблись в своих расчетах. Западная наука, исходя из того надежного факта, что Луна обращается вокруг Земли на расстоянии четверти миллиона миль, и вооружившись западными компьютерами и ракетами, сумела высадить людей на ее поверхность. Наука племени, полагающего, будто луна висит прямо над деревьями, никогда до нее не дотянется, разве что в мечтах.
Мне редко приходится давать публичную лекцию без того, чтобы кто-нибудь из аудитории радостно не встрял с заявлением в духе моего коллеги-антрополога, и обычно это вызывает одобрительный гул. Безусловно, те, кто производит этот гул, чувствуют себя прекрасными, либеральными и антирасистски настроенными людьми. Еще более надежный способ вызвать поддакивание – это заявить что-нибудь вроде «В сущности, ваша убежденность в эволюции стала своего рода верой, и следовательно, она ничуть не лучше чьей-нибудь веры в Эдемский сад».
Свой космологический миф, объясняющий происхождение вселенной, жизни и человечества, есть у любого племени. В каком-то смысле наука действительно дает нашему современному обществу – по крайней мере, его образованной части – нечто аналогичное. Науку даже можно рассматривать как одну из религий: я сам однажды кратко высказался в пользу науки как подходящей темы для уроков религиозного воспитания[8 - Журнал The Spectator (Лондон) от 6 августа 1994 года. – Прим. автора.], и это не было просто шуткой. (В Британии религиозное воспитание входит в обязательную школьную программу, в то время как в США этот предмет запрещен из боязни оскорбить какую-либо из множества противоречащих друг другу конфессий.) Подобно религии, наука претендует на то, чтобы объяснять происхождение и природу жизни и космоса. Но на этом сходство заканчивается. Научные взгляды подтверждаются доказательствами и приносят результаты. А о мифах и верованиях нельзя сказать ни того ни другого.
Из всех легенд о происхождении мира еврейская сказка об Эдеме проникла в нашу культуру особенно глубоко, так что даже снабдила именем серьезную научную теорию о наших предках – «теорию африканской Евы». Настоящую главу я посвящаю африканской Еве – отчасти ради того, чтобы дальше развить метафору «реки ДНК», но также потому, что мне хотелось бы противопоставить эту научную гипотезу легендарной прародительнице из Эдемского сада. Если мне удастся задуманное, то истина покажется вам более захватывающей и даже, быть может, более поэтичной, чем миф. Начну с чисто умозрительных рассуждений. Вскоре станет ясно, какое отношение они имеют к моему рассказу.
У вас двое родителей, четверо дедушек и бабушек, восьмеро прадедушек и прабабушек и так далее. С каждым поколением количество предков удваивается. Если отступить на g поколений назад, число предков будет равняться двойке, помноженной саму на себя g раз: 2 в степени g. Ну, если не считать того, что мы можем тут же, не вставая с дивана, убедиться в ложности такого вывода. Для этого нам нужно будет отступить совсем недалеко в прошлое – скажем, во времена Иисуса Христа, практически ровно на две тысячи лет назад. Если мы скромно отведем четыре поколения на столетие – иначе говоря, предположим, что в среднем люди размножаются в возрасте двадцати пяти лет, – то на два тысячелетия придется не более восьмидесяти поколений. На самом деле их, по всей вероятности, было больше, так как женщины вплоть до недавнего времени начинали рожать чрезвычайно рано, но это всего лишь «диванное» вычисление, и оно будет наглядным, невзирая на подобные мелочи. Двойка, помноженная на себя 80 раз, – чудовищное число, единица с 24 нулями, триллион триллионов. Во времена Иисуса у вас был миллион миллионов миллионов миллионов предков, и у меня тоже! Однако общая численность людей на земле была тогда долей ничтожной доли от только что полученного нами результата.
Где-то мы, очевидно, ошиблись, но где? Вычисления наши верны. Неверно только допущение об удваивании в каждом поколении. В самом деле, мы позабыли, что родственники иногда женятся между собой. Я исходил из того, что у каждого из нас восемь прабабушек и прадедушек. Но у любого ребенка, родившегося от брака между двоюродными братом и сестрой, их только шесть, поскольку общие бабушка и дедушка этих двоюродных брата и сестры будут ему дважды прабабушкой и прадедушкой. «Ну и что с того? – возможно, спросите вы. – Время от времени люди вступают в браки со своей родней (Эмма Веджвуд, жена Чарльза Дарвина, была его двоюродной сестрой), но наверняка это случается достаточно редко, чтобы не иметь серьезного значения». А вот и нет, ведь под родней в данном случае подразумеваются и троюродные братья, и пятиюродные, и семнадцатиюродные и так далее. Если принимать во внимание столь дальнее родство, то любой брак оказывается браком между родственниками. Иногда приходится слышать, как люди выхваляются своим дальним родством с королевой, однако это весьма самонадеянно с их стороны, поскольку мы все – дальние родственники королевы, а также чьи угодно еще, всех линий родства и не проследить. Единственное, чем королевские и аристократические семьи отличаются от прочих, – так это тем, что они могут предъявить свое генеалогическое древо во всех подробностях. Как заметил четырнадцатый граф Хьюм, после того как политический оппонент съязвил по поводу его титула: «Если подумать, то мистер Уилсон – это четырнадцатый мистер Уилсон».
Из всего этого следует, что мы приходимся друг другу более близкой родней, чем обычно думаем, и что у нас было намного меньше предков, чем можно было бы предположить, исходя из незамысловатых вычислений. Однажды я, желая услышать рассуждения своей студентки на этот счет, попросил ее высказать обоснованное мнение о том, когда жил наш с ней последний общий предок. Глядя мне прямо в глаза и ни на мгновение не задумываясь, она ответила с тягучим сельским акцентом: «Он был обезьяной». Простительный интуитивный просчет, но ошибка составила примерно 10 000 %. Подразумевалось, что наши генеалогические деревья были разделены в течение миллионов лет. В действительности же наш с этой студенткой ближайший общий предок жил не ранее пары веков назад – скорее всего, значительно позже Вильгельма Завоевателя. Более того, наверняка мы с ней являемся родственниками по многим линиям одновременно.
Та модель родословной, которая привела нас к вычислению ошибочно большого количества предков, представляла собой постоянно ветвящееся древо. Если развернуть это древо в противоположную сторону, то получится столь же ошибочная модель для оценки числа потомков. У типичного человека двое детей, четверо внуков, восьмеро правнуков и так далее, вплоть до невообразимых триллионов потомков всего несколько столетий спустя. Моделью, дающей гораздо более реалистичные представления как о предках, так и о потомках, будет все та же река генов, о которой шла речь в предыдущей главе. В пределах ее берегов гены текут сквозь время непрерывным потоком. Течения внутри этого потока то образуют завихрения и водовороты, то снова сливаются, по мере того как гены постоянно встречаются и расходятся во времени. Возьмите пробы воды из этой реки на разных участках ее течения. Те пары молекул, что оказались зачерпнутыми в одно ведерко, уже встречались раньше и наверняка встретятся вновь. Также им приходилось расходиться и, несомненно, придется разойтись снова. Довольно трудно проследить все те точки, где они встречаются, но у нас есть математическая уверенность в том, что такие встречи происходят: что если в определенной точке два гена разнесены потоком, то достаточно переместиться совсем немного выше или ниже по течению – и они опять соприкоснутся друг с другом.
Вы можете не знать о том, что ваш муж приходится вам родней, но статистически весьма вероятно, что для того, чтобы найти ту точку, где ваш род пересекается с его родом, вам не понадобится углубляться далеко в прошлое. Если же посмотреть в противоположном направлении, в будущее, то может показаться очевидным, что у вас и у вашего супруга или супруги с высокой вероятностью будет общее потомство. Но тут есть и другое, намного более поразительное соображение. В следующий раз, когда вы очутитесь среди большого скопления народа – например, в концертном зале или на футбольном матче, – оглядитесь вокруг и задумайтесь вот над чем. Если в принципе у вас окажутся потомки в отдаленном будущем, то почти наверняка среди окружающей вас публики найдутся люди, которым вы можете пожать руку, поскольку они тоже будут предками ваших далеких потомков. Те, кому выпало быть бабушками и дедушками одних и тех же внуков, обычно знают об этом, что, как правило, связывает их неким чувством родства, независимо от того, ладят они между собой или нет. Они могут посмотреть друг на друга и сказать себе: «Что ж, положим, я от него не в восторге, но его ДНК смешана с моей внутри нашего общего внука и мы вправе надеяться на общих потомков в будущем, много позже нашей смерти. Определенно, это создает между нами некоторую связь». Но я хочу обратить ваше внимание на то, что если вам вообще повезет иметь отдаленных потомков, то их предками будут, возможно, и совершенно незнакомые вам люди из концертного зала. Вы можете обвести публику взглядом, строя предположения, у кого именно из присутствующих – как мужского, так и женского пола – будут общие с вами потомки, а у кого нет. Вы и я, кем бы вы ни были и какими бы ни были цвет вашей кожи и ваш пол, вполне можем оказаться предками одних и тех же людей. Не исключено, что вашей ДНК суждено смешаться с моей. Приветствую вас!
Теперь давайте представим себе, будто мы отправились на машине времени в прошлое: скажем, в заполненный зрителями Колизей, или на базар в Уре, или куда-нибудь еще раньше. Оглядите толпу, так же как мы делали это в нашем воображаемом современном концертном зале, и отдайте себе отчет в том, что всех этих давно умерших людей можно разделить на две, и только две, категории: на ваших предков и всех остальных. Данное наблюдение достаточно очевидно, но оно подталкивает нас к знаменательному выводу. Если забраться достаточно далеко в прошлое, то каждый, кто вам повстречается, будет приходиться предком либо любому человеку, живущему в 1995 году, либо вообще никому из наших современников. Никаких промежуточных вариантов. Каждый индивидуум, который попадется вам на глаза, как только вы вылезете из своей машины времени, будет прародителем или всему человечеству, или вообще никому.
Шокирующая мысль, но доказать ее проще простого. Все, что нам нужно, – это отправить нашу воображаемую машину времени на абсурдно большое расстояние, скажем, на триста пятьдесят миллионов лет назад, когда нашими предками были кистеперые рыбы, которые обладали легкими и как раз начинали выходить из воды и превращаться в амфибий. Если некая конкретная рыбина – мой предок, то невозможно себе представить, чтобы она не была при этом и вашим предком тоже. Иначе пришлось бы признать, что цепочка предков, ведущая ко мне, и цепочка, ведущая к вам, независимо, ни разу не пересекаясь, проэволюционировали из рыб в земноводных, из земноводных в пресмыкающихся и так далее: в млекопитающих, приматов, человекообразных обезьян и древних людей, придя к настолько сходным результатам, что мы с вами можем разговаривать друг с другом, а если мы разного пола, то и скрещиваться. То же будет справедливо и для любых двух случайно взятых человек.
Нам удалось доказать, что если углубиться достаточно далеко в прошлое, то любая особь, какую мы встретим, будет приходиться предком либо каждому из нас, либо не будет им приходиться никому из сегодняшних людей. Но какое расстояние подразумевается под “достаточным”? Нам определенно не нужно добираться до кистеперых рыб – это было reductio ad absurdum, – но все же насколько далеко в прошлое придется перемещаться, чтобы дойти до общего предка всех людей, живущих в 1995 году? Этот вопрос намного сложнее, и именно к нему я собираюсь сейчас перейти. На него уже нельзя ответить умозрительно, не вставая с дивана. Тут понадобится подлинная информация: точные цифры, взятые из сурового мира конкретных фактов.
Сэр Рональд Фишер, грандиозный английский генетик и математик, которого можно в равной степени считать и величайшим последователем Дарвина в XX веке, и отцом современной статистики, писал в 1930 году:
Только географические и другие барьеры на пути свободного скрещивания между расами… помешали всему человечеству, исключая последние 1000 лет, иметь практически идентичное происхождение. Если исключить последние 500 лет, то различие в происхождении представителей одной и той же нации будет крайне мало; если исключить последние 2000 лет, то, по-видимому, единственными оставшимися различиями были бы различия между выраженными этнографическими расами; этнографические расы… и в самом деле могут быть достаточно древними образованиями, но и этот случай может быть верен только при условии, что на протяжении долгих лет диффузия крови между отдельными группами практически отсутствовала[9 - Р. Фишер, «Генетическая теория естественного отбора», глава 6, перевод Л. С. Ванаг и Е. И. Фукаловой.].
Если вернуться к понятиям нашей аналогии с рекой, то Фишер, в сущности, прибегает к тому факту, что все гены, принадлежащие не разделенной географическими барьерами расе, «текут» в одной «струе». Но когда он, чтобы оценить давность расхождения рас, обращается к конкретным числам – 500 лет, 2000 лет, – ему приходится делать допущения. В его время необходимые факты еще не были известны. Сегодня же, благодаря молекулярно-биологической революции, мы скорее страдаем от избытка сыплющихся на нас фактов. Именно молекулярная биология познакомила нас с обаятельной африканской Евой.
ДНК сравнивали не только с цифровой рекой. Также напрашивается сравнение ДНК каждого человека с семейной библией. ДНК представляет собой очень длинный текст, написанный, как мы знаем из предыдущей главы, четырехбуквенным алфавитом. Эти буквы, тщательно скопированные, пришли к нам от наших предков, и только от них, с поразительной точностью воспроизводя наследие даже очень далеких прародителей. Сравнивая тексты, сохранившиеся в разных людях, можно было бы выявить степень их родства и добраться до общего предка. У более дальних родственников – скажем, у норвежцев и австралийских аборигенов – обнаружатся различия в большем количестве слов. Исследователи проделывают подобную работу с разными вариантами библейских текстов. К сожалению, в случае с архивами ДНК имеется помеха: половой процесс.
Половой процесс – это кошмар архивариуса. Вместо того чтобы оставлять унаследованные от предков тексты неприкосновенными, подверженными разве только неизбежным случайным повреждениям, он энергично набрасывается на них, преднамеренно путая все следы. Ни один слон в посудной лавке не способен натворить такого бедлама, какой царит в ДНК-архивах по милости полового процесса. Ни один исследователь Библии не сталкивается ни с чем подобным. Нет, если он изучает происхождение, скажем, Песни песней Соломона, то ему, конечно же, известно, что на самом деле она не такова, какой нам кажется. В ней встречаются странные несвязности, позволяющие предположить, что в действительности Песнь песней представляет собой сшитые вместе фрагменты нескольких различных поэм, причем только некоторые из них имели эротический характер. Немало там и ошибок – мутаций, – особенно переводческих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники…»[10 - Песн. 2: 15.]
Наша генетическая система – универсальная для всего живого на планете – является в самой своей основе цифровой. В тех участках человеческого генома, что в настоящее время заполнены «мусорной» ДНК – то есть такой ДНК, которая не используется организмом (по крайней мере, по прямому назначению), – можно при желании зашифровать с дословной точностью полный текст Нового Завета. В каждой клетке вашего тела содержится нечто аналогичное сорока шести гигантским лентам с записанными на них цифровыми данными, неустанно снимаемыми огромным количеством одновременно работающих считывающих головок. Во всех клетках эти ленты – хромосомы – несут одну и ту же информацию, но считывающие головки каждого типа клеток отыскивают различные участки «базы данных» для сугубо своих, специализированных целей. Вот почему мышечные клетки так отличаются от клеток печени. Нет никакой одушевленной жизненной силы, никакого пульсирующего, самовоспроизводящегося, протоплазменного, мистического киселя. Жизнь – это просто байты, байты и еще раз байты цифровой информации.
Гены – это информация в чистом виде: информация, которую можно зашифровать, перешифровать и расшифровать без потерь и искажений смысла. Чистая информация может быть скопирована, и, поскольку речь идет о цифровой информации, точность этого копирования будет высочайшей. Та аккуратность, с какой воспроизводятся «буквы» ДНК, способна составить конкуренцию любым достижениям современных инженеров. Эти символы копируются из поколения в поколение, и случайные ошибки редки – их хватает только на то, чтобы вносить некоторое разнообразие. Очевидно, что среди получающегося разнообразия наиболее многочисленными будут непроизвольно становиться те комбинации символов, которые, будучи расшифрованными и примененными внутри организмов, заставляют организмы предпринимать активные шаги по сохранению и распространению этих самых ДНК-инструкций. Мы – и под «нами» я подразумеваю все живое – представляем собой машины выживания, запрограммированные распространять цифровую базу данных, запрограммировавшую нас. Выходит, что дарвинизм – это выживание тех, кто выжил на уровне строгого цифрового кода.
Задним числом понятно, что иначе и быть не могло. В аналоговой генетической системе нет ничего невообразимого, но мы уже видели, что происходит с аналоговой информацией при повторном копировании. Это «испорченный телефон». Усиленные телефонные сигналы, многократно переписанные магнитофонные ленты, ксерокопии ксерокопий – аналоговые данные так подвержены постепенному разрушению, что копирование возможно лишь на протяжении ограниченного числа поколений. Гены же способны самовоспроизводиться хоть десять миллионов раз подряд, едва ли вообще хоть сколько-нибудь разрушаясь. Дарвинизм возможен только потому, что – если не считать отдельных мутаций, которые естественный отбор либо выпалывает, либо сохраняет, – копировальный процесс безупречен. Лишь цифровой генетической системе под силу поддерживать жизнь по Дарвину в течение эонов. Тысяча девятьсот пятьдесят третий год – год двойной спирали – войдет в историю не только как дата, положившая конец мистическим и обскурантистским взглядам на живую природу; для ученых-дарвинистов он станет также годом, начиная с которого их предмет окончательно перешел на цифровые рельсы.
Река чистейшей цифровой информации, величаво текущая сквозь геологические эпохи, разветвляясь на три миллиарда рукавов, – картина впечатляющая. Но какое место она отводит привычным для нас признакам живого? Где на ней организмы, руки и ноги, глаза, мозги и вибриссы, листья, стволы и корни? Неужели мы – животные, растения, простейшие, грибы и бактерии – всего лишь берега для ручейков с цифровыми данными? В каком-то смысле так оно и есть. Но этим, как я уже намекал, дело не исчерпывается. Гены не только производят собственные копии, перетекающие от поколения к поколению. Они еще и проводят свое время внутри сменяющих друг друга организмов, влияя на их форму и поведение. Организмы тоже кое-что да значат.
Скажем, тело белого медведя – это не просто пара берегов для цифровой струйки. Также оно – сложный механизм размером с медведя. Все гены, принадлежащие целой популяции белых медведей, представляют собой коллектив надежных попутчиков, то и дело встречающихся друг с другом. Но это не значит, будто они проводят все свое время сразу со всеми остальными членами коллектива; в рамках имеющегося множества попутчиков им постоянно приходится менять компанию. Упомянутое множество определяется как набор тех генов, которые потенциально могут встретиться с любыми другими генами из того же набора (но ни с одним геном из существующих на свете тридцати миллионов других наборов). Сами же встречи происходят внутри какой-либо клетки в организме белого медведя. И организм этот – отнюдь не пассивный резервуар для ДНК.
Начнем с того, что само количество клеток белого медведя, в каждой из которых имеется полный набор генов, поражает воображение: около девятисот миллионов миллионов для взрослого самца. Если выстроить все клетки единственной медвежьей особи в ряд, то получившуюся линию можно было бы протянуть отсюда до Луны и обратно. Эти клетки распределяются между парой сотен четко различимых клеточных типов, более или менее общих для всех млекопитающих: мышечные клетки, нервные клетки, клетки костей, кожи и так далее. Клетки, принадлежащие к каждому из этих определенных типов, собираются вместе, формируя ткани: мышечную, костную и прочие. Во всех этих непохожих друг на друга клетках содержатся генетические инструкции по производству любой из них. Однако работают в них только те гены, которые необходимы для соответствующей ткани. Вот почему клетки из разных тканей отличаются друг от друга по форме и размеру. Еще любопытнее то, что гены, включающиеся в том или ином типе клеток, делают так, чтобы образующаяся из этих клеток ткань тоже принимала определенную форму. Кости – это отнюдь не аморфная масса жесткой и прочной ткани. Каждая кость имеет особые очертания со свойственными ей полыми трубками, шишками, впадинами, выступами и отростками. Клетки, благодаря включающимся у них внутри генам, запрограммированы вести себя так, словно им известно, где они расположены относительно своих соседок по ткани и как им следует выстраиваться, чтобы приобрести форму ушной раковины, сердечного клапана, хрусталика или мышцы сфинктера.
Сложность организма, такого как полярный медведь, многослойна. Организм представляет собой замысловатую совокупность филигранно отделанных органов вроде печени, почек или костей. А каждый орган – это многоуровневое строение, составленное из определенных тканей, строительными блоками которых являются клетки, обычно расположенные слоями и пластами, но нередко образующие и плотные скопления. Если же увеличить масштаб, то каждая клетка обладает крайне сложной внутренней структурой из складчатых мембран. Эти мембраны, а также жидкость между ними, служат полигоном для протекания хитроумных и очень разнообразных химических реакций. На химзаводе, принадлежащем компании ICI или Union Carbide, может проводиться несколько сотен реакций различного типа. Эти химические реакции разграничены стенками колб, пробирок и тому подобного. Количество реакций, одновременно протекающих внутри живой клетки, может быть не меньшим. В каком-то смысле мембраны клетки сродни стеклянной химической посуде, но аналогия эта неудачна по двум причинам. Во-первых, хотя многие реакции идут между мембранами, немало их протекает и непосредственно внутри вещества мембран. Во-вторых, здесь существует и иной, более важный способ отграничивать реакции друг от друга: каждая из них катализируется своим собственным специфическим ферментом.
Ферментом называется очень крупная молекула, чья трехмерная структура ускоряет какую-то одну определенную химическую реакцию, обеспечивая благоприятную для протекания этой реакции поверхность. А поскольку трехмерная структура – это в биологических молекулах самое главное, мы можем представить себе фермент в виде большого станка, тщательно отлаженного для того, чтобы штамповать молекулы определенной формы. Таким образом, внутри каждой отдельно взятой клетки – на поверхности различных молекул ферментов – могут одновременно и обособленно друг от друга протекать сотни разнообразных химических реакций. То, какие именно реакции происходят в данной клетке, определяется наличием в ней тех или иных ферментов в достаточном количестве. Формирование каждой молекулы фермента, в том числе и придание ей столь необходимой пространственной структуры, обусловлено действием некоего конкретного гена. Дело в том, что точная последовательность нескольких сотен кодовых знаков в гене определяет – в соответствии с набором правил, доподлинно нам известных и называемых генетическим кодом, – последовательность аминокислот в молекуле фермента. Каждый фермент – это линейная цепочка аминокислот, а каждая линейная цепочка аминокислот спонтанно сворачивается в особенную, уникальную трехмерную структуру, наподобие узла, где одни участки цепи образуют сшивки с другими участками. Точная трехмерная структура такого узла определяется одномерной последовательностью аминокислот, а значит, одномерной последовательностью кодовых символов в гене. Вот каким образом химические реакции, протекающие в клетке, зависят от того, какие гены в ней работают.
Ну а от чего же в таком случае зависит включение тех или иных генов в конкретной клетке? Ответ: от того, какие химические вещества в ней уже имеются. Здесь есть что-то от парадокса про курицу и яйцо, но проблема эта не непреодолима. Принцип ее решения крайне прост, хотя подробности и трудны для понимания. В информатике этот принцип называется самозагрузкой. Когда я только начинал пользоваться компьютерами в 1960-е годы, все программы загружались при помощи бумажной ленты. (В Америке в те времена для этой цели нередко использовались перфокарты, но действовали они точно так же.) Прежде чем ввести в компьютер длиннющую ленту с какой-нибудь серьезной программой, следовало установить на него небольшую программу, называемую загрузчиком. Программа эта выполняла только одно действие: объясняла компьютеру, как загружать бумажные ленты. Но вот наш «курино-яичный» парадокс: как же можно было загрузить ленту с программой-загрузчиком? В современные компьютеры аналог такой программы встроен изначально, но в те далекие времена вам сперва приходилось щелкать переключателями в некой ритуальной последовательности, которая объясняла компьютеру, как прочесть начало ленты с программой-загрузчиком. Затем это начало сообщало ему, как прочесть следующий участок ленты, и так далее. По мере того как вся лента с программой-загрузчиком оказывалась заглочена компьютером, он уже умел читать любые бумажные ленты и был готов к использованию.
При формировании зародыша вначале одна-единственная клетка – оплодотворенная яйцеклетка – делится на две, каждая половинка тоже делится, образуя четыре клетки, которые, в свою очередь, образуют восемь, и так далее. Через какие-нибудь несколько десятков делений количество клеток будет исчисляться триллионами – такова мощь экспоненциального роста. Но, если бы дело только тем и ограничивалось, все эти триллионы клеток были бы одинаковыми. Каким же образом им тогда удается дифференцироваться (прибегнем к этому научному термину) в клетки печени, почек, мышц и прочего? Тоже путем самозагрузки, и вот как это происходит. Несмотря на то что яйцеклетка имеет сферическую форму, ее внутреннему содержимому присуща полярность. У нее есть верхняя и нижняя часть, равно как и, во многих случаях, передняя и задняя (а также, следовательно, левая и правая стороны). Полярность эта проявляется в виде градиента концентрации различных веществ. Концентрация одних постепенно возрастает от переднего края к заднему, концентрация других – от верхушки к низу. Эти первичные градиенты весьма просты, но для того, чтобы осуществить первый этап «самозагрузки», их достаточно.
Когда из яйца образуется, скажем, тридцать две клетки (то есть после пяти делений), в одних клетках окажется больше, чем полагалось бы по справедливости, химических соединений из верхней части, а в других – соединений из нижней части. Кроме того, вещества могут неравномерно распределяться между клетками и в передне-заднем направлении. Этой разницы хватает для того, чтобы включить различные комбинации генов в различных клетках. Таким образом, клетки разных частей зародыша уже на ранних этапах его развития содержат разный набор ферментов, благодаря чему в клетках следующих поколений включаются все новые и новые комбинации генов. Следовательно, клеточные линии эмбриона преобразуются по-разному, а не остаются идентичными своим предшественницам и друг другу.
Это расхождение существенно отличается от того расхождения между видами, о котором мы говорили выше. Клеточное запрограммировано и предсказуемо до мелочей, в то время как видовое было непредсказуемым и случайным результатом географических событий. Более того, при расхождении видов накапливаются различия и между генами – то, что я романтически назвал «прощанием навек». А когда внутри зародыша однородная группа клеток разделяется на две, обе дочерние линии получают одни и те же гены, а именно – все. Однако в разных клетках оказываются разные сочетания химических веществ, что приводит в действие разные сочетания генов, причем функция некоторых генов состоит в том, чтобы включать или выключать другие гены. И такая «самозагрузка» продолжается до тех пор, пока мы не получим полного набора различных клеточных типов. Развивающийся эмбрион не только дифференцируется в пару сотен разнообразных типов клеток. Также его внутреннее и внешнее строение претерпевает изящные динамичные преобразования, самым значительным из которых является, вероятно, одно из самых первых: процесс, называемый гаструляцией. Выдающийся эмбриолог Льюис Вольперт заявил даже, что «самое важное событие в вашей жизни – не рождение, не женитьба и не смерть, а гаструляция». В ходе гаструляции полый шарик из клеток изгибается, образуя двухслойную чашу. Практически все представители животного царства проходят в своем развитии через данный этап. На этом общем фундаменте покоится все эмбриологическое разнообразие. Гаструляцию я здесь привел просто как единичный и особенно яркий пример беспокойного, напоминающего оригами движения клеточных листков, часто наблюдаемого при развитии зародышей.
По завершении виртуозно выполненного оригами, после нескончаемого складывания, выпячивания, впячивания и растягивания клеточных слоев, после динамичного регулирования скорости роста одних частей зародыша относительно других, после дифференцировки сотен специализированных типов клеток, различающихся по химическому составу и физическим свойствам, после того как общее число клеток будет исчисляться триллионами, возникнет конечный результат – младенец. Впрочем, и этот результат еще не конечный, поскольку весь процесс роста взрослеющего, а затем стареющего индивидуума (роста, при котором опять-таки одни части организма увеличиваются быстрее других) можно рассматривать как продолжение все того же эмбрионального развития – как этап развития индивидуального, или онтогенеза.
Люди не похожи друг на друга из-за количественных различий в некоторых деталях онтогенеза. Клеточный слой вырос чуть-чуть дальше, прежде чем подогнуться, и мы получаем… Что же именно? Орлиный нос вместо вздернутого; плоскостопие, которое, быть может, спасет вам жизнь, так как из-за него вас не примут в армию; особую форму лопатки, способствующую тому, что вы будете хорошо бросать копья (или ручные гранаты, или крикетные мячи, в зависимости от обстоятельств). Порой индивидуальные отличия в оригами клеточных слоев оказываются трагическими – например, рождается ребенок с культями вместо рук. Последствия тех индивидуальных отличий, которые проявляются не в клеточных оригами, а исключительно на химическом уровне, могут быть не менее серьезными: неспособность переваривать молоко, предрасположенность к гомосексуальности, или к аллергии на арахис, или к ощущению, будто манго неприятно отдает скипидаром.
Эмбриональное развитие – очень сложное физическое и химическое действо. Малейшее изменение на любом его этапе может иметь значительные последствия в дальнейшем. Что не так уж удивительно, если вспомнить, насколько это самозагружающийся процесс. Многие отличия в индивидуальном развитии обусловлены разницей в условиях окружающей среды, например, кислородным голоданием или воздействием талидомида. Многие другие различия обусловлены генами – причем рассматриваемыми не по отдельности, а во взаимодействии друг с другом и с особенностями окружающей среды. Такой многосоставной, калейдоскопический, причудливо самозагружающийся процесс, как развитие зародыша, одновременно и устойчив, и чувствителен. Устойчив он потому, что успешно предотвращает многие потенциальные изменения, производя на свет живого младенца вопреки непредвиденностям, которые иногда кажутся непреодолимыми. И в то же время он до такой степени чувствителен к изменениям, что два индивидуума, будь то даже однояйцевые близнецы, не могут быть в буквальном смысле слова идентичными по всем признакам.
Итак, к чему я, собственно, веду. В той степени, в какой индивидуальные различия обусловлены генами (а степень эта бывает как маленькой, так и большой), естественный отбор может благоприятствовать одним особенностям эмбриологического оригами или эмбриологической химии и не благоприятствовать другим. В той степени, в какой гены влияют на вашу способность совершать меткие броски, она может быть поддержана или не поддержана отбором. Если эта способность хоть сколько-нибудь, сколь угодно мало, помогает индивидууму дожить до детородного возраста, то в той степени, в какой она предопределена некими генами, возрастают и шансы этих генов прорваться в следующее поколение. Любая особь может погибнуть по причинам, никак не связанным с ее метательными способностями. Но ген, при наличии которого эти способности имеют тенденцию быть лучше, чем при его отсутствии, обитает во множестве организмов – как успешных, так и неудачливых – на протяжении многих поколений. С точки зрения данного конкретного гена все прочие причины гибели усредняются. В долгосрочной перспективе для него имеет значение только река из ДНК, текущей сквозь поколения и находящей лишь временное прибежище в конкретных организмах, лишь временно делящей организм с генами-попутчиками – как удачливыми, так и не очень.
В долгосрочной перспективе эта река заполняется генами, хорошо умеющими выживать благодаря каким-то своим качествам: это может быть легкое улучшение способности бросать копье, легкое улучшение способности распознавать яд или что угодно другое. А гены, в среднем выживающие хуже – потому, например, что наделяют тела, по которым они передаются, астигматизмом (и следовательно, те хуже мечут копья) или же делают их менее привлекательными, отчего те реже спариваются, – такие гены будут склонны к исчезновению из генной реки. При этом нельзя упускать из виду и сделанный нами ранее вывод о том, что гены, сохраняющиеся в реке, будут хорошо уметь выживать в типичной среде обитания, характерной для данного вида. И возможно, наиболее важным фактором этой среды являются принадлежащие тому же биологическому виду другие гены – те, с которыми некий конкретный ген имеет шансы встретиться в одном организме, те другие гены, которые плывут сквозь геологические эпохи по той же реке, что и он.
Глава 2
Вся Африка и потомки ее
Нередко считается, что утверждать, будто наука – не более чем наш современный миф о происхождении мира, очень умно. Дескать, у евреев были их Адам и Ева, у шумеров – Мардук и Гильгамеш, у греков – Зевс и другие олимпийские боги, у викингов – Валгалла. Так что же такое эволюция, спрашивают иные сообразительные люди, как не современный эквивалент богов и героев сказаний – не хуже и не лучше, не правдивее и не лживее, чем они? Модная салонная философия, называемая культурным релятивизмом, в своих крайних формах гласит, будто наука претендует на истину не больше, чем мифология какого-либо племени, просто наше современное западное племя предпочитает такую, научную, мифологию. Как-то раз один мой коллега-антрополог вынудил меня поставить вопрос ребром. «Представьте себе, – сказал я, – что существует племя, верящее, будто луна – это большая тыква, заброшенная в небо и висящая на уровне верхушек деревьев. Действительно ли вы считаете научную истину, что Луна находится на расстоянии четверти миллиона миль от нас и что ее диаметр составляет четверть диаметра Земли, не более верной, чем легенда этого племени про тыкву?» – «Именно, – ответствовал антрополог. – Просто мы выросли в культуре с научным взглядом на мир. А они приучены видеть мир иначе. Ни один из этих способов не является более правильным, чем другой».
Покажите мне культурного релятивиста на высоте тридцати тысяч футов, и я покажу вам лицемера. Самолеты, построенные по правилам науки, работают. Они держатся в воздухе и доставляют вас в пункт назначения. Чего не скажешь о летательных аппаратах, выполненных по племенным и мифическим технологиям: о макетах самолетов, используемых в карго-культах, или о скрепленных воском крыльях Икара[7 - Я уже не в первый раз прибегаю к этому железному аргументу и должен подчеркнуть, что направлен он исключительно против тех, кто придерживается взглядов моего коллеги из примера с тыквой. Существуют люди, которые также называют себя культурными релятивистами, чем вносят путаницу, поскольку их убеждения совсем другие и вполне разумные. По их мнению, культурный релятивизм означает всего-навсего то, что вы не можете понять чью-либо культуру, если излагаете ее в терминах своей собственной. Любое характерное для той или иной культуры верование следует рассматривать только в контексте других верований, ей свойственных. Подозреваю, что эта, здравая, разновидность культурного релятивизма является исходной, а та, которую я критикую, – экстремистским, хотя и пугающе распространенным, искажением. Разумным релятивистам следует прилагать больше усилий, чтобы отмежеваться от своих вздорных собратьев. – Прим. автора.]. Если вы летите на международный конгресс антропологов или литературных критиков, то причина, по которой вы туда, скорее всего, попадете, а не рухнете на вспаханное поле, состоит в том, что многочисленные инженеры с западным научным образованием не ошиблись в своих расчетах. Западная наука, исходя из того надежного факта, что Луна обращается вокруг Земли на расстоянии четверти миллиона миль, и вооружившись западными компьютерами и ракетами, сумела высадить людей на ее поверхность. Наука племени, полагающего, будто луна висит прямо над деревьями, никогда до нее не дотянется, разве что в мечтах.
Мне редко приходится давать публичную лекцию без того, чтобы кто-нибудь из аудитории радостно не встрял с заявлением в духе моего коллеги-антрополога, и обычно это вызывает одобрительный гул. Безусловно, те, кто производит этот гул, чувствуют себя прекрасными, либеральными и антирасистски настроенными людьми. Еще более надежный способ вызвать поддакивание – это заявить что-нибудь вроде «В сущности, ваша убежденность в эволюции стала своего рода верой, и следовательно, она ничуть не лучше чьей-нибудь веры в Эдемский сад».
Свой космологический миф, объясняющий происхождение вселенной, жизни и человечества, есть у любого племени. В каком-то смысле наука действительно дает нашему современному обществу – по крайней мере, его образованной части – нечто аналогичное. Науку даже можно рассматривать как одну из религий: я сам однажды кратко высказался в пользу науки как подходящей темы для уроков религиозного воспитания[8 - Журнал The Spectator (Лондон) от 6 августа 1994 года. – Прим. автора.], и это не было просто шуткой. (В Британии религиозное воспитание входит в обязательную школьную программу, в то время как в США этот предмет запрещен из боязни оскорбить какую-либо из множества противоречащих друг другу конфессий.) Подобно религии, наука претендует на то, чтобы объяснять происхождение и природу жизни и космоса. Но на этом сходство заканчивается. Научные взгляды подтверждаются доказательствами и приносят результаты. А о мифах и верованиях нельзя сказать ни того ни другого.
Из всех легенд о происхождении мира еврейская сказка об Эдеме проникла в нашу культуру особенно глубоко, так что даже снабдила именем серьезную научную теорию о наших предках – «теорию африканской Евы». Настоящую главу я посвящаю африканской Еве – отчасти ради того, чтобы дальше развить метафору «реки ДНК», но также потому, что мне хотелось бы противопоставить эту научную гипотезу легендарной прародительнице из Эдемского сада. Если мне удастся задуманное, то истина покажется вам более захватывающей и даже, быть может, более поэтичной, чем миф. Начну с чисто умозрительных рассуждений. Вскоре станет ясно, какое отношение они имеют к моему рассказу.
У вас двое родителей, четверо дедушек и бабушек, восьмеро прадедушек и прабабушек и так далее. С каждым поколением количество предков удваивается. Если отступить на g поколений назад, число предков будет равняться двойке, помноженной саму на себя g раз: 2 в степени g. Ну, если не считать того, что мы можем тут же, не вставая с дивана, убедиться в ложности такого вывода. Для этого нам нужно будет отступить совсем недалеко в прошлое – скажем, во времена Иисуса Христа, практически ровно на две тысячи лет назад. Если мы скромно отведем четыре поколения на столетие – иначе говоря, предположим, что в среднем люди размножаются в возрасте двадцати пяти лет, – то на два тысячелетия придется не более восьмидесяти поколений. На самом деле их, по всей вероятности, было больше, так как женщины вплоть до недавнего времени начинали рожать чрезвычайно рано, но это всего лишь «диванное» вычисление, и оно будет наглядным, невзирая на подобные мелочи. Двойка, помноженная на себя 80 раз, – чудовищное число, единица с 24 нулями, триллион триллионов. Во времена Иисуса у вас был миллион миллионов миллионов миллионов предков, и у меня тоже! Однако общая численность людей на земле была тогда долей ничтожной доли от только что полученного нами результата.
Где-то мы, очевидно, ошиблись, но где? Вычисления наши верны. Неверно только допущение об удваивании в каждом поколении. В самом деле, мы позабыли, что родственники иногда женятся между собой. Я исходил из того, что у каждого из нас восемь прабабушек и прадедушек. Но у любого ребенка, родившегося от брака между двоюродными братом и сестрой, их только шесть, поскольку общие бабушка и дедушка этих двоюродных брата и сестры будут ему дважды прабабушкой и прадедушкой. «Ну и что с того? – возможно, спросите вы. – Время от времени люди вступают в браки со своей родней (Эмма Веджвуд, жена Чарльза Дарвина, была его двоюродной сестрой), но наверняка это случается достаточно редко, чтобы не иметь серьезного значения». А вот и нет, ведь под родней в данном случае подразумеваются и троюродные братья, и пятиюродные, и семнадцатиюродные и так далее. Если принимать во внимание столь дальнее родство, то любой брак оказывается браком между родственниками. Иногда приходится слышать, как люди выхваляются своим дальним родством с королевой, однако это весьма самонадеянно с их стороны, поскольку мы все – дальние родственники королевы, а также чьи угодно еще, всех линий родства и не проследить. Единственное, чем королевские и аристократические семьи отличаются от прочих, – так это тем, что они могут предъявить свое генеалогическое древо во всех подробностях. Как заметил четырнадцатый граф Хьюм, после того как политический оппонент съязвил по поводу его титула: «Если подумать, то мистер Уилсон – это четырнадцатый мистер Уилсон».
Из всего этого следует, что мы приходимся друг другу более близкой родней, чем обычно думаем, и что у нас было намного меньше предков, чем можно было бы предположить, исходя из незамысловатых вычислений. Однажды я, желая услышать рассуждения своей студентки на этот счет, попросил ее высказать обоснованное мнение о том, когда жил наш с ней последний общий предок. Глядя мне прямо в глаза и ни на мгновение не задумываясь, она ответила с тягучим сельским акцентом: «Он был обезьяной». Простительный интуитивный просчет, но ошибка составила примерно 10 000 %. Подразумевалось, что наши генеалогические деревья были разделены в течение миллионов лет. В действительности же наш с этой студенткой ближайший общий предок жил не ранее пары веков назад – скорее всего, значительно позже Вильгельма Завоевателя. Более того, наверняка мы с ней являемся родственниками по многим линиям одновременно.
Та модель родословной, которая привела нас к вычислению ошибочно большого количества предков, представляла собой постоянно ветвящееся древо. Если развернуть это древо в противоположную сторону, то получится столь же ошибочная модель для оценки числа потомков. У типичного человека двое детей, четверо внуков, восьмеро правнуков и так далее, вплоть до невообразимых триллионов потомков всего несколько столетий спустя. Моделью, дающей гораздо более реалистичные представления как о предках, так и о потомках, будет все та же река генов, о которой шла речь в предыдущей главе. В пределах ее берегов гены текут сквозь время непрерывным потоком. Течения внутри этого потока то образуют завихрения и водовороты, то снова сливаются, по мере того как гены постоянно встречаются и расходятся во времени. Возьмите пробы воды из этой реки на разных участках ее течения. Те пары молекул, что оказались зачерпнутыми в одно ведерко, уже встречались раньше и наверняка встретятся вновь. Также им приходилось расходиться и, несомненно, придется разойтись снова. Довольно трудно проследить все те точки, где они встречаются, но у нас есть математическая уверенность в том, что такие встречи происходят: что если в определенной точке два гена разнесены потоком, то достаточно переместиться совсем немного выше или ниже по течению – и они опять соприкоснутся друг с другом.
Вы можете не знать о том, что ваш муж приходится вам родней, но статистически весьма вероятно, что для того, чтобы найти ту точку, где ваш род пересекается с его родом, вам не понадобится углубляться далеко в прошлое. Если же посмотреть в противоположном направлении, в будущее, то может показаться очевидным, что у вас и у вашего супруга или супруги с высокой вероятностью будет общее потомство. Но тут есть и другое, намного более поразительное соображение. В следующий раз, когда вы очутитесь среди большого скопления народа – например, в концертном зале или на футбольном матче, – оглядитесь вокруг и задумайтесь вот над чем. Если в принципе у вас окажутся потомки в отдаленном будущем, то почти наверняка среди окружающей вас публики найдутся люди, которым вы можете пожать руку, поскольку они тоже будут предками ваших далеких потомков. Те, кому выпало быть бабушками и дедушками одних и тех же внуков, обычно знают об этом, что, как правило, связывает их неким чувством родства, независимо от того, ладят они между собой или нет. Они могут посмотреть друг на друга и сказать себе: «Что ж, положим, я от него не в восторге, но его ДНК смешана с моей внутри нашего общего внука и мы вправе надеяться на общих потомков в будущем, много позже нашей смерти. Определенно, это создает между нами некоторую связь». Но я хочу обратить ваше внимание на то, что если вам вообще повезет иметь отдаленных потомков, то их предками будут, возможно, и совершенно незнакомые вам люди из концертного зала. Вы можете обвести публику взглядом, строя предположения, у кого именно из присутствующих – как мужского, так и женского пола – будут общие с вами потомки, а у кого нет. Вы и я, кем бы вы ни были и какими бы ни были цвет вашей кожи и ваш пол, вполне можем оказаться предками одних и тех же людей. Не исключено, что вашей ДНК суждено смешаться с моей. Приветствую вас!
Теперь давайте представим себе, будто мы отправились на машине времени в прошлое: скажем, в заполненный зрителями Колизей, или на базар в Уре, или куда-нибудь еще раньше. Оглядите толпу, так же как мы делали это в нашем воображаемом современном концертном зале, и отдайте себе отчет в том, что всех этих давно умерших людей можно разделить на две, и только две, категории: на ваших предков и всех остальных. Данное наблюдение достаточно очевидно, но оно подталкивает нас к знаменательному выводу. Если забраться достаточно далеко в прошлое, то каждый, кто вам повстречается, будет приходиться предком либо любому человеку, живущему в 1995 году, либо вообще никому из наших современников. Никаких промежуточных вариантов. Каждый индивидуум, который попадется вам на глаза, как только вы вылезете из своей машины времени, будет прародителем или всему человечеству, или вообще никому.
Шокирующая мысль, но доказать ее проще простого. Все, что нам нужно, – это отправить нашу воображаемую машину времени на абсурдно большое расстояние, скажем, на триста пятьдесят миллионов лет назад, когда нашими предками были кистеперые рыбы, которые обладали легкими и как раз начинали выходить из воды и превращаться в амфибий. Если некая конкретная рыбина – мой предок, то невозможно себе представить, чтобы она не была при этом и вашим предком тоже. Иначе пришлось бы признать, что цепочка предков, ведущая ко мне, и цепочка, ведущая к вам, независимо, ни разу не пересекаясь, проэволюционировали из рыб в земноводных, из земноводных в пресмыкающихся и так далее: в млекопитающих, приматов, человекообразных обезьян и древних людей, придя к настолько сходным результатам, что мы с вами можем разговаривать друг с другом, а если мы разного пола, то и скрещиваться. То же будет справедливо и для любых двух случайно взятых человек.
Нам удалось доказать, что если углубиться достаточно далеко в прошлое, то любая особь, какую мы встретим, будет приходиться предком либо каждому из нас, либо не будет им приходиться никому из сегодняшних людей. Но какое расстояние подразумевается под “достаточным”? Нам определенно не нужно добираться до кистеперых рыб – это было reductio ad absurdum, – но все же насколько далеко в прошлое придется перемещаться, чтобы дойти до общего предка всех людей, живущих в 1995 году? Этот вопрос намного сложнее, и именно к нему я собираюсь сейчас перейти. На него уже нельзя ответить умозрительно, не вставая с дивана. Тут понадобится подлинная информация: точные цифры, взятые из сурового мира конкретных фактов.
Сэр Рональд Фишер, грандиозный английский генетик и математик, которого можно в равной степени считать и величайшим последователем Дарвина в XX веке, и отцом современной статистики, писал в 1930 году:
Только географические и другие барьеры на пути свободного скрещивания между расами… помешали всему человечеству, исключая последние 1000 лет, иметь практически идентичное происхождение. Если исключить последние 500 лет, то различие в происхождении представителей одной и той же нации будет крайне мало; если исключить последние 2000 лет, то, по-видимому, единственными оставшимися различиями были бы различия между выраженными этнографическими расами; этнографические расы… и в самом деле могут быть достаточно древними образованиями, но и этот случай может быть верен только при условии, что на протяжении долгих лет диффузия крови между отдельными группами практически отсутствовала[9 - Р. Фишер, «Генетическая теория естественного отбора», глава 6, перевод Л. С. Ванаг и Е. И. Фукаловой.].
Если вернуться к понятиям нашей аналогии с рекой, то Фишер, в сущности, прибегает к тому факту, что все гены, принадлежащие не разделенной географическими барьерами расе, «текут» в одной «струе». Но когда он, чтобы оценить давность расхождения рас, обращается к конкретным числам – 500 лет, 2000 лет, – ему приходится делать допущения. В его время необходимые факты еще не были известны. Сегодня же, благодаря молекулярно-биологической революции, мы скорее страдаем от избытка сыплющихся на нас фактов. Именно молекулярная биология познакомила нас с обаятельной африканской Евой.
ДНК сравнивали не только с цифровой рекой. Также напрашивается сравнение ДНК каждого человека с семейной библией. ДНК представляет собой очень длинный текст, написанный, как мы знаем из предыдущей главы, четырехбуквенным алфавитом. Эти буквы, тщательно скопированные, пришли к нам от наших предков, и только от них, с поразительной точностью воспроизводя наследие даже очень далеких прародителей. Сравнивая тексты, сохранившиеся в разных людях, можно было бы выявить степень их родства и добраться до общего предка. У более дальних родственников – скажем, у норвежцев и австралийских аборигенов – обнаружатся различия в большем количестве слов. Исследователи проделывают подобную работу с разными вариантами библейских текстов. К сожалению, в случае с архивами ДНК имеется помеха: половой процесс.
Половой процесс – это кошмар архивариуса. Вместо того чтобы оставлять унаследованные от предков тексты неприкосновенными, подверженными разве только неизбежным случайным повреждениям, он энергично набрасывается на них, преднамеренно путая все следы. Ни один слон в посудной лавке не способен натворить такого бедлама, какой царит в ДНК-архивах по милости полового процесса. Ни один исследователь Библии не сталкивается ни с чем подобным. Нет, если он изучает происхождение, скажем, Песни песней Соломона, то ему, конечно же, известно, что на самом деле она не такова, какой нам кажется. В ней встречаются странные несвязности, позволяющие предположить, что в действительности Песнь песней представляет собой сшитые вместе фрагменты нескольких различных поэм, причем только некоторые из них имели эротический характер. Немало там и ошибок – мутаций, – особенно переводческих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники…»[10 - Песн. 2: 15.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: