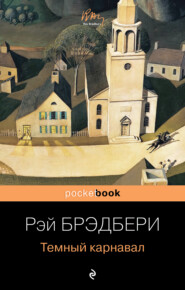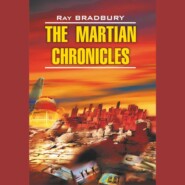По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вино из одуванчиков
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1957
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Спустя десять минут появилась бабушка с ведрами воды и метлами – подмести и помыть полы на веранде. Из дома были призваны на службу кресла, качалки и стулья с прямыми спинками.
– Посиделки на веранде нужно начинать в самом начале лета, – изрек дедушка, – пока комары не донимают.
Около семи, если встать у окна гостиной, послышится скрежет стульев, отодвигаемых от столов. Кто-то пытается тренькать на пианино с пожелтевшими клавишами. Чиркают спички, первые тарелки попадают с бульканьем в пенистую воду и, звякая, занимают свои места на стенных стеллажах, откуда-то слабо доносятся звуки патефона. А затем, когда наступает другой вечерний час, на сумеречных улицах, то у одного, то у другого дома, под сенью гигантских дубов и вязов, на тенистые веранды выходят люди, словно фигурки на часах, предсказывающие хорошую или плохую погоду.
Дядюшка Берт, а может, дедушка, потом папа и кое-кто из кузенов; сначала выходят все мужчины навстречу сладостному вечеру, в клубах дыма, оставляя позади женские голоски в остывающей теплой кухне наводить порядок в своем мирке. Потом слышатся первые мужские голоса под навесом веранды, ноги задраны вверх, мальчишки облепили истертые ступеньки или деревянные перила, с которых за вечер обязательно плюхнется либо мальчишка, либо горшок с геранью.
Наконец, подобно призракам, маячащим за дверной сеткой, появляются бабушка, прабабушка и мама, и мужчины придут в движение, встанут, уступая место. Женщины обмахиваются разнообразными веерами, сложенными газетами, бамбуковыми венчиками или надушенными платками и ведут беседы.
На следующий день никто не помнил, о чем они толковали весь вечер. Никого не интересовало, о чем говорили взрослые; главное, что их голоса плыли поверх нежных папоротников, окаймлявших веранду с трех сторон. Главное, чтобы темнота наполнила город, как черная вода, разлитая над домами, чтобы сигары тлели, общение не смолкало. Дамские сплетни растревожили первых комаров, и они неистово отплясывали в воздухе. Мужской говор проникал в древесину старого дома. Если закрыть глаза и прижаться ухом к половицам, можно принять его гул за рокот далеких политических потрясений, то нарастающий, то угасающий.
Дуглас откинулся на сухие доски веранды, всецело довольный и обнадеженный этими разговорами, которые будут звучать целую вечность, зажурчат над ним, над его смеженными веками, в его сонные уши. Кресла-качалки стрекотали, как сверчки, сверчки стрекотали, как кресла-качалки, а замшелая бочка с дождевой водой возле окна гостиной служила питомником очередному поколению мошкары и темой для пересудов аж до конца лета.
Посиделки на веранде летними вечерами доставляли такое удовольствие, блаженство и умиротворение, что от них ни в коем случае невозможно было отказаться. Это был строгий и незыблемый обычай. Раскуривание трубок, вязальные иглы в бледных пальцах, поглощение холодного, обернутого в фольгу эскимо, хождение всякого люда взад-вперед в сумерках. Ведь по вечерам все гостили друг у друга. Соседи поодаль и соседи напротив. Мисс Ферн и мисс Роберта могли прожужжать мимо в своем электрическом экипаже, прокатить Тома или Дугласа по кварталу, а потом посидеть со всеми, прогоняя веерами волнение с раскрасневшихся щек. Или, оставив лошадь и фургон в переулке, по ступенькам мог подняться старьевщик мистер Джонас, готовый разразиться словесами, выглядевший свежо, словно он ни разу еще не выступал со своими речами, что, впрочем, так и было. Наконец, все-все дети, игравшие последний кон в прятки или «выбей банку», разгоряченные, тяжело дыша, тихо приземлялись, как бумеранги, на притихшую лужайку, на которой приходили в себя и успокаивались под непрерывный гомон голосов с веранды…
О, какое наслаждение возлежать в травянистой папоротниковой ночи шелестящих, убаюкивающих голосов, сплетающих тьму. Дуглас приникал к земле так тихо и неподвижно, что взрослые забывали о его присутствии и строили планы на его и свое будущее. Голоса звучали нараспев, плыли в клубах сигаретного дыма, пронизанных лунным светом, как оживший запоздалый яблоневый цвет, как мотыльки, постукивающие в уличные фонари, и продолжали звучать, уходя в грядущие годы.
VII
Перед табачным магазином в тот вечер собрались люди, чтобы жечь дирижабли, топить линкоры, взрывать динамит и отведать своим фарфоровым ртом бактерий, которые в один прекрасный день их прикончат. Смертоносные тучи, что маячили в их сигарном дыму, обволакивали сумрачный силуэт некоего взвинченного человека, который прислушивался к лязгу совков и лопат и настроениям вроде «прах к праху, пепел к пеплу»[7 - Бытие, 3:19.]. Этот силуэт принадлежал городскому ювелиру Лео Ауфману, который, расширив водянистые темные глаза, наконец всплеснул своими детскими руками и исторг возглас отчаяния:
– Довольно! Ради всего святого, вылезайте из этого кладбища!
– Лео, как же вы правы, – сказал дедушка Сполдинг, вышедший на вечернюю прогулку с внуками Дугласом и Томом. – Но знаете, Лео, только вы способны заставить замолчать этих провозвестников конца света. Придумайте что-нибудь этакое, что сделает будущее светлым, гармоничным, бесконечно радостным. Вы же изобретаете велосипеды, починяете игральные автоматы, работаете нашим городским киномехаником!
– Точно! – подхватил Дуглас. – Изобретите для нас машину счастья!
Все засмеялись.
– Прекратите, – перебил их Лео Ауфман. – Для чего мы до сих пор использовали машины? Чтобы причинять людям горе! Именно! Всякий раз, когда кажется, что человек и машина наконец поладят, как – ба-бах! Кто-нибудь присобачит какую-нибудь загогулину, и на? тебе – аэропланы мечут бомбы, автомобили летят вместе с нами с утесов. Так неужели просьба мальчика неуместна? Нет! И еще раз нет!
Голос Лео Ауфмана затихал по мере того, как он шел к бордюру, чтобы погладить свой велосипед, словно живое существо.
– Что я теряю? – бормотал он. – Немного ободранной с пальцев кожи? Немного сна? Несколько фунтов металла? Справлюсь, с божьей помощью!
– Лео, – вмешался дедушка, – мы не хотели…
Но Лео Ауфман уехал, крутя педали в теплой летней ночи. До них доносился его голос:
– Я справлюсь…
– Справится, как пить дать, – восхитился Том.
VIII[8 - Рассказ Р. Брэдбери «Машина счастья» («The Happiness Machine», «Saturday Evening Post», September 14, 1957).]
Когда Лео Ауфман катил на велосипеде по кирпичным мостовым, можно было заметить, что он получает удовольствие от сломанного чертополоха в горячей траве, когда ветер дул как из печки, или от проводов, искрящих на мокрых столбах. Бессонными ночами он не страдал, а получал удовольствие от размышлений о великих вселенских часах: кончается ли в них завод или они самозаводятся. Как знать! Но, прислушиваясь по ночам, он приходил то к одному выводу, то к противоположному…
«Удары судьбы, – думал он, крутя педали, – что они из себя представляют? Рождение, взросление, старение, смерть. С первым ничего не поделаешь, а с остальными тремя?»
Колеса его Машины счастья вращались, отбрасывая снопы золотистого света на потолок. Машине суждено помочь мальчишкам сменить пушок на щетину, а девочкам превратиться из гадких утят в лебедушек. А в годы, когда твоя тень ложится на землю, когда ты прикован к постели и по ночам твое сердце бешено колотится, его изобретение поможет тебе легко уснуть под листопадом, подобно мальчишкам, которые, прыгая осенью в груды жухлых листьев, согласны стать частью тлена и смерти в этом мире…
– Папа!
Шестеро его детей: Саул, Маршалл, Иосиф, Ребекка, Руфь и Наоми, от пяти до пятнадцати лет от роду, – пробежали через лужайку за его велосипедом, и каждый коснулся его.
– Мы тебя заждались. У нас есть мороженое.
Шагая к веранде, он угадывал улыбку жены, сидящей в темноте.
Пять минут поедания миновали в уютной тишине, затем, держа полную ложку мороженого лунного оттенка, словно тайну Вселенной, которую следовало бережно познать, он спросил:
– Лина? Что бы ты сказала, если бы я взялся за изобретение Машины счастья?
– Что-то стряслось? – мгновенно отреагировала она.
* * *
Дедушка шел домой с Дугласом и Томом. На полпути Чарли Вудмен, Джон Хафф и еще какие-то мальчишки промчались мимо, как метеорный рой. Их притяжение было так сильно, что они оторвали Дугласа от дедушки и Тома и увлекли его в сторону оврага.
– Смотри не заблудись, сынок!
– Нет… нет…
Мальчишки нырнули во тьму.
Том и дедушка прошли оставшуюся часть пути молча, разве что когда они оказались дома, Том сказал:
– Ух ты, Машина счастья – вот это да!
– Не очень-то обольщайся на сей счет, – посоветовал дедушка.
Часы на здании суда пробили восемь.
IX[9 - Рассказ Р. Брэдбери «Ночь» («The Night» «Weird Tales», July 1946).]
Часы на здании суда пробили девять, становилось поздно, настоящая ночь опускалась на крохотную улочку маленького города в большом штате на огромном континенте планеты Земля, падающей в воронку космоса навстречу ничему или чему-то, и Том ощущал каждую милю этого грандиозного падения. Он сидел возле москитной сетки, всматриваясь в несущуюся на него черноту, которая выглядела вполне безобидно, словно неподвижно застыла. Только когда закроешь глаза и ляжешь, почувствуешь круговерть Вселенной под твоей кроватью, и уши зальет море черноты, которое подступило и разбивается о скалы, которых нет.
Запахло дождем. У Тома за спиной мама занималась глажкой и брызгала водой из бутылки с пробкой на потрескивающую одежду.
В соседнем квартале все еще работал магазин миссис Зингер.
Наконец, незадолго до того, как магазину миссис Зингер пришла пора закрываться, мама смилостивилась и сказала Тому:
– Сбегай, принеси пинту мороженого, да скажи ей, чтобы поплотнее утрамбовала.
Он спросил, можно ли полить мороженое шоколадом, потому что не любил ванильное, и мама разрешила. Он сжал в кулачке деньги и побежал босиком в магазин по теплому вечернему цементу тротуара, под сенью яблонь и дубов. В городе царила такая тишина и отстраненность, что слышен был только стрекот сверчков в пространствах за теплыми иссиня-черными деревьями, подпиравшими звездное небо.
Его голые пятки шлепали по мостовой. Он перебежал улицу и нашел миссис Зингер, неуклюже передвигавшуюся по магазину, напевая мелодии на идише.
– Посиделки на веранде нужно начинать в самом начале лета, – изрек дедушка, – пока комары не донимают.
Около семи, если встать у окна гостиной, послышится скрежет стульев, отодвигаемых от столов. Кто-то пытается тренькать на пианино с пожелтевшими клавишами. Чиркают спички, первые тарелки попадают с бульканьем в пенистую воду и, звякая, занимают свои места на стенных стеллажах, откуда-то слабо доносятся звуки патефона. А затем, когда наступает другой вечерний час, на сумеречных улицах, то у одного, то у другого дома, под сенью гигантских дубов и вязов, на тенистые веранды выходят люди, словно фигурки на часах, предсказывающие хорошую или плохую погоду.
Дядюшка Берт, а может, дедушка, потом папа и кое-кто из кузенов; сначала выходят все мужчины навстречу сладостному вечеру, в клубах дыма, оставляя позади женские голоски в остывающей теплой кухне наводить порядок в своем мирке. Потом слышатся первые мужские голоса под навесом веранды, ноги задраны вверх, мальчишки облепили истертые ступеньки или деревянные перила, с которых за вечер обязательно плюхнется либо мальчишка, либо горшок с геранью.
Наконец, подобно призракам, маячащим за дверной сеткой, появляются бабушка, прабабушка и мама, и мужчины придут в движение, встанут, уступая место. Женщины обмахиваются разнообразными веерами, сложенными газетами, бамбуковыми венчиками или надушенными платками и ведут беседы.
На следующий день никто не помнил, о чем они толковали весь вечер. Никого не интересовало, о чем говорили взрослые; главное, что их голоса плыли поверх нежных папоротников, окаймлявших веранду с трех сторон. Главное, чтобы темнота наполнила город, как черная вода, разлитая над домами, чтобы сигары тлели, общение не смолкало. Дамские сплетни растревожили первых комаров, и они неистово отплясывали в воздухе. Мужской говор проникал в древесину старого дома. Если закрыть глаза и прижаться ухом к половицам, можно принять его гул за рокот далеких политических потрясений, то нарастающий, то угасающий.
Дуглас откинулся на сухие доски веранды, всецело довольный и обнадеженный этими разговорами, которые будут звучать целую вечность, зажурчат над ним, над его смеженными веками, в его сонные уши. Кресла-качалки стрекотали, как сверчки, сверчки стрекотали, как кресла-качалки, а замшелая бочка с дождевой водой возле окна гостиной служила питомником очередному поколению мошкары и темой для пересудов аж до конца лета.
Посиделки на веранде летними вечерами доставляли такое удовольствие, блаженство и умиротворение, что от них ни в коем случае невозможно было отказаться. Это был строгий и незыблемый обычай. Раскуривание трубок, вязальные иглы в бледных пальцах, поглощение холодного, обернутого в фольгу эскимо, хождение всякого люда взад-вперед в сумерках. Ведь по вечерам все гостили друг у друга. Соседи поодаль и соседи напротив. Мисс Ферн и мисс Роберта могли прожужжать мимо в своем электрическом экипаже, прокатить Тома или Дугласа по кварталу, а потом посидеть со всеми, прогоняя веерами волнение с раскрасневшихся щек. Или, оставив лошадь и фургон в переулке, по ступенькам мог подняться старьевщик мистер Джонас, готовый разразиться словесами, выглядевший свежо, словно он ни разу еще не выступал со своими речами, что, впрочем, так и было. Наконец, все-все дети, игравшие последний кон в прятки или «выбей банку», разгоряченные, тяжело дыша, тихо приземлялись, как бумеранги, на притихшую лужайку, на которой приходили в себя и успокаивались под непрерывный гомон голосов с веранды…
О, какое наслаждение возлежать в травянистой папоротниковой ночи шелестящих, убаюкивающих голосов, сплетающих тьму. Дуглас приникал к земле так тихо и неподвижно, что взрослые забывали о его присутствии и строили планы на его и свое будущее. Голоса звучали нараспев, плыли в клубах сигаретного дыма, пронизанных лунным светом, как оживший запоздалый яблоневый цвет, как мотыльки, постукивающие в уличные фонари, и продолжали звучать, уходя в грядущие годы.
VII
Перед табачным магазином в тот вечер собрались люди, чтобы жечь дирижабли, топить линкоры, взрывать динамит и отведать своим фарфоровым ртом бактерий, которые в один прекрасный день их прикончат. Смертоносные тучи, что маячили в их сигарном дыму, обволакивали сумрачный силуэт некоего взвинченного человека, который прислушивался к лязгу совков и лопат и настроениям вроде «прах к праху, пепел к пеплу»[7 - Бытие, 3:19.]. Этот силуэт принадлежал городскому ювелиру Лео Ауфману, который, расширив водянистые темные глаза, наконец всплеснул своими детскими руками и исторг возглас отчаяния:
– Довольно! Ради всего святого, вылезайте из этого кладбища!
– Лео, как же вы правы, – сказал дедушка Сполдинг, вышедший на вечернюю прогулку с внуками Дугласом и Томом. – Но знаете, Лео, только вы способны заставить замолчать этих провозвестников конца света. Придумайте что-нибудь этакое, что сделает будущее светлым, гармоничным, бесконечно радостным. Вы же изобретаете велосипеды, починяете игральные автоматы, работаете нашим городским киномехаником!
– Точно! – подхватил Дуглас. – Изобретите для нас машину счастья!
Все засмеялись.
– Прекратите, – перебил их Лео Ауфман. – Для чего мы до сих пор использовали машины? Чтобы причинять людям горе! Именно! Всякий раз, когда кажется, что человек и машина наконец поладят, как – ба-бах! Кто-нибудь присобачит какую-нибудь загогулину, и на? тебе – аэропланы мечут бомбы, автомобили летят вместе с нами с утесов. Так неужели просьба мальчика неуместна? Нет! И еще раз нет!
Голос Лео Ауфмана затихал по мере того, как он шел к бордюру, чтобы погладить свой велосипед, словно живое существо.
– Что я теряю? – бормотал он. – Немного ободранной с пальцев кожи? Немного сна? Несколько фунтов металла? Справлюсь, с божьей помощью!
– Лео, – вмешался дедушка, – мы не хотели…
Но Лео Ауфман уехал, крутя педали в теплой летней ночи. До них доносился его голос:
– Я справлюсь…
– Справится, как пить дать, – восхитился Том.
VIII[8 - Рассказ Р. Брэдбери «Машина счастья» («The Happiness Machine», «Saturday Evening Post», September 14, 1957).]
Когда Лео Ауфман катил на велосипеде по кирпичным мостовым, можно было заметить, что он получает удовольствие от сломанного чертополоха в горячей траве, когда ветер дул как из печки, или от проводов, искрящих на мокрых столбах. Бессонными ночами он не страдал, а получал удовольствие от размышлений о великих вселенских часах: кончается ли в них завод или они самозаводятся. Как знать! Но, прислушиваясь по ночам, он приходил то к одному выводу, то к противоположному…
«Удары судьбы, – думал он, крутя педали, – что они из себя представляют? Рождение, взросление, старение, смерть. С первым ничего не поделаешь, а с остальными тремя?»
Колеса его Машины счастья вращались, отбрасывая снопы золотистого света на потолок. Машине суждено помочь мальчишкам сменить пушок на щетину, а девочкам превратиться из гадких утят в лебедушек. А в годы, когда твоя тень ложится на землю, когда ты прикован к постели и по ночам твое сердце бешено колотится, его изобретение поможет тебе легко уснуть под листопадом, подобно мальчишкам, которые, прыгая осенью в груды жухлых листьев, согласны стать частью тлена и смерти в этом мире…
– Папа!
Шестеро его детей: Саул, Маршалл, Иосиф, Ребекка, Руфь и Наоми, от пяти до пятнадцати лет от роду, – пробежали через лужайку за его велосипедом, и каждый коснулся его.
– Мы тебя заждались. У нас есть мороженое.
Шагая к веранде, он угадывал улыбку жены, сидящей в темноте.
Пять минут поедания миновали в уютной тишине, затем, держа полную ложку мороженого лунного оттенка, словно тайну Вселенной, которую следовало бережно познать, он спросил:
– Лина? Что бы ты сказала, если бы я взялся за изобретение Машины счастья?
– Что-то стряслось? – мгновенно отреагировала она.
* * *
Дедушка шел домой с Дугласом и Томом. На полпути Чарли Вудмен, Джон Хафф и еще какие-то мальчишки промчались мимо, как метеорный рой. Их притяжение было так сильно, что они оторвали Дугласа от дедушки и Тома и увлекли его в сторону оврага.
– Смотри не заблудись, сынок!
– Нет… нет…
Мальчишки нырнули во тьму.
Том и дедушка прошли оставшуюся часть пути молча, разве что когда они оказались дома, Том сказал:
– Ух ты, Машина счастья – вот это да!
– Не очень-то обольщайся на сей счет, – посоветовал дедушка.
Часы на здании суда пробили восемь.
IX[9 - Рассказ Р. Брэдбери «Ночь» («The Night» «Weird Tales», July 1946).]
Часы на здании суда пробили девять, становилось поздно, настоящая ночь опускалась на крохотную улочку маленького города в большом штате на огромном континенте планеты Земля, падающей в воронку космоса навстречу ничему или чему-то, и Том ощущал каждую милю этого грандиозного падения. Он сидел возле москитной сетки, всматриваясь в несущуюся на него черноту, которая выглядела вполне безобидно, словно неподвижно застыла. Только когда закроешь глаза и ляжешь, почувствуешь круговерть Вселенной под твоей кроватью, и уши зальет море черноты, которое подступило и разбивается о скалы, которых нет.
Запахло дождем. У Тома за спиной мама занималась глажкой и брызгала водой из бутылки с пробкой на потрескивающую одежду.
В соседнем квартале все еще работал магазин миссис Зингер.
Наконец, незадолго до того, как магазину миссис Зингер пришла пора закрываться, мама смилостивилась и сказала Тому:
– Сбегай, принеси пинту мороженого, да скажи ей, чтобы поплотнее утрамбовала.
Он спросил, можно ли полить мороженое шоколадом, потому что не любил ванильное, и мама разрешила. Он сжал в кулачке деньги и побежал босиком в магазин по теплому вечернему цементу тротуара, под сенью яблонь и дубов. В городе царила такая тишина и отстраненность, что слышен был только стрекот сверчков в пространствах за теплыми иссиня-черными деревьями, подпиравшими звездное небо.
Его голые пятки шлепали по мостовой. Он перебежал улицу и нашел миссис Зингер, неуклюже передвигавшуюся по магазину, напевая мелодии на идише.