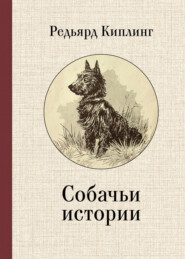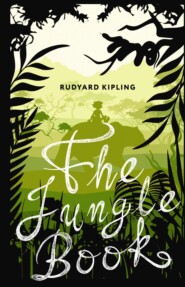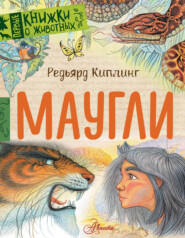По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В горной Индии (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Клянусь сгубленной мною душой и убитой мною совестью, говорю вам, что я не способен чувствовать! Я подобен богам, знающим добро и зло, но не тронутым ни тем, ни другим. Ну не завидно ли это?
Когда человек дошёл до того, что уже не чувствует похмелья, состояние его поистине безнадёжно. Я посмотрел на Мак-Интоша, с его синими губами и спадавшими на глаза космами, и отвечал, что считаю его бесчувственность недостаточным поводом для зависти.
– Ради всего святого, не говорите этого! Утверждаю, что это – подлинное благо, вполне достойное зависти. Подумайте о моих утешениях!
– Неужели у вас их так много, Мак-Интош?
– Конечно, ваши притязания на сарказм, это специальное орудие культурных людей, нельзя не признать нелепыми. Во-первых, мои познания, моё классическое и литературное образование, быть может, и затуманенное неумеренным пьянством (и это, кстати, напоминает мне, что, перед тем как душа моя воспарила вчера вечером к богам, я продал пикерингское издание Горация, которое вы были так добры дать мне для прочтения. Оно поступило к старьёвщику Дитта Муллю. Он дал за него десять анна, и можно его выкупить за одну рупию), но все же это образование неизмеримо выше вашего. Во-вторых, прочная привязанность миссис Мак-Интош, наилучшей из жён. В-третьих, памятник, более прочный, чем бронза, построенный мной за семь лет моего позора.
Здесь он остановился и пополз в противоположный конец комнаты за водой. Он весь трясся, его сильно тошнило.
После этого он несколько раз ещё упоминал о своём «сокровище» – каком-то очень ценном своём имуществе, но я приписал это пьяному бреду. Беден он был и горд неимоверно. Обращение его не отличалось приятностью, но он достаточно знал о туземцах, с которыми провёл семь лет своей жизни, чтобы стоило вести с ним знакомство. Он искренне смеялся над Стриклендом за его невежество – «невежественный Запад и Восток», как он говорил. Во-первых, он гордился тем, что был выдающимся членом Оксфордского университета, что, может быть, и правда, – я недостаточно образован, чтобы судить о том – а во-вторых, тем, что «держит руку на пульсе туземной жизни», и это – подлинный факт. В качестве оксфордского студента я находил его бестактным: он вечно кичился своим образованием. Но в роли магометанского факира – как Мак-Интош Джеллалудин – он всецело отвечал моим требованиям. Он выкурил несколько фунтов моего табаку и преподал мне несколько унций ценных познаний, но никогда не пожелал принять от меня ничего существенного, даже когда настали холода, стиснувшие жалкую худую грудь под жалкой худой альпаковой курткой. Он очень рассердился и объявил, что я его оскорбляю и что он вовсе не намерен ложиться в больницу. Он жил, как скотина, зато и умрёт рационально, как человек.
Собственно говоря, он умер от воспаления лёгких, и в вечер своей смерти прислал засаленную записку, в которой просил меня прийти помочь ему умереть.
Туземная женщина плакала у его постели. Мак-Интош лежал, закутавшись в бумажную простыню, но у него не хватило сил протестовать, когда я накинул на него шубу.
Он был преисполнен энергии, и глаза его сверкали. После того как приведённый мной старик доктор ушёл в негодовании от посыпавшегося на него сквернословия, он продолжал проклинать меня в течение нескольких минут и, наконец, успокоился.
Тут он велел жене достать «книгу» из отверстия в стене. Она принесла большой пакет, завёрнутый в подол юбки и содержащий пожелтевшие листы разнородной почтовой бумаги, пронумерованные и покрытые мелким убористым почерком. Мак-Интош запустил руку в этот хлам, любовно перебирая его.
– Вот мой труд, – сказал он. – Книга Мак-Интоша Джеллалудина, в которой сказано, что он видел и как жил и что приключилось с ним и другими; она же и история жизни и грехов и смерти Матери Матюрин. То, что представляет собой книга мирзы Мурада-Али-Бега по сравнению с другими книгами о жизни туземцев, – то же представляет собой моя книга по отношению к книге мирзы Мурада-Али-Бега!
Сильно было сказано, с чем согласится всякий, кто знает книгу мирзы Мурада-Али-Бега. Бумаги не представлялись мне особенно ценными, но Мак-Интош обращался с ними, как если бы это были денежные знаки. Затем он медленно проговорил:
– Несмотря на многочисленные слабые стороны вашего образования, вы были добры ко мне. Я упомяну о вашем табаке, когда предстану перед богами. Ваша доброта заслуживает большой благодарности. Но мне ненавистно чувствовать себя должником. Вот почему ныне завещаю вам памятник прочнейшей бронзы – мою единственную книгу – неотделанную и несовершенную местами, но – ах! – местами столь прекрасную! Не знаю, сумеете ли вы понять её. Это дар более почётный, нежели… Ба! Куда это забрели мои мысли! Вы изувечите её ужаснейшим образом. Вы выбросите те перлы, которые зовёте латинскими цитатами, филистер вы этакий, и искромсаете стиль, чтобы обратить его в собственный отрывистый жаргон, но всего вам не уничтожить. Я завещаю её вам. Этель… опять эти мысли!.. Миссис Мак-Интош, будь свидетельницей, что я даю сахибу все эти бумаги. Тебе они ни к чему, сердце моего сердца. Я завещаю вам, – проговорил он, обращаясь ко мне, – не дать книге умереть в настоящем её виде. Она – ваша, без всяких ограничений, история Мак-Интоша Джеллалудина, которая есть история не Мак-Интоша Джеллалудина, а несравненно более крупного человека и величайшей женщины. Слушайте же! Я ни пьян, ни помешан! Эта книга сделает вас знаменитым.
Я сказал: «Благодарю вас», в то время как туземная женщина вложила свёрток в мои руки.
– Мой единственный младенец! – сказал Мак-Интош с улыбкой. Силы его быстро убывали, но он продолжал говорить, пока мог перевести дух. Я остался дожидаться конца, зная, что в шести случаях из десяти умирающий вспоминает о матери. Он повернулся на бок и сказал:
– Рассказывайте, каким образом получили её. Никто вам не поверит, но, по крайней мере, имя моё не умрёт. Вы обойдётесь с ней беспощадно, я это знаю. Частью неизбежно придётся пожертвовать: люди глупцы и ханжи. Когда-то я сам был их рабом. Но режьте осторожно – как можно осторожнее. Это – великий труд, и я уплатил за него семью годами адских мук.
Голос его слабел, после десяти – двенадцати вздохов он начал бормотать какую-то молитву по-гречески. Туземная женщина горько плакала. Наконец, он приподнялся на кровати и проговорил столь же громко, сколь и медленно: «Не виновен, Господи!..»
Затем откинулся назад и оставался в оцепенении до самой смерти. Туземная женщина убежала к лошадям в сарай и кричала, и била себя в грудь, ибо она любила его.
Быть может, последние его слова выразили, что пережил когда-то Мак-Интош, но, кроме старых бумаг, завёрнутых в кусок материи, не было ничего в комнате, что могло бы объяснить, чем и кем он был раньше.
Бумаги оказались в безнадёжном беспорядке.
Стрикленд помог мне разобраться в них и объявил, что автор либо отчаянный лгун, либо выдающийся человек. Он более склонён к первому толкованию. В один прекрасный день вы, быть может, получите возможность лично судить о том. Свёрток потребовал больших исправлений и был полон греческой чепухи в начале глав, которую пришлось выбросить целиком. Если книге суждено быть напечатанной, кто-нибудь из читателей может вспомнить об этом рассказе, опубликованном как гарантия, в доказательство, что не я, а Мак-Интош Джеллалудин написал книгу Матери Матюрин.
Я вовсе не желаю, чтобы история «Одежды Гиганта» оправдалась в моем случае.
Молодой задор
Во дни своей ранней молодости Дик Хэт был очарован одной девицей. Очаровательница не имела ни роду, ни племени, ни службы, ни определённых занятий, словом, ровно ничего, не отличалась даже красотой.
Случилось это с Диком за месяц до его переселения в Индию и пять дней спустя после двадцать первой годовщины его рождения. Девице было девятнадцать лет, т. е. по всем женским данным она была на одну треть старше жениха, но вдвое глупее его.
За исключением разве падения с лошади, нет ничего легче жениться в регистратуре. Церемония эта требует очень немного времени и стоит всего каких-нибудь пятьдесят шиллингов, а отправляться туда – все равно, что пойти в закладную контору. Запишет регистратор имя, звание, место жительства, род занятий брачующихся, нажмёт пресс-бюваром по записи и, зажав перо в зубах, пробурчит: «Ну, теперь вы – муж и жена». На все это требуется не более десяти минут. Вы берете жену под руку и выходите на улицу с таким чувством, словно совершили что-то не совсем законное.
Однако и эта чересчур уж простая церемония способна связать человека так же крепко, как торжественная клятва перед алтарём, сопровождаемая хихиканьем подружек невесты сзади и оглушительным хором певчих спереди.
Таким связанным со всеми вытекающими из этого обязательствами почувствовал себя и Дик Хэт. Он совершенно серьёзно и добросовестно хотел отнестись к своим новым обязанностям мужа и будущего отца. В этом поддерживала его надежда на должность в Индии, которую выхлопотал ему один добрый знакомый. Эта должность давала содержание, казавшееся вполне достаточным на первый взгляд.
Целый год новобрачная должна была оставаться соломенной вдовой, а по истечении этого срока муж предполагал выписать её к себе, после чего их жизнь должна была превратиться в волшебный сон. Так, по крайней мере, казалось новобрачным, когда они отправлялись в Грэвсэнд, чтобы провести медовый месяц.
Четыре недели промчались как один день. Потом Дик на всех парах помчался в Индию, а его неутешная жёнушка осталась оплакивать временную разлуку в меблированной комнате с пансионом, ценой в тридцать шиллингов в неделю.
Но страна, в которую попал Дик, оказалась слишком суровой по отношению к двадцатилетним юношам, и жизнь в ней была не дешева. Жалованье, казавшееся вполне достаточным на расстоянии в шесть тысяч миль, вблизи значительно уменьшилось. Когда Дик отправил одну шестую часть жёнушке, у него образовался остаток в сто тридцать пять рупий, которые нужно было растянуть на целые двенадцать месяцев, что оказалось крайне трудным. Мистрис Хэт осталась с двадцатью фунтами стерлингов полученных мужем подъёмных; этой суммы не могло хватить надолго молодой неопытной женщине. Дик поневоле должен был поделиться с ней своим, в сущности, очень скудным жалованьем. Через год предстояло послать ей ещё 700 рупий на переезд к нему в Индию. Он видел, что это вовсе не будет так легко, как рисовалось ему на родине. Поэтому, кроме должности в конторе торгового дома, которую он занимал, нужно было поискать ещё побочный заработок, чтобы хоть мало-мальски свести концы с концами. Быть может, через некоторое время ему удастся получить и такой заработок, который позволит откладывать понемножку сумму, необходимую на переезд жены. Пока же он в свободные минуты брался за все, что попадало под руку и обещало хоть маленькую прибыль к его скудным средствам.
Вначале Дик лишь временами и не слишком сильно чувствовал, что позволил опутать себя тяжёлыми цепями. Это бывало тогда, когда его молодость соблазнялась различными удовольствиями и сладостями жизни, которых он не мог удовлетворить из-за отсутствия хорошо набитого кошелька. Но по мере того, как время шло все вперёд и вперёд, змея досады, разочарования и горя стала преследовать его уже безостановочно.
Началось с писем, вкривь и вкось написанных на семи-восьми листах и слёзно свидетельствовавших о том, как тоскует по мужу бедная жёнушка и как страстно она мечтает о будущем рае их совместного жительства в Индии. Среди чтения этих трогательных посланий вдруг врывался в жалкую конурку Дика сосед и, захлёбываясь от восторга, звал его посмотреть пони, которого он, сосед, привёл на продажу и который должен очень понравиться уважаемому мистеру Хэту. Дик говорил, что ему вовсе не до пони, и просил оставить его в покое. Тогда сосед приставал с каким-нибудь новым соблазном. В конце концов он довёл Дика до того, что бедняга перебрался в ещё более скромную конурку, объяснив эту перемену тем, что его новое место жительства ближе к конторе.
Когда Дик устроился в новом жилище, все его хозяйство состояло из зеленой шерстяной засаленной скатерти, которой он покрывал еле державшийся на ногах стол. Из одного стула, плохонькой постели, одной фотографической карточки жены, толстого стакана и фильтра для воды. Столовался он за тридцать семь рупий в месяц. У него не было «пунки», потому что «пунка» стоила пятнадцать рупий в месяц. Спал он на кровле той конторы, в которой занимался, и клал под подушку письма жены. Иногда кое-кто из знакомых приглашал его к себе обедать. Тогда он мог наслаждаться и «пункою», и напитком со льдом. Но это случалось редко, потому что люди брезговали знакомством с юношей, обладавшим инстинктами шотландского фабриканта сальных свечей, но жившим так плохо. Участвовать в подписках на устройство каких-либо развлечений Дик также не мог, поэтому единственным его удовольствием было перелистывать конторские книги и учить наизусть правила для выдачи ссуд под верное обеспечение.
Ежемесячно он переводил жене все те маленькие сбережения, которые ему удавалось вырвать из своего заработка. Посылать жене приходилось все больше и больше, по причине, которая скоро выяснится. На Дика вдруг напал тот непреодолимый и неотступный страх, которым страдают все женатые люди его положения. На пенсию он не мог рассчитывать. Что, если он скоропостижно умрёт и оставит жену совершенно необеспеченной? Эта мысль преследовала и мучила его до бурного сердцебиения, и он был уверен, что вот-вот умрёт от разрыва сердца.
Такие заботы и терзания не по силам юношам; они могут быть уделом лишь зрелых мужей. Но Дик был именно юношей, бедным, изнывающим от забот, лишённым возможности завести себе даже «пунку», как у других юношей; тиски этих забот сжимали его. Он готов был сойти с ума, и ему некому было поведать о своём горе. Известный «нажим» одинаково необходим как бильярдному шару, так и человеку, в особенности молодому. Дик постоянно страшно нуждался в деньгах и напрягал все свои силы, как вьючное животное, чтобы побольше заработать. Люди, которым он служил, знали, что юноши могут довольно сносно существовать и на ту сумму, которую вообще принято платить им в Индии, где увеличение содержания производится лишь с увеличением лет, а не по заслугам. И если юноша находил необходимым брать ещё постороннюю работу и таким образом работать за двоих, то это было его дело, а их дело запрещало им платить ему вдвое за труд, который он выполнял лично для них, пока он не достиг ещё определённых лет, когда полагается прибавка жалованья. Дик надрывался и в положенные часы службы, и в свободные от службы и зарабатывал довольно хорошо, однако не столько, сколько требовалось при наличии жены и в ожидании ребёнка да ещё окончания годового срока, после которого нужно иметь лишних семьсот рупий на переезд жены. Издали все это казалось таким лёгким, но теперь, лицом к лицу становилось уже грозным. И это с каждым днём становилось чувствительнее.
Сколько ни посылал жене денег бедный Дик, все было недостаточно. Письма жены изменили свой прежний нежный и грустный тон на другой, упрекающий и сварливый. Почему Дик не хочет выписать к себе жену и ребёнка? Ведь он получает большое, очень большое жалованье и он нехорошо делает, что тратит все на собственное удовольствие. Неужели Дик не пришлёт побольше денег в следующий раз? Для ребёнка надо купить то-то и то-то: следовал огромный список всего «крайне необходимого» для ребёнка.
Любя жену и только что родившегося, хотя и совсем ему незнакомого сыночка, бедный Дик старался увеличить сумму следующего денежного перевода на родину и писал полумальчишеские, полумужские письма, в которых объяснял, что жизнь совсем не так весела, как им, мужу и жене, думалось, и спрашивал, не может ли милая жёнушка обождать ещё немного с переездом к нему? Но милая жёнушка дольше ожидать не хотела. В её письмах зазвучали новые интонации, которых Дик никак не мог понять по своей молодости и неопытности в жизни, с которой он только что начал знакомиться.
В один прекрасный день Дик узнал от одного из своих сослуживцев, что женитьба не только уничтожит все его шансы на повышение жалованья в будущем, но может послужить причиной того, что он совсем лишится работы. Дик скрывал, что он женат, потому что в Индии не принимают на службу молодых женатых людей. Он переводил деньги жене не через свою контору, а через чужую, чтобы не выдать раньше времени тайну своей женитьбы. Сослуживец проработал уже несколько лет и женился лишь недавно, «сделал эту непростительную глупость», как он сам выражался, и в откровенной беседе с Диком высказал ему, чем угрожает эта глупость. Таким образом Дик нечаянно узнал, что грозит ему самому, когда откроется его тайна. Это был новый удар.
Через несколько дней Дик получил от жены извещение о смерти ребёнка и горькие упрёки в том, что ребёнок бы не умер, если бы мать могла предоставить ему то-то и то-то, стоившее денег, или если бы и она и ребёнок находились у Дика. Этот удар был тяжелее всех остальных. Но, не будучи официально женатым и потому не имея права быть отцом, Дик не мог явно предаваться своему горю, а должен был таить и его.
Одному Богу известно, как дотянул последние месяцы года наш злополучный Дик, какие надежды поддерживали его в непосильном труде. Работал он по-прежнему с неослабевающим усердием, жил по-прежнему кое-как и впроголодь, тратил лишнее на себя в том лишь случае, когда было необходимо переменить фильтр. Мечта о том, чтобы скопить семьсот рупий на переезд жены, оставалась такой же далёкой от осуществления, какой была вначале. Напряжение его труда, напряжение переводимых им на родину денежных сумм, напряжение тоски по умершему, ни разу не увиденному ребёнку – все это, вместе взятое, надрывало юношу больше, быть может, чем могло надорвать зрелого мужчину. Мучительна была для этого молодого жизнерадостного человека необходимость отказывать себе во всем, что так влечёт к себе именно юношество, не успевшее ничем пресытиться. Седоголовые мистеры, знавшие трудолюбие, бережливость и скромное поведение Дика, одобрительно хлопали его по плечу, повторяя старую поговорку:
Юноша, который хочет отличиться в своём деле,
Должен избегать мамзелей, зелей, зелей.
Дик, воображавший, что дошёл уже до предела всех человеческих испытаний, подобострастно смеялся при этих покровительственных шуточках старших, а перед его глазами неистово кружились и прыгали цифры сведённых им в конторских книгах балансов. Эти цифры не оставляли его в покое ни днём, ни ночью. Но ему предстояло переварить ещё одно новое испытание, которое должно было показаться ему горше всех остальных, уже перенесённых. Пришло новое письмо от милой жёнушки, являвшееся, собственно, естественным последствием предыдущих посланий мистрис Хэт. Тяжесть этого письма заключалась в извещении, что она нашла человека получше него, Дика, и ушла к нему. Объяснения её поступка сводились к тому, что она не намерена ждать вечно, когда он позовёт её к себе. Ребёнок умер, а сам Дик был только глупым мальчиком. И почему он не махал ей платком, когда они расставались в Грэвсэнде? Она знает, что она гадкая женщина, но пусть её судит Бог, а Дик не имеет права её судить, потому что он сам поступает гораздо хуже там, в своей Индии, куда он не хочет её брать, чтобы она не мешала ему весело жить. А новый её избранник целует землю, по которой она ступает. Пусть Дик простит её, сама же она никогда его не простит. Нового своего адреса она ему не сообщает, потому что не стоит. И много ещё было в этом духе нацарапано милой жёнушкой.
Вместо того чтобы благодарить судьбу за своё освобождение, Дик в полной мере почувствовал всю ту сердечную боль, какую чувствует давно уже женатый мужчина, счастливо живший с женой. Дик помнил только то, какой была его жёнушка при его расставании с нею и с родной Англией, и как горько она плакала в последнюю ночь в их тридцатишиллинговой комнатке «с мебелью». Вспоминая об этом, он сам катался с боку на бок по своей жалкой подстилке на кровле индийского дома, плакал и грыз себе ногти. Ему и в голову не приходило отрезвляющее соображение, что если бы он теперь, после почти двухлетней разлуки, встретился с женой, то оба они нашли бы друг друга сильно изменившимися, совсем другими, чем в тот день, когда ходили в регистратуру записываться мужем и женой. Ночь после прихода парохода из Англии, с которым могла бы приехать мистрис Хэт, если бы все было в порядке на земле, эта ночь прошла для Дика особенно мучительно.
На следующий день после этой ужасной ночи Дик почувствовал себя нерасположенным к работе. Ему казалось, что он страшно постарел и жизнь не имеет для него больше никакой прелести. Все ему опротивело, все было немило. И это в то время, когда ему шёл всего двадцать третий год. Как мужчина, он понимал, что он обесчещен, а мальчик в нем добавлял, что теперь ему пора отправляться к черту. Последнее было напрасно, но ему казалось, что это верно. Опустив голову на промасленную зеленую скатерть, он безутешно плакал, готовясь отказаться от должности и от всего, что было связано с должностью.
Но труды его не пропали даром и были, наконец, вознаграждены. Ему было дано три дня сроку на обсуждение своего нового шага – отказа от службы. За это время глава конторы сносился с кем-то по телеграфу, и когда пришёл Дик, то сказал ему, что ввиду необычайного трудолюбия мистера Хэта и проявленных им чрезвычайных служебных способностей вообще, ввиду всех заслуг молодого человека он, глава конторы, нашёл возможным, в виде чрезвычайного исключения из общих правил, предложить ему, мистеру Хэту, перейти на высшую должность. Разумеется, сначала он займёт эту высшую должность лишь в качестве претендента, и если он с течением времени окажется таким способным к ней, каким все надеются его видеть, судя по его предыдущей работе, то он, мистер Хэт, разумеется, и будет утверждён в ней.
– А сколько жалованья даст мне эта должность? – спросил Дик.
– Шестьсот пятьдесят рупий, – прозвучало в ответ.
И вот когда началось последнее, зато и самое сильное терзание для Дика. Шестьсот пятьдесят рупий! Это было ровно вдвое больше того, что он получал до сих пор. Этого было вполне достаточно, чтобы спасти крошку-сына и милую жёнушку и не бояться открыто признать себя женатым.
Когда человек дошёл до того, что уже не чувствует похмелья, состояние его поистине безнадёжно. Я посмотрел на Мак-Интоша, с его синими губами и спадавшими на глаза космами, и отвечал, что считаю его бесчувственность недостаточным поводом для зависти.
– Ради всего святого, не говорите этого! Утверждаю, что это – подлинное благо, вполне достойное зависти. Подумайте о моих утешениях!
– Неужели у вас их так много, Мак-Интош?
– Конечно, ваши притязания на сарказм, это специальное орудие культурных людей, нельзя не признать нелепыми. Во-первых, мои познания, моё классическое и литературное образование, быть может, и затуманенное неумеренным пьянством (и это, кстати, напоминает мне, что, перед тем как душа моя воспарила вчера вечером к богам, я продал пикерингское издание Горация, которое вы были так добры дать мне для прочтения. Оно поступило к старьёвщику Дитта Муллю. Он дал за него десять анна, и можно его выкупить за одну рупию), но все же это образование неизмеримо выше вашего. Во-вторых, прочная привязанность миссис Мак-Интош, наилучшей из жён. В-третьих, памятник, более прочный, чем бронза, построенный мной за семь лет моего позора.
Здесь он остановился и пополз в противоположный конец комнаты за водой. Он весь трясся, его сильно тошнило.
После этого он несколько раз ещё упоминал о своём «сокровище» – каком-то очень ценном своём имуществе, но я приписал это пьяному бреду. Беден он был и горд неимоверно. Обращение его не отличалось приятностью, но он достаточно знал о туземцах, с которыми провёл семь лет своей жизни, чтобы стоило вести с ним знакомство. Он искренне смеялся над Стриклендом за его невежество – «невежественный Запад и Восток», как он говорил. Во-первых, он гордился тем, что был выдающимся членом Оксфордского университета, что, может быть, и правда, – я недостаточно образован, чтобы судить о том – а во-вторых, тем, что «держит руку на пульсе туземной жизни», и это – подлинный факт. В качестве оксфордского студента я находил его бестактным: он вечно кичился своим образованием. Но в роли магометанского факира – как Мак-Интош Джеллалудин – он всецело отвечал моим требованиям. Он выкурил несколько фунтов моего табаку и преподал мне несколько унций ценных познаний, но никогда не пожелал принять от меня ничего существенного, даже когда настали холода, стиснувшие жалкую худую грудь под жалкой худой альпаковой курткой. Он очень рассердился и объявил, что я его оскорбляю и что он вовсе не намерен ложиться в больницу. Он жил, как скотина, зато и умрёт рационально, как человек.
Собственно говоря, он умер от воспаления лёгких, и в вечер своей смерти прислал засаленную записку, в которой просил меня прийти помочь ему умереть.
Туземная женщина плакала у его постели. Мак-Интош лежал, закутавшись в бумажную простыню, но у него не хватило сил протестовать, когда я накинул на него шубу.
Он был преисполнен энергии, и глаза его сверкали. После того как приведённый мной старик доктор ушёл в негодовании от посыпавшегося на него сквернословия, он продолжал проклинать меня в течение нескольких минут и, наконец, успокоился.
Тут он велел жене достать «книгу» из отверстия в стене. Она принесла большой пакет, завёрнутый в подол юбки и содержащий пожелтевшие листы разнородной почтовой бумаги, пронумерованные и покрытые мелким убористым почерком. Мак-Интош запустил руку в этот хлам, любовно перебирая его.
– Вот мой труд, – сказал он. – Книга Мак-Интоша Джеллалудина, в которой сказано, что он видел и как жил и что приключилось с ним и другими; она же и история жизни и грехов и смерти Матери Матюрин. То, что представляет собой книга мирзы Мурада-Али-Бега по сравнению с другими книгами о жизни туземцев, – то же представляет собой моя книга по отношению к книге мирзы Мурада-Али-Бега!
Сильно было сказано, с чем согласится всякий, кто знает книгу мирзы Мурада-Али-Бега. Бумаги не представлялись мне особенно ценными, но Мак-Интош обращался с ними, как если бы это были денежные знаки. Затем он медленно проговорил:
– Несмотря на многочисленные слабые стороны вашего образования, вы были добры ко мне. Я упомяну о вашем табаке, когда предстану перед богами. Ваша доброта заслуживает большой благодарности. Но мне ненавистно чувствовать себя должником. Вот почему ныне завещаю вам памятник прочнейшей бронзы – мою единственную книгу – неотделанную и несовершенную местами, но – ах! – местами столь прекрасную! Не знаю, сумеете ли вы понять её. Это дар более почётный, нежели… Ба! Куда это забрели мои мысли! Вы изувечите её ужаснейшим образом. Вы выбросите те перлы, которые зовёте латинскими цитатами, филистер вы этакий, и искромсаете стиль, чтобы обратить его в собственный отрывистый жаргон, но всего вам не уничтожить. Я завещаю её вам. Этель… опять эти мысли!.. Миссис Мак-Интош, будь свидетельницей, что я даю сахибу все эти бумаги. Тебе они ни к чему, сердце моего сердца. Я завещаю вам, – проговорил он, обращаясь ко мне, – не дать книге умереть в настоящем её виде. Она – ваша, без всяких ограничений, история Мак-Интоша Джеллалудина, которая есть история не Мак-Интоша Джеллалудина, а несравненно более крупного человека и величайшей женщины. Слушайте же! Я ни пьян, ни помешан! Эта книга сделает вас знаменитым.
Я сказал: «Благодарю вас», в то время как туземная женщина вложила свёрток в мои руки.
– Мой единственный младенец! – сказал Мак-Интош с улыбкой. Силы его быстро убывали, но он продолжал говорить, пока мог перевести дух. Я остался дожидаться конца, зная, что в шести случаях из десяти умирающий вспоминает о матери. Он повернулся на бок и сказал:
– Рассказывайте, каким образом получили её. Никто вам не поверит, но, по крайней мере, имя моё не умрёт. Вы обойдётесь с ней беспощадно, я это знаю. Частью неизбежно придётся пожертвовать: люди глупцы и ханжи. Когда-то я сам был их рабом. Но режьте осторожно – как можно осторожнее. Это – великий труд, и я уплатил за него семью годами адских мук.
Голос его слабел, после десяти – двенадцати вздохов он начал бормотать какую-то молитву по-гречески. Туземная женщина горько плакала. Наконец, он приподнялся на кровати и проговорил столь же громко, сколь и медленно: «Не виновен, Господи!..»
Затем откинулся назад и оставался в оцепенении до самой смерти. Туземная женщина убежала к лошадям в сарай и кричала, и била себя в грудь, ибо она любила его.
Быть может, последние его слова выразили, что пережил когда-то Мак-Интош, но, кроме старых бумаг, завёрнутых в кусок материи, не было ничего в комнате, что могло бы объяснить, чем и кем он был раньше.
Бумаги оказались в безнадёжном беспорядке.
Стрикленд помог мне разобраться в них и объявил, что автор либо отчаянный лгун, либо выдающийся человек. Он более склонён к первому толкованию. В один прекрасный день вы, быть может, получите возможность лично судить о том. Свёрток потребовал больших исправлений и был полон греческой чепухи в начале глав, которую пришлось выбросить целиком. Если книге суждено быть напечатанной, кто-нибудь из читателей может вспомнить об этом рассказе, опубликованном как гарантия, в доказательство, что не я, а Мак-Интош Джеллалудин написал книгу Матери Матюрин.
Я вовсе не желаю, чтобы история «Одежды Гиганта» оправдалась в моем случае.
Молодой задор
Во дни своей ранней молодости Дик Хэт был очарован одной девицей. Очаровательница не имела ни роду, ни племени, ни службы, ни определённых занятий, словом, ровно ничего, не отличалась даже красотой.
Случилось это с Диком за месяц до его переселения в Индию и пять дней спустя после двадцать первой годовщины его рождения. Девице было девятнадцать лет, т. е. по всем женским данным она была на одну треть старше жениха, но вдвое глупее его.
За исключением разве падения с лошади, нет ничего легче жениться в регистратуре. Церемония эта требует очень немного времени и стоит всего каких-нибудь пятьдесят шиллингов, а отправляться туда – все равно, что пойти в закладную контору. Запишет регистратор имя, звание, место жительства, род занятий брачующихся, нажмёт пресс-бюваром по записи и, зажав перо в зубах, пробурчит: «Ну, теперь вы – муж и жена». На все это требуется не более десяти минут. Вы берете жену под руку и выходите на улицу с таким чувством, словно совершили что-то не совсем законное.
Однако и эта чересчур уж простая церемония способна связать человека так же крепко, как торжественная клятва перед алтарём, сопровождаемая хихиканьем подружек невесты сзади и оглушительным хором певчих спереди.
Таким связанным со всеми вытекающими из этого обязательствами почувствовал себя и Дик Хэт. Он совершенно серьёзно и добросовестно хотел отнестись к своим новым обязанностям мужа и будущего отца. В этом поддерживала его надежда на должность в Индии, которую выхлопотал ему один добрый знакомый. Эта должность давала содержание, казавшееся вполне достаточным на первый взгляд.
Целый год новобрачная должна была оставаться соломенной вдовой, а по истечении этого срока муж предполагал выписать её к себе, после чего их жизнь должна была превратиться в волшебный сон. Так, по крайней мере, казалось новобрачным, когда они отправлялись в Грэвсэнд, чтобы провести медовый месяц.
Четыре недели промчались как один день. Потом Дик на всех парах помчался в Индию, а его неутешная жёнушка осталась оплакивать временную разлуку в меблированной комнате с пансионом, ценой в тридцать шиллингов в неделю.
Но страна, в которую попал Дик, оказалась слишком суровой по отношению к двадцатилетним юношам, и жизнь в ней была не дешева. Жалованье, казавшееся вполне достаточным на расстоянии в шесть тысяч миль, вблизи значительно уменьшилось. Когда Дик отправил одну шестую часть жёнушке, у него образовался остаток в сто тридцать пять рупий, которые нужно было растянуть на целые двенадцать месяцев, что оказалось крайне трудным. Мистрис Хэт осталась с двадцатью фунтами стерлингов полученных мужем подъёмных; этой суммы не могло хватить надолго молодой неопытной женщине. Дик поневоле должен был поделиться с ней своим, в сущности, очень скудным жалованьем. Через год предстояло послать ей ещё 700 рупий на переезд к нему в Индию. Он видел, что это вовсе не будет так легко, как рисовалось ему на родине. Поэтому, кроме должности в конторе торгового дома, которую он занимал, нужно было поискать ещё побочный заработок, чтобы хоть мало-мальски свести концы с концами. Быть может, через некоторое время ему удастся получить и такой заработок, который позволит откладывать понемножку сумму, необходимую на переезд жены. Пока же он в свободные минуты брался за все, что попадало под руку и обещало хоть маленькую прибыль к его скудным средствам.
Вначале Дик лишь временами и не слишком сильно чувствовал, что позволил опутать себя тяжёлыми цепями. Это бывало тогда, когда его молодость соблазнялась различными удовольствиями и сладостями жизни, которых он не мог удовлетворить из-за отсутствия хорошо набитого кошелька. Но по мере того, как время шло все вперёд и вперёд, змея досады, разочарования и горя стала преследовать его уже безостановочно.
Началось с писем, вкривь и вкось написанных на семи-восьми листах и слёзно свидетельствовавших о том, как тоскует по мужу бедная жёнушка и как страстно она мечтает о будущем рае их совместного жительства в Индии. Среди чтения этих трогательных посланий вдруг врывался в жалкую конурку Дика сосед и, захлёбываясь от восторга, звал его посмотреть пони, которого он, сосед, привёл на продажу и который должен очень понравиться уважаемому мистеру Хэту. Дик говорил, что ему вовсе не до пони, и просил оставить его в покое. Тогда сосед приставал с каким-нибудь новым соблазном. В конце концов он довёл Дика до того, что бедняга перебрался в ещё более скромную конурку, объяснив эту перемену тем, что его новое место жительства ближе к конторе.
Когда Дик устроился в новом жилище, все его хозяйство состояло из зеленой шерстяной засаленной скатерти, которой он покрывал еле державшийся на ногах стол. Из одного стула, плохонькой постели, одной фотографической карточки жены, толстого стакана и фильтра для воды. Столовался он за тридцать семь рупий в месяц. У него не было «пунки», потому что «пунка» стоила пятнадцать рупий в месяц. Спал он на кровле той конторы, в которой занимался, и клал под подушку письма жены. Иногда кое-кто из знакомых приглашал его к себе обедать. Тогда он мог наслаждаться и «пункою», и напитком со льдом. Но это случалось редко, потому что люди брезговали знакомством с юношей, обладавшим инстинктами шотландского фабриканта сальных свечей, но жившим так плохо. Участвовать в подписках на устройство каких-либо развлечений Дик также не мог, поэтому единственным его удовольствием было перелистывать конторские книги и учить наизусть правила для выдачи ссуд под верное обеспечение.
Ежемесячно он переводил жене все те маленькие сбережения, которые ему удавалось вырвать из своего заработка. Посылать жене приходилось все больше и больше, по причине, которая скоро выяснится. На Дика вдруг напал тот непреодолимый и неотступный страх, которым страдают все женатые люди его положения. На пенсию он не мог рассчитывать. Что, если он скоропостижно умрёт и оставит жену совершенно необеспеченной? Эта мысль преследовала и мучила его до бурного сердцебиения, и он был уверен, что вот-вот умрёт от разрыва сердца.
Такие заботы и терзания не по силам юношам; они могут быть уделом лишь зрелых мужей. Но Дик был именно юношей, бедным, изнывающим от забот, лишённым возможности завести себе даже «пунку», как у других юношей; тиски этих забот сжимали его. Он готов был сойти с ума, и ему некому было поведать о своём горе. Известный «нажим» одинаково необходим как бильярдному шару, так и человеку, в особенности молодому. Дик постоянно страшно нуждался в деньгах и напрягал все свои силы, как вьючное животное, чтобы побольше заработать. Люди, которым он служил, знали, что юноши могут довольно сносно существовать и на ту сумму, которую вообще принято платить им в Индии, где увеличение содержания производится лишь с увеличением лет, а не по заслугам. И если юноша находил необходимым брать ещё постороннюю работу и таким образом работать за двоих, то это было его дело, а их дело запрещало им платить ему вдвое за труд, который он выполнял лично для них, пока он не достиг ещё определённых лет, когда полагается прибавка жалованья. Дик надрывался и в положенные часы службы, и в свободные от службы и зарабатывал довольно хорошо, однако не столько, сколько требовалось при наличии жены и в ожидании ребёнка да ещё окончания годового срока, после которого нужно иметь лишних семьсот рупий на переезд жены. Издали все это казалось таким лёгким, но теперь, лицом к лицу становилось уже грозным. И это с каждым днём становилось чувствительнее.
Сколько ни посылал жене денег бедный Дик, все было недостаточно. Письма жены изменили свой прежний нежный и грустный тон на другой, упрекающий и сварливый. Почему Дик не хочет выписать к себе жену и ребёнка? Ведь он получает большое, очень большое жалованье и он нехорошо делает, что тратит все на собственное удовольствие. Неужели Дик не пришлёт побольше денег в следующий раз? Для ребёнка надо купить то-то и то-то: следовал огромный список всего «крайне необходимого» для ребёнка.
Любя жену и только что родившегося, хотя и совсем ему незнакомого сыночка, бедный Дик старался увеличить сумму следующего денежного перевода на родину и писал полумальчишеские, полумужские письма, в которых объяснял, что жизнь совсем не так весела, как им, мужу и жене, думалось, и спрашивал, не может ли милая жёнушка обождать ещё немного с переездом к нему? Но милая жёнушка дольше ожидать не хотела. В её письмах зазвучали новые интонации, которых Дик никак не мог понять по своей молодости и неопытности в жизни, с которой он только что начал знакомиться.
В один прекрасный день Дик узнал от одного из своих сослуживцев, что женитьба не только уничтожит все его шансы на повышение жалованья в будущем, но может послужить причиной того, что он совсем лишится работы. Дик скрывал, что он женат, потому что в Индии не принимают на службу молодых женатых людей. Он переводил деньги жене не через свою контору, а через чужую, чтобы не выдать раньше времени тайну своей женитьбы. Сослуживец проработал уже несколько лет и женился лишь недавно, «сделал эту непростительную глупость», как он сам выражался, и в откровенной беседе с Диком высказал ему, чем угрожает эта глупость. Таким образом Дик нечаянно узнал, что грозит ему самому, когда откроется его тайна. Это был новый удар.
Через несколько дней Дик получил от жены извещение о смерти ребёнка и горькие упрёки в том, что ребёнок бы не умер, если бы мать могла предоставить ему то-то и то-то, стоившее денег, или если бы и она и ребёнок находились у Дика. Этот удар был тяжелее всех остальных. Но, не будучи официально женатым и потому не имея права быть отцом, Дик не мог явно предаваться своему горю, а должен был таить и его.
Одному Богу известно, как дотянул последние месяцы года наш злополучный Дик, какие надежды поддерживали его в непосильном труде. Работал он по-прежнему с неослабевающим усердием, жил по-прежнему кое-как и впроголодь, тратил лишнее на себя в том лишь случае, когда было необходимо переменить фильтр. Мечта о том, чтобы скопить семьсот рупий на переезд жены, оставалась такой же далёкой от осуществления, какой была вначале. Напряжение его труда, напряжение переводимых им на родину денежных сумм, напряжение тоски по умершему, ни разу не увиденному ребёнку – все это, вместе взятое, надрывало юношу больше, быть может, чем могло надорвать зрелого мужчину. Мучительна была для этого молодого жизнерадостного человека необходимость отказывать себе во всем, что так влечёт к себе именно юношество, не успевшее ничем пресытиться. Седоголовые мистеры, знавшие трудолюбие, бережливость и скромное поведение Дика, одобрительно хлопали его по плечу, повторяя старую поговорку:
Юноша, который хочет отличиться в своём деле,
Должен избегать мамзелей, зелей, зелей.
Дик, воображавший, что дошёл уже до предела всех человеческих испытаний, подобострастно смеялся при этих покровительственных шуточках старших, а перед его глазами неистово кружились и прыгали цифры сведённых им в конторских книгах балансов. Эти цифры не оставляли его в покое ни днём, ни ночью. Но ему предстояло переварить ещё одно новое испытание, которое должно было показаться ему горше всех остальных, уже перенесённых. Пришло новое письмо от милой жёнушки, являвшееся, собственно, естественным последствием предыдущих посланий мистрис Хэт. Тяжесть этого письма заключалась в извещении, что она нашла человека получше него, Дика, и ушла к нему. Объяснения её поступка сводились к тому, что она не намерена ждать вечно, когда он позовёт её к себе. Ребёнок умер, а сам Дик был только глупым мальчиком. И почему он не махал ей платком, когда они расставались в Грэвсэнде? Она знает, что она гадкая женщина, но пусть её судит Бог, а Дик не имеет права её судить, потому что он сам поступает гораздо хуже там, в своей Индии, куда он не хочет её брать, чтобы она не мешала ему весело жить. А новый её избранник целует землю, по которой она ступает. Пусть Дик простит её, сама же она никогда его не простит. Нового своего адреса она ему не сообщает, потому что не стоит. И много ещё было в этом духе нацарапано милой жёнушкой.
Вместо того чтобы благодарить судьбу за своё освобождение, Дик в полной мере почувствовал всю ту сердечную боль, какую чувствует давно уже женатый мужчина, счастливо живший с женой. Дик помнил только то, какой была его жёнушка при его расставании с нею и с родной Англией, и как горько она плакала в последнюю ночь в их тридцатишиллинговой комнатке «с мебелью». Вспоминая об этом, он сам катался с боку на бок по своей жалкой подстилке на кровле индийского дома, плакал и грыз себе ногти. Ему и в голову не приходило отрезвляющее соображение, что если бы он теперь, после почти двухлетней разлуки, встретился с женой, то оба они нашли бы друг друга сильно изменившимися, совсем другими, чем в тот день, когда ходили в регистратуру записываться мужем и женой. Ночь после прихода парохода из Англии, с которым могла бы приехать мистрис Хэт, если бы все было в порядке на земле, эта ночь прошла для Дика особенно мучительно.
На следующий день после этой ужасной ночи Дик почувствовал себя нерасположенным к работе. Ему казалось, что он страшно постарел и жизнь не имеет для него больше никакой прелести. Все ему опротивело, все было немило. И это в то время, когда ему шёл всего двадцать третий год. Как мужчина, он понимал, что он обесчещен, а мальчик в нем добавлял, что теперь ему пора отправляться к черту. Последнее было напрасно, но ему казалось, что это верно. Опустив голову на промасленную зеленую скатерть, он безутешно плакал, готовясь отказаться от должности и от всего, что было связано с должностью.
Но труды его не пропали даром и были, наконец, вознаграждены. Ему было дано три дня сроку на обсуждение своего нового шага – отказа от службы. За это время глава конторы сносился с кем-то по телеграфу, и когда пришёл Дик, то сказал ему, что ввиду необычайного трудолюбия мистера Хэта и проявленных им чрезвычайных служебных способностей вообще, ввиду всех заслуг молодого человека он, глава конторы, нашёл возможным, в виде чрезвычайного исключения из общих правил, предложить ему, мистеру Хэту, перейти на высшую должность. Разумеется, сначала он займёт эту высшую должность лишь в качестве претендента, и если он с течением времени окажется таким способным к ней, каким все надеются его видеть, судя по его предыдущей работе, то он, мистер Хэт, разумеется, и будет утверждён в ней.
– А сколько жалованья даст мне эта должность? – спросил Дик.
– Шестьсот пятьдесят рупий, – прозвучало в ответ.
И вот когда началось последнее, зато и самое сильное терзание для Дика. Шестьсот пятьдесят рупий! Это было ровно вдвое больше того, что он получал до сих пор. Этого было вполне достаточно, чтобы спасти крошку-сына и милую жёнушку и не бояться открыто признать себя женатым.