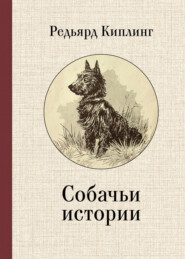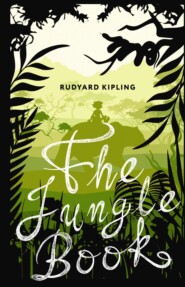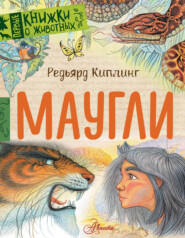По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ким
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но цена, цена, – сказал джат, поводя своими сильными плечами. Мой сын – мой сын. Теперь, когда он поправится, как я могу вернуться к его матери и сказать ей, что я принял помощь и ничего не дал за нее?
– Все эти джаты похожи друг на друга, – кротко сказал Ким.
Джат стоял со своим ребенком, а мимо шли королевские слоны.
– О, погонщик, – сказал он, – за сколько ты продашь этих осликов?
Джат разразился хохотом, заглушенным извинениями, с которыми он обратился к ламе.
– Это поговорка моей страны, сказанная совсем по-тамошнему. Таковы все мы, джаты. Я приду завтра с ребенком, и благословение богов очага – добрых маленьких богов – да будет над обоими вами… Ну, сын, теперь мы снова станем сильными. Не выплевывай, мой князек! Царь моего сердца, не выплевывай, и к утру станем сильными людьми, борцами, умеющими управляться с дубинами.
Он пошел дальше, напевая и бормоча что-то. Лама обернулся к Киму, и вся старческая, полная любви душа отразилась в его узких глазах.
– Вылечить больного считается большой заслугой, но сначала надо приобрести знания. Это было сделано умно, о Всеобщий Друг.
– Я стал умным, благодаря тебе, Служитель Божий, – сказал Ким, и, забывая только что сыгранную комедию, забывая школу св. Ксаверия, забывая свою белую кровь, забывая даже Большую Игру, он наклонился, по магометанскому обычаю, в пыли храма, чтобы дотронуться до ног своего учителя. – Моими знаниями я обязан тебе. В течение трех лет я ел твой хлеб. Время моего ученья окончено. Я освобожден от всяких школ. Я прихожу к тебе.
– В этом моя награда. Войди! Войди! Все ли хорошо? – Они вошли во внутренний двор, на который падали золотые лучи вечернего солнца. – Встань так, чтобы я мог видеть тебя. Так! – Он оглядел Кима критическим взором. – Это уже более не ребенок, а взрослый, зрелый по уму, врач по виду. Я хорошо сделал, я хорошо сделал, когда отдал тебя вооруженным людям в ту темную ночь. Помнишь ли ты наш первый день под Зам-Заммахом?
– Да, – сказал Ким. – Помнишь, как я выскочил из экипажа в первый день, когда отправился…
– К «Вратам знания»? Помню! А тот день, когда мы ели пирожки за рекой у Нуклао? Много дней ты просил милостыню за меня, а в тот день я просил за тебя.
– Была основательная причина, – заметил Ким. – Я был тогда учеником во «Вратах знания» и одет сахибом. Не забывай, святой человек, – шутливо продолжал он, – я все еще сахиб, по твоей милости.
– Да. И очень почтенный сахиб. Пойдем в мою келью, чела.
– Откуда ты это знаешь?
Лама улыбнулся.
– Во-первых, через доброго священнослужителя, которого мы встретили в лагере вооруженных людей. Теперь он уехал в свою страну, и я посылал деньги его брату. (Полковник Крейтон, ставший попечителем Кима после того, как отец Виктор уехал в Англию со своим полком, вряд ли был братом священника.) Но я недостаточно хорошо понимаю письма сахиба. Их нужно переводить для меня. Я избрал более верный способ. Много раз, когда я возвращался после моих исканий в этот храм, всегда бывший гнездом для меня, сюда приходил один человек, который искал просветления. Он говорил, что был индусом, но все эти боги надоели ему. – Лама указал в сторону архатов.
– Толстый человек? – спросил Ким, прищурив глаза.
– Очень толстый. Вскоре я заметил, что его ум занят только пустяками – дьяволами и чарами, тем, как происходит чаепитие в монастырях и каким образом мы посвящаем новичков. Это человек с бесконечными вопросами, но он был твой друг, чела. Он сказал мне, что ты на пути к большим почестям в должности писца. А я вижу, что ты врач.
– Да, я – писец, когда бываю сахибом, но это остается в стороне, когда я прихожу к тебе, твоим учеником. Я закончил годы, предназначенные для ученья сахиба.
– Ты был вроде послушника? – сказал лама, утвердительно покачивая головой. – Ты освобожден от ученья? Я не хотел бы, чтобы ты вышел незрелым.
– Я совершенно свободен. В назначенное время я поступлю на государственную службу писцом.
– Не воином. Это хорошо.
– Но сначала я пришел побродить с тобой. Поэтому я здесь. Кто просит вместо тебя? – быстро продолжал он, желая прекратить расспросы о себе.
– Очень часто я прошу сам, но, как ты знаешь, я редко бываю здесь, только тогда, когда прихожу посмотреть на моего ученика. Я прошел пешком и проехал по железной дороге весь Индостан с одного конца до другого. Великая, удивительная страна! Но, когда я останавливаюсь здесь, я чувствую себя, как в своем Бод-Юле.
Он оглянул с довольным видом свою маленькую чистую келью. Сиденьем ему служила низкая подушка, на которой он расположился, скрестив ноги, в позе Будды, погруженного в размышления. Перед ним стоял стол из черного тика, менее двадцати дюймов в вышину, уставленный медными чайными чашками. В углу стоял крошечный алтарь, также из резного тика, с медным изображением Будды; перед ним была лампада, жертвенник и пара медных цветочных горшков.
– Хранитель изображений в Доме Чудес получит награду за то, что дал их мне год тому назад, – сказал он, заметив взгляд Кима. – Когда живешь далеко от родной земли, такие предметы служат воспоминанием. И мы должны благоговеть перед Господом за то, что Он указал нам Путь! Смотри! – он показал на странно сложенную кучу раскрашенного риса, увенчанную металлическим украшением. – Когда я был настоятелем монастыря у себя на родине, прежде чем достиг высшего познания, я каждый день приносил жертву. Это – жертва Вселенной Господу. Таким образом в Тибете каждый день весь мир приносил жертву Высшему Закону. И я делаю это и теперь, хотя знаю, что Всесовершенный выше всяких славословий и укоров. – Он понюхал табаку.
– Это хорошо, Служитель Божий, – пробормотал Ким. Счастливый и несколько усталый, он с удовольствием опустился на подушки.
– Еще, – улыбаясь, сказал старик, – я пишу картины «Колеса Жизни». Три дня на одну картину. Я был занят этим, а может быть, закрыл ненадолго глаза, когда ко мне пришли сказать о тебе. Хорошо, что ты здесь: я покажу тебе мое искусство не из гордости, а чтобы ты научился ему. Не вся мудрость мира у сахибов.
Он вынул из-под стола лист желтой китайской бумаги со странным запахом, кисти и плитки красок. Чистыми, строгими линиями он начертал Великое Колесо с его шестью спицами, в центре которых соединяются Свиньи, Змеи и Голубь (Невежество, Гнев и Похоть), а в сегментах были изображены небеса и ад и различные жизненные явления. Рассказывают, что сам Бодисатва впервые написал эту картину из зернышек риса и пыли, чтобы научить Своих учеников Причинам вещей. В течение многих веков картина эта выкристаллизировалась в удивительно условное, наполненное сотнями фигурок изображение, каждая линия которого представляет собой символ. Мало кто умеет объяснить содержание картины; во всем свете нет и двадцати человек, которые сумели бы верно, не копируя, написать ее, а умеющих нарисовать и растолковать только трое.
– Я немного учился рисовать, – сказал Ким. – Но это – чудо из чудес.
– Я писал такие картины в течение многих лет, – сказал лама. – Было время, когда я мог написать всю от часа одного зажигания лампады до другого. Я научу тебя этому искусству после долгой подготовки, и я объясню тебе также значение Колеса.
– Значит, мы пойдем на Большую дорогу?
– Пойдем на дорогу и возобновим наши искания. Я только поджидал тебя. Мне стало ясно из множества сновидений, особенно того, что я видел в ту ночь, когда «Врата знания» закрылись за тобой, что без тебя мне никогда не найти моей Реки. Как ты знаешь, я постоянно отгонял эти мысли, боясь иллюзий. Поэтому я и не хотел взять тебя с собой в тот день в Лукнове, когда мы ели пирожки. Я не хотел тебя брать, пока не настанет благоприятное время. От гор до моря и от моря до гор я ходил, но напрасно. Тогда я вспомнил Джатаку.
Он рассказал Киму историю слона с цепью на ноге в тех же словах, как часто рассказывал ее джайнским жрецам.
– Дальнейших доказательств не требуется, – спокойно сказал он. – Ты был послан мне в помощь. Без этой помощи мои поиски сводились ни к чему. Поэтому мы пойдем вместе, и поиски наши, наверно, увенчаются успехом.
– Куда мы пойдем?
– Не все ли равно, Всеобщий Друг? Говорю тебе, мы, наверно, найдем. Если нужно будет, Река пробьется из земли перед нами. Мне зачтется в заслугу, что послал тебя ко «Вратам знания» и дал тебе сокровище, имя которому Мудрость. Ты вернулся, как я сейчас видел, последователем Сакья-Муни. Врача, которому воздвигнуто много алтарей в Бод-Юле. Этого достаточно. Мы вместе, и все по-прежнему – Всеобщий Друг – Друг Звезд, мой чела!
Потом они заговорили о светских вопросах, но замечательно, что лама ничего не расспрашивал о жизни в школе св. Ксаверия и не проявил ни малейшего желания узнать образ жизни и обычаи сахибов. Мысли его все были в прошлом, и он переживал каждый шаг их первого чудесного путешествия, потирая руки и улыбаясь, пока, свернувшись, не уснул внезапным сном старости.
Ким наблюдал, как последние тусклые лучи солнца исчезали со двора, перебирал свои четки и любовался кинжалом. Шум Бенареса, старейшего из городов земли, бодрствующего перед Господом и днем и ночью, ударялся о стены, словно волны о берег. Временами по двору проходил джайнский жрец с каким-нибудь небольшим жертвоприношением изображениям божеств и заметал перед собой дорожку, чтобы случайно не лишить жизни какое-нибудь живое существо. Мерцала лампада, и раздавались звуки молитвы. Ким смотрел на звезды, подымавшиеся одна за другой в тихой, всеобъемлющей тьме, пока не заснул у подножия алтаря. В эту ночь во сне он думал по-индостански, ни одно английское слово не пришло ему на ум…
– Служитель Божий, а ребенок, которому мы дали лекарство? – сказал он около трех часов утра, когда лама, проснувшись, хотел отправиться в паломничество. – Джат придет на рассвете.
– Я заслужил этот ответ. Я причинил бы вред своей поспешностью. – Он сел на подушки и начал перебирать четки. – Действительно, старые люди что дети! – патетически проговорил он. – Им хочется чего-нибудь и непременно сейчас же, а то они сердятся и плачут. Много раз, когда я бывал в пути, я готов был топать ногами от нетерпения при виде повозки, запряженной волами, которая преграждала мне путь, или простого облака пыли. Этого не бывало прежде, когда я был в расцвете лет… много лет прошло с тех пор!.. Но все же это нехорошо.
– Но ведь ты действительно стар, Служитель Божий.
– Так всегда бывает. Первопричина всему в мире причина, старые и молодые, больные и здоровые, знающие и невежественные – кто может сдержать действие этой Причины? Разве Колесо останется неподвижным, если его вертит ребенок или пьяница? Чела, наш мир – это великий и страшный мир.
– Я считаю его хорошим, – зевая, проговорил Ким. – Есть что-нибудь поесть? Я не ел со вчерашнего вечера.
– Я забыл об этом. Вон там хороший ботьяльский чай и холодный рис.
– С такой едой мы недалеко уйдем. – Ким ощущал потребность в мясе, свойственную европейцам и не удовлетворенную в джайнском храме. Но вместо того, чтобы сразу пойти с нищенской чашей, он набивал себе желудок холодным рисом до зари, когда явился фермер. Он говорил много, задыхаясь от благодарности.
– Ночью лихорадка спала и проступила испарина! – кричал он. – Попробуй тут, кожа у него свежая и новая! Ему понравились соленые лепешки, а молоко он пил с жадностью. – Он скинул покрывало с лица ребенка, и тот сонно улыбнулся Киму. Маленькая кучка жрецов, безмолвная, но внимательно наблюдавшая за всеми, собралась у дверей храма. Они знали, и Ким знал, что они знали, как старый лама встретил своего ученика. Как вежливые люди, они не навязывались накануне ни своим присутствием, ни словами, ни жестами. Ким отплатил им за это, когда взошло солнце.
– Возблагодари джайнских богов, брат мой, – сказал он, не зная имен этих богов. – Лихорадка действительно спала.
– Взгляните! Посмотрите! – с сияющим видом говорил стоявший позади лама хозяевам, у которых находил приют в течение трех лет. – Был ли когда-нибудь на свете другой такой чела? Он последователь нашего Господа-Исцелителя.
– Все эти джаты похожи друг на друга, – кротко сказал Ким.
Джат стоял со своим ребенком, а мимо шли королевские слоны.
– О, погонщик, – сказал он, – за сколько ты продашь этих осликов?
Джат разразился хохотом, заглушенным извинениями, с которыми он обратился к ламе.
– Это поговорка моей страны, сказанная совсем по-тамошнему. Таковы все мы, джаты. Я приду завтра с ребенком, и благословение богов очага – добрых маленьких богов – да будет над обоими вами… Ну, сын, теперь мы снова станем сильными. Не выплевывай, мой князек! Царь моего сердца, не выплевывай, и к утру станем сильными людьми, борцами, умеющими управляться с дубинами.
Он пошел дальше, напевая и бормоча что-то. Лама обернулся к Киму, и вся старческая, полная любви душа отразилась в его узких глазах.
– Вылечить больного считается большой заслугой, но сначала надо приобрести знания. Это было сделано умно, о Всеобщий Друг.
– Я стал умным, благодаря тебе, Служитель Божий, – сказал Ким, и, забывая только что сыгранную комедию, забывая школу св. Ксаверия, забывая свою белую кровь, забывая даже Большую Игру, он наклонился, по магометанскому обычаю, в пыли храма, чтобы дотронуться до ног своего учителя. – Моими знаниями я обязан тебе. В течение трех лет я ел твой хлеб. Время моего ученья окончено. Я освобожден от всяких школ. Я прихожу к тебе.
– В этом моя награда. Войди! Войди! Все ли хорошо? – Они вошли во внутренний двор, на который падали золотые лучи вечернего солнца. – Встань так, чтобы я мог видеть тебя. Так! – Он оглядел Кима критическим взором. – Это уже более не ребенок, а взрослый, зрелый по уму, врач по виду. Я хорошо сделал, я хорошо сделал, когда отдал тебя вооруженным людям в ту темную ночь. Помнишь ли ты наш первый день под Зам-Заммахом?
– Да, – сказал Ким. – Помнишь, как я выскочил из экипажа в первый день, когда отправился…
– К «Вратам знания»? Помню! А тот день, когда мы ели пирожки за рекой у Нуклао? Много дней ты просил милостыню за меня, а в тот день я просил за тебя.
– Была основательная причина, – заметил Ким. – Я был тогда учеником во «Вратах знания» и одет сахибом. Не забывай, святой человек, – шутливо продолжал он, – я все еще сахиб, по твоей милости.
– Да. И очень почтенный сахиб. Пойдем в мою келью, чела.
– Откуда ты это знаешь?
Лама улыбнулся.
– Во-первых, через доброго священнослужителя, которого мы встретили в лагере вооруженных людей. Теперь он уехал в свою страну, и я посылал деньги его брату. (Полковник Крейтон, ставший попечителем Кима после того, как отец Виктор уехал в Англию со своим полком, вряд ли был братом священника.) Но я недостаточно хорошо понимаю письма сахиба. Их нужно переводить для меня. Я избрал более верный способ. Много раз, когда я возвращался после моих исканий в этот храм, всегда бывший гнездом для меня, сюда приходил один человек, который искал просветления. Он говорил, что был индусом, но все эти боги надоели ему. – Лама указал в сторону архатов.
– Толстый человек? – спросил Ким, прищурив глаза.
– Очень толстый. Вскоре я заметил, что его ум занят только пустяками – дьяволами и чарами, тем, как происходит чаепитие в монастырях и каким образом мы посвящаем новичков. Это человек с бесконечными вопросами, но он был твой друг, чела. Он сказал мне, что ты на пути к большим почестям в должности писца. А я вижу, что ты врач.
– Да, я – писец, когда бываю сахибом, но это остается в стороне, когда я прихожу к тебе, твоим учеником. Я закончил годы, предназначенные для ученья сахиба.
– Ты был вроде послушника? – сказал лама, утвердительно покачивая головой. – Ты освобожден от ученья? Я не хотел бы, чтобы ты вышел незрелым.
– Я совершенно свободен. В назначенное время я поступлю на государственную службу писцом.
– Не воином. Это хорошо.
– Но сначала я пришел побродить с тобой. Поэтому я здесь. Кто просит вместо тебя? – быстро продолжал он, желая прекратить расспросы о себе.
– Очень часто я прошу сам, но, как ты знаешь, я редко бываю здесь, только тогда, когда прихожу посмотреть на моего ученика. Я прошел пешком и проехал по железной дороге весь Индостан с одного конца до другого. Великая, удивительная страна! Но, когда я останавливаюсь здесь, я чувствую себя, как в своем Бод-Юле.
Он оглянул с довольным видом свою маленькую чистую келью. Сиденьем ему служила низкая подушка, на которой он расположился, скрестив ноги, в позе Будды, погруженного в размышления. Перед ним стоял стол из черного тика, менее двадцати дюймов в вышину, уставленный медными чайными чашками. В углу стоял крошечный алтарь, также из резного тика, с медным изображением Будды; перед ним была лампада, жертвенник и пара медных цветочных горшков.
– Хранитель изображений в Доме Чудес получит награду за то, что дал их мне год тому назад, – сказал он, заметив взгляд Кима. – Когда живешь далеко от родной земли, такие предметы служат воспоминанием. И мы должны благоговеть перед Господом за то, что Он указал нам Путь! Смотри! – он показал на странно сложенную кучу раскрашенного риса, увенчанную металлическим украшением. – Когда я был настоятелем монастыря у себя на родине, прежде чем достиг высшего познания, я каждый день приносил жертву. Это – жертва Вселенной Господу. Таким образом в Тибете каждый день весь мир приносил жертву Высшему Закону. И я делаю это и теперь, хотя знаю, что Всесовершенный выше всяких славословий и укоров. – Он понюхал табаку.
– Это хорошо, Служитель Божий, – пробормотал Ким. Счастливый и несколько усталый, он с удовольствием опустился на подушки.
– Еще, – улыбаясь, сказал старик, – я пишу картины «Колеса Жизни». Три дня на одну картину. Я был занят этим, а может быть, закрыл ненадолго глаза, когда ко мне пришли сказать о тебе. Хорошо, что ты здесь: я покажу тебе мое искусство не из гордости, а чтобы ты научился ему. Не вся мудрость мира у сахибов.
Он вынул из-под стола лист желтой китайской бумаги со странным запахом, кисти и плитки красок. Чистыми, строгими линиями он начертал Великое Колесо с его шестью спицами, в центре которых соединяются Свиньи, Змеи и Голубь (Невежество, Гнев и Похоть), а в сегментах были изображены небеса и ад и различные жизненные явления. Рассказывают, что сам Бодисатва впервые написал эту картину из зернышек риса и пыли, чтобы научить Своих учеников Причинам вещей. В течение многих веков картина эта выкристаллизировалась в удивительно условное, наполненное сотнями фигурок изображение, каждая линия которого представляет собой символ. Мало кто умеет объяснить содержание картины; во всем свете нет и двадцати человек, которые сумели бы верно, не копируя, написать ее, а умеющих нарисовать и растолковать только трое.
– Я немного учился рисовать, – сказал Ким. – Но это – чудо из чудес.
– Я писал такие картины в течение многих лет, – сказал лама. – Было время, когда я мог написать всю от часа одного зажигания лампады до другого. Я научу тебя этому искусству после долгой подготовки, и я объясню тебе также значение Колеса.
– Значит, мы пойдем на Большую дорогу?
– Пойдем на дорогу и возобновим наши искания. Я только поджидал тебя. Мне стало ясно из множества сновидений, особенно того, что я видел в ту ночь, когда «Врата знания» закрылись за тобой, что без тебя мне никогда не найти моей Реки. Как ты знаешь, я постоянно отгонял эти мысли, боясь иллюзий. Поэтому я и не хотел взять тебя с собой в тот день в Лукнове, когда мы ели пирожки. Я не хотел тебя брать, пока не настанет благоприятное время. От гор до моря и от моря до гор я ходил, но напрасно. Тогда я вспомнил Джатаку.
Он рассказал Киму историю слона с цепью на ноге в тех же словах, как часто рассказывал ее джайнским жрецам.
– Дальнейших доказательств не требуется, – спокойно сказал он. – Ты был послан мне в помощь. Без этой помощи мои поиски сводились ни к чему. Поэтому мы пойдем вместе, и поиски наши, наверно, увенчаются успехом.
– Куда мы пойдем?
– Не все ли равно, Всеобщий Друг? Говорю тебе, мы, наверно, найдем. Если нужно будет, Река пробьется из земли перед нами. Мне зачтется в заслугу, что послал тебя ко «Вратам знания» и дал тебе сокровище, имя которому Мудрость. Ты вернулся, как я сейчас видел, последователем Сакья-Муни. Врача, которому воздвигнуто много алтарей в Бод-Юле. Этого достаточно. Мы вместе, и все по-прежнему – Всеобщий Друг – Друг Звезд, мой чела!
Потом они заговорили о светских вопросах, но замечательно, что лама ничего не расспрашивал о жизни в школе св. Ксаверия и не проявил ни малейшего желания узнать образ жизни и обычаи сахибов. Мысли его все были в прошлом, и он переживал каждый шаг их первого чудесного путешествия, потирая руки и улыбаясь, пока, свернувшись, не уснул внезапным сном старости.
Ким наблюдал, как последние тусклые лучи солнца исчезали со двора, перебирал свои четки и любовался кинжалом. Шум Бенареса, старейшего из городов земли, бодрствующего перед Господом и днем и ночью, ударялся о стены, словно волны о берег. Временами по двору проходил джайнский жрец с каким-нибудь небольшим жертвоприношением изображениям божеств и заметал перед собой дорожку, чтобы случайно не лишить жизни какое-нибудь живое существо. Мерцала лампада, и раздавались звуки молитвы. Ким смотрел на звезды, подымавшиеся одна за другой в тихой, всеобъемлющей тьме, пока не заснул у подножия алтаря. В эту ночь во сне он думал по-индостански, ни одно английское слово не пришло ему на ум…
– Служитель Божий, а ребенок, которому мы дали лекарство? – сказал он около трех часов утра, когда лама, проснувшись, хотел отправиться в паломничество. – Джат придет на рассвете.
– Я заслужил этот ответ. Я причинил бы вред своей поспешностью. – Он сел на подушки и начал перебирать четки. – Действительно, старые люди что дети! – патетически проговорил он. – Им хочется чего-нибудь и непременно сейчас же, а то они сердятся и плачут. Много раз, когда я бывал в пути, я готов был топать ногами от нетерпения при виде повозки, запряженной волами, которая преграждала мне путь, или простого облака пыли. Этого не бывало прежде, когда я был в расцвете лет… много лет прошло с тех пор!.. Но все же это нехорошо.
– Но ведь ты действительно стар, Служитель Божий.
– Так всегда бывает. Первопричина всему в мире причина, старые и молодые, больные и здоровые, знающие и невежественные – кто может сдержать действие этой Причины? Разве Колесо останется неподвижным, если его вертит ребенок или пьяница? Чела, наш мир – это великий и страшный мир.
– Я считаю его хорошим, – зевая, проговорил Ким. – Есть что-нибудь поесть? Я не ел со вчерашнего вечера.
– Я забыл об этом. Вон там хороший ботьяльский чай и холодный рис.
– С такой едой мы недалеко уйдем. – Ким ощущал потребность в мясе, свойственную европейцам и не удовлетворенную в джайнском храме. Но вместо того, чтобы сразу пойти с нищенской чашей, он набивал себе желудок холодным рисом до зари, когда явился фермер. Он говорил много, задыхаясь от благодарности.
– Ночью лихорадка спала и проступила испарина! – кричал он. – Попробуй тут, кожа у него свежая и новая! Ему понравились соленые лепешки, а молоко он пил с жадностью. – Он скинул покрывало с лица ребенка, и тот сонно улыбнулся Киму. Маленькая кучка жрецов, безмолвная, но внимательно наблюдавшая за всеми, собралась у дверей храма. Они знали, и Ким знал, что они знали, как старый лама встретил своего ученика. Как вежливые люди, они не навязывались накануне ни своим присутствием, ни словами, ни жестами. Ким отплатил им за это, когда взошло солнце.
– Возблагодари джайнских богов, брат мой, – сказал он, не зная имен этих богов. – Лихорадка действительно спала.
– Взгляните! Посмотрите! – с сияющим видом говорил стоявший позади лама хозяевам, у которых находил приют в течение трех лет. – Был ли когда-нибудь на свете другой такой чела? Он последователь нашего Господа-Исцелителя.