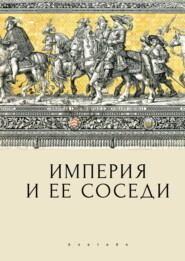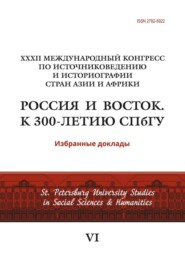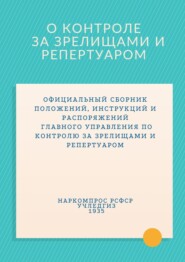По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования
Автор
Жанр
Год написания книги
2010
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Информант: Нет. Это неправильно, потому что… Тем более что вот ну гордиться тоже «Костер» должен – вот какой. И тем более, что, я им когда это рассказал, они говорят: «А вы знаете, мы об этом не знали.
У нас не сохранились блокадные архивы. У нас у самих нету этих номеров». Я говорю: «Ну так тем более. Вы же можете гордиться тем, что „Костер“ тогда делал». Это все равно, что вот театр Музкомедии… Когда был его юбилей, встал вопрос: «Каким орденом его наградить?» Им, значит, предложили на выбор: или орденом… Вот затрудняюсь, уже не помню… Или орденом «Отечественной войны», кажется, или орденом «Трудового Красного знамени». И вот, вы знаете, молодые артисты оказались горластее и сказали: «Зачем нам «Отечественной войны»? Пусть будет лучше «Трудового Красного знамени». Ну а сейчас вообще у них никакого ордена нет[48 - 1 октября 1979 года Ленинградский государственный театр Музыкальной комедии Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени.]… Нет даже на этом самом… На фронтоне никакого ордена нет. А то, какую роль сыграл театр, конечно, он заслуживал орден «Отечественной войны».
Интервьюер: Спасибо вам большое. Очень интересно. Очень жаль, что мы не сможем с вами еще встретиться. (Конец записи.)
Интервью с Ириной Григорьевной
Интервьюер: Давайте, может быть, начнем вот с начала, еще с предвоенного времени. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей семье, как вы жили перед войной…
Информант: Перед войной мама с моим отцом разбежались, еще когда я[49 - Информантка родилась в 1925 году, находилась в Ленинграде все время блокады, работала в госпитале. Имеет высшее филологическое образование. Интервью проходило в квартире информантки в январе 2003 года. Общая продолжительность аудиозаписи интервью – 78 минут. Интервьюировала В. Календарова. Архив Центра устной истории ЕУ СПб. Интервью № 0102004. Имя и отчество информантки изменены.] совсем маленькая была. Поэтому мы жили здесь, в Ленинграде, с дедушкой, с бабушкой и мама. Мама работала во Всесоюзном институте растениеводства, летом она уезжала на всякие сортоучастки и меня, девчонку, начиная с пяти лет вот, каждый год брала с собой. Поэтому я поездила очень хорошо еще в детстве. Ну потом была школа, потом… у меня очень дедушка был хороший, очень хороший, и бабушка тоже, дедушка… то есть была семья. Вот сейчас очень как-то знаете, у нас семьи распадаются, дети стараются жить отдельно и все это, а это была, в общем, семья. Если в шесть часов дедушка приходил с работы, все дома садились за стол. В шесть часов ставили самовар. (Улыбается.) Вот. Потом была школа. Очень хорошо, дружные мы были, потом началась война. Финскую войну я помню, никогда не забуду, была очень тоже холодная зима, и объявлено было, что не будет занятий, потому что морозы, и всех нас отпустили, мы на радостях весь день бегали по улице, несмотря на мороз. (Смеется.) Занятий нет, мы веселились. Ну, когда началась война, вот наш класс, который выше нас, значит, мы в девятый перешли, когда началась война, а они в десятый класс, он весь ушел в ополчение. И ни один человек не вернулся. Всех мы их знали, в общем, никого их не стало. У нас здесь… Ну что мы… мы в школу собирались все время, что-нибудь если надо, чего не надо, и потом через райком комсомола нам всякие задания давали. Началось с того, что нас отправляли на всякие земляные работы. Мы рыли танковые рвы под Ораниенбаумом. И один был очень такой даже немножечко комичный – рассказать? – случай.
Интервьюер: Угу.
Информант: Тихо было. Как-то ни самолетов, ничего не было, и вдруг в один прекрасный день прилетает немецкий самолет. Видимо, разведчик. Низко так летит, видно, свастика видна, человека видно, там сидит. Мы, конечно, из этой ямы все наверх, кто ему кулаком грозит, кто фигу показывает, значит, все это, реагируем. И вдруг из этого, из… лесок такой небольшой стоял, оттуда, там как раз часть была, та, военная, для которой мы окопы-то и рыли, бежит офицер, расстегивает этот, кобуру, вытаскивает этот револьвер, кроет нас шестиэтажными всякими словами (смеется), грозит этим самым: щас же, говорит, вниз, трах-тибедох! Мы, конечно, все вниз попрыгали, с удивлением на него смотрим: что такое, почему вы нас так ругаете? Вы, говорит, такие-сякие, опять нас покрывает как следует. Неужели вы не соображаете, говорит. А если бы он вас полоснул, говорит, из автомата, вы бы, говорит, все бы, говорит, здесь лежали! А мы бы все в трибунал, говорит, пошли бы. Вот такой случай был у нас. (Смеется.) Вот. Ну потом началась здесь блокада, когда тоже вот на крышах сидели эти самые, зажигалки ловили. В общем, дружный у нас был такой класс, дружный. Мы и сейчас – правда, мало нас очень осталось, – но двадцать седьмого числа мы всегда собирались. Вот день снятия блокады, мы всегда собирались. И приезжали: кто в Москве – из Москвы приезжал, вот в Эстонию одна у нас попала, в Силамяэ она работала, – оттуда она приезжала, из… Кто в Америку уехал – звонили нам всегда. Ну в последние годы уже ни из Москвы, ни из Эстонии, уже никто не приезжал уже. Уже тяжело. И в этом году срывается наш сбор, потому что два человека больны: ну просто в такой холодрыге они, у одной не топится квартира – она заболела, а вторая, на улице что-то где-то такое долго ходила, она простудилась. Ну вот, мы… осталось… было нас много, а осталось нас всего пять человек. Вот из нашего класса, вот из нашей такой компании. Вот так.
Интервьюер: А школа это какая, в каком районе была?
Информант: Это Петроградский район. Я вообще из Петроградского района, жила на улице Красного курсанта, наш дом разбомбили, и нас переселили в другую квартиру, тут же, угол Красного курсанта и Большого проспекта. Вы Петроградскую представляете, знаете, нет?
Интервьюер: Да, я сама там выросла.
Информант: О! Эту… пожарную часть знаете там?
Интервьюер: Угу, да, да.
Информант: Это самое, угол Съезжинской и этой, вот против этой пожарной части как раз вот была наша комната, мы уже в коммунальной квартире, там-то у нас была отдельная, в том доме, который разбомбили, а здесь была коммунальная квартира. Здесь вот мы как раз, вот здесь жили. Ну вот. А потом сначала я несколько месяцев работала на заводе, но завод встал, уже там ничего не было, я, значит, оттуда ушла, в школу вернулась, вроде занятия у нас начались. Но потом они, конечно, кончились, и мама моя, она агроном, но и вот до войны она работала в немецком колхозе, который располагался между Малой Охтой и Володарским мостом, вот это все было, это был колхоз. Сейчас там все застроено, там уже, значит, эти новые дома и прочее.
Интервьюер: А почему немецкий?
Информант: Немецкий, там вот был еще при Екатерине… Они там…
Интервьюер: А, там была немецкая колония?
Информант: Да, да, да, там был немецкий колхоз, причем очень хороший колхоз, замечательный, просто прямо прелесть, и их, значит, им предложили уехать, конечно, отсюда, и последними эшелонами они, значит, уезжали. Но им поставили условие, что ничего из съедобного они с собой не берут. Ни семян, ничего. Там вам все дадут, все должно остаться здесь. И это вот нас с мамой спасло, у нас был мешок овса. Ни какой-то там крупы, а овса, и вот мы этот овес (не знаю, наверное, вам не приходилось видеть кофейные мельницы, такие вот большие, вот деревянные вот такие, вот так вот они крутились), и вот мы на этой мельнице, этот самый, его не чистили, ничего, просто вот так вот терли и потом из них лепешки делали и на буржуйке вот на крае, не на сковородке, а по краям вот эти самые, пекли эти лепешки. Так что вот это было наше подспорье в блокаду. Это нас всех, и меня, и маму, и вот эту Лидочку-врача, с которой мы сдружились, вот нас всех это выручило. Нас выручило, и потом, этот, Кировский, в районе там же бомбило же очень, и оттуда же переселяли, и нам в квартиру вселили женщину с двумя детьми. Три года мальчонка был, и девчушечка еще, совсем маленькая грудная девчушечка. И вот этого мальчонку тоже, я вот начинаю печь эти штучки, он придет в комнату, смотрит. «Пёти, пёти» – лепешку так называет, и вот я ему эти лепешки, лепешки и этого мальчоночку тоже подкармливала. Просто я прямо не могла, все тут сжималось… Ну вот. Потом, я не знаю, как мама попала в этот госпиталь, вернее, знала, но я уже сейчас много чего забыла и все это, и меня потом туда перетащила. Так как там медицинского персонала никакого не было, я там была медсестрой. Значит, вот в семнадцать-восемнадцать лет я там отработала медсестрой. Все это на ходу, все… Ну тяжелое, конечно… Понимаете ли, конечно, страшное было время и страшно тяжелое было время. Много было ужасов, всего. Все это, все это правда. Все это было… Но понимаете ли, это была наша юность. Понимаете, семнадцать-восемнадцать лет. Если о своей юности нечего вспомнить такого, хорошего для души, то я считаю, значит, этой юности не было. Так не бывает. И потом, кроме страха, и ужаса, и жестокости, была еще и доброта. Доброта и человеческое отношение друг к другу. Это тоже было. И если кто-то говорит, что этого не было, это неправда. Было это. И когда вот иногда говорят, что вот люди падали и, мол, никто к ним не подходил, – понимаете, не подходили никто не потому, что вот человек упал и никто не хотел ему помочь. А вот я иду, человек упал, и я понимаю, что если я начну этого человека подымать, то я тоже упаду и тоже не встану. И я уйду и этому человеку не помогу. Очень часто именно так объяснялось. Понимаете ли, было, и добро было, и человеческое отношение друг к другу было. Все это было. Понимаете, все это было. Так что нельзя только одни кошмары вспоминать. Так вообще жить нельзя, если вспоминать только ужасы, понимаете ли. А госпиталь наш располагался на Каменном острове. Вот там, где были вот эти, дома отдыха. Причем вот эти сейчас элитные дома, где сейчас встречают всяких гостей и все это (усмехается), вот там люди умирали в этих домах. Та же десятка, та же двойка, вот так они тогда назывались. Как они сейчас, я не знаю, называются…
Интервьюер: Это номера домов? Десятка, двойка…
Информант: Это номера павильонов, понимаете, этих номера. Там же эти, были санатории и дома отдыха, и вот номера этих домов отдыха, двойка там, десятка, самые шикарные вот эти два дома, которые сейчас правительственные, там сейчас гостей принимают. Когда все вот иногда там показывают и по телевизору, как туда везут и все это, там и этих, и всяких высоких гостей принимают, когда в Ленинград приходят. А тогда там это был наш вот госпиталь. Понимаете ли (пауза, вздыхает) умирали, умирали люди. Мы их возили на Серафимовское кладбище. Там, на Пискаревское, вы знаете этот мемориал, вот точно такой же есть на Серафимовском, только поменьше он. Если, может быть, приходилось вам бывать на Серафимовском кладбище…
Интервьюер: Угу.
Информант: Вы видели, ну вот, и вот туда свозили. И там в общей могиле просто вот хоронили. По бокам там имена. Понимаете ли. И зачастую просто вот к нам, к госпиталю вот просто привозили вот трупы – ночью привезут, оставят и убегают. Потому что никуда везти уже сил нету – привозили к нам. А как-то вот, я никогда этого не забуду, на грузовике привезли ребят, ремесленников из ремесленного училищ. Значит, их собирали по городу. Такой, крытый…
Интервьюер: Угу.
Информант: Грузовик. Часть, значит, вот мы перетащили в свой павильон, часть уже мертвые были в этом грузовике, а часть разбежалась. Вот те, кого мы принесли, – кто они, откуда они, мы знали. А они друг друга не знали, их с разных мест собирали – кто убежал, кто умер – так неясно и осталось.
Интервьюер: Угу. А почему они убежали?
Информант: Ну не хотели в госпитале, силы еще у них были, понимаете ли, не хотели они. Считали, что в больницу вместе с умирающими – так это и сам помрешь. Не верили, что там как-то могут поддержать. А там ведь, понимаете, там, конечно, дополнительного, никакой еды не было. Но что вот было и что людей поддерживало – ведь как выкупали хлеб на карточках – покупали, получали карточки и сразу на два дня покупали. И сразу съедали. Потом день вообще без еды и потом на день вперед, значит, эти сто двадцать пять грамм и сразу утром съел и все. А там, понимаете ли, не давали сразу утром все есть. Все-таки утром был горячий, ну чай – это так, относительно он назывался, но все-таки там одна чаиночка, допустим, плавала. Горячий чай с этим хлебом. Днем – ну тоже, может быть, нельзя назвать супом, но все-таки там, я не знаю, крупинка крупинку догоняла, но все-таки горячее с солью, вот эта крупинка плавала, и, наверное, какой-то листочек там плавал, понимаете. И то, что понимаете, вот человека, три раза в день он имел что-то горячее, и этот хлеб мы делили, мы не давали сразу 125 грамм, допустим, или потом, когда 250 стало, тоже сразу. Значит, часть утром дадим, часть днем дадим. На вечер не оставляли, это точно, потому что невозможно было, они смотрели на нас такими глазами, что сказать, что вечером дадим, это все… Днем давали вот что-то, что-то такое. Ну а летом мы свой огород там развели, капусту насадили, и, знаете, что интересно, уж я не знаю, я понятия не имею, откуда семена и эта капуста была в Ленинграде в тот год, но кочны не завязались нигде. Вот где бы эту капусту ни сажали, одна вот эта, хряпа она называлась, зеленые такие вот листья, большущие, правда, их много было. Но в кочан капуста нигде не завязалась в городе, где бы ее не сажали. И вот эту, значит, вот эту хряпу, так называемую, значит, рубили с солью, ну тоже, как зеленую, как эту, кислую капусту делали. Ну вот это тоже пошло. Потом там рядом воинская часть стояла, они иногда помогали. Но они старались, понимаете, подсунуть работникам. Там у нас одна девочка была тоже медсестрой, очень она, она все, что она тут получала иногда, она все старалась унести домой к матери. Понимаете. Я-то с мамой тут была, и больше никого не было. Поэтому все, что мы имели, то мы для себя и имели. А она вот… И вот они ей иногда подсовывали, понимаете. Так что я говорю, что добра тоже много было в то время. Тоже было много добра, нельзя сказать, что только было все это… Ну что я еще могу вспомнить – театр.
Интервьюер: Вы ходили в театр?
Информант: Ходили в театр. Представляете, с Каменного острова в Александринку[50 - После попадания бомбы в здание Ленинградского театра музыкальной комедии его спектакли с 25 декабря 1941 года шли на сцене Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (в 1832–1920 годах – Александринский театр; в настоящее время – Российский государственный театр драмы им. А. С. Пушкина – Александринский театр), труппа которого находилась в эвакуации.] мы ходили пешком. И ведь когда электростанции все были взяты, и не было света в городе, и как только их вернули и дали свет, ведь в первую очередь дали заводам, военным и все это, дали в Александринку, в театр. И вот мы ходили. И, вообще, представляете вот такую картину – вот сидит полный зал: в шубах, в меховых шапках, в валенках, в это самое, и все равно вот им холодно, а на сцену выходят Брилль и Колесникова[51 - Имеются в виду Е. Ф. Брилль и Л. А. Колесникова, актрисы Ленинградского театра музыкальной комедии в годы блокады.] в декольте, с голыми руками… Ну, вообще, представляете себе это? И вот они пели, вот все эти годы они пели. Так они уже после войны уже очень быстро сошли. Потому что все голоса, конечно, были сорваны, понимаете ли, абсолютно. Вот сейчас, между прочим, вчера вот это был, «Рио-Рита», по… по российской программе, они, значит, иногда ну старые… старых всяких вспоминают артистов, и вот он вспомнил про Музкомедию, которая в блокаду работала, но, правда, он назвал только Виноградову. Виноградова уже позже была, понимаете ли[52 - Зоя Акимовна Виноградова, народная артистка России (1978), действительно начала работать в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии уже после блокады, в 1949 году.]. А вот тех, кто были в блокаду, вот я даже не знаю, их судьбу я не знаю. Вот, например, кордебалет когда выходил, значит, танцевал, а там вдоль сцены были поставлены такие, деревянные палки были сделаны, они танцевали, потом шли к этим палкам и стояли, держась за них, потому что, видимо, так вот, ну стоять в позе, как вот обычно кордебалет стоит, оттанцевав свои номера, и он принимает какую-то позу красивую и стоит, они не могли. Они стояли уже, держась вот за эти палки. Нет, это… это великое дело. Это наша Музкомедия это… И вот мы… с Каменного острова мы тащились туда. Вот. А во вторую зиму, когда уже все-таки так было и вот это вот, представляете себе, вот, значит, мы протопим эту буржуйку и эту самую хряпу перемешаем с постным маслом, с солью, суем в эту горячую буржуйку и уходим в театр. И вот сидим в театре, что-нибудь смотрим-смотрим, потом вдруг кто-нибудь из нас вспоминает: «Ой, а у нас же там хряпа теплая стоит!» (Смеется.) «Придем, кушать будем!»
Интервьюер: А это вы в госпиталь возвращались то есть?
Информант: Да, да.
Интервьюер: То есть вы там ночевали, да? Домой вы не ходили?
Информант: Да-да-да, это было казарменное положение, это уже третий год – уже все, она уже кончилась, мы уже домой ходили. Это уже был, был уже не госпиталь. Там уже не дистрофики были, там уже просто был дом отдыха, там ремесленников направляли отдыхать, просто людей из производства, там отдыхали. Тоже было… это уже было совсем другое. А это вот, тяжеленные вот эти две зимы, конечно. И лето, это было жутко… Да… Вот, а вы знаете вот, что когда снята была блокада, не прорвана, а снята, вот 27-го[53 - То есть 27 января 1944 года – день снятия блокады Ленинграда.] как раз мы были в театре. Уж я не помню, что там шло – «Сильва» или чего другое. И вот третий акт не начинается и не начинается. Все: «Что такое, в чем…» И вдруг выходит Янет[54 - Н. Я. Янет – художественный руководитель Ленинградского театра музыкальной комедии в годы блокады.], это, значит, он тогда руководил театром, и говорит, что только что сейчас по радио передали, что немцев отогнали, блокада снята. Ой, представляете, что было в зале – он взорвался! И вот он сказал, сейчас, говорит, будет салют, и, если вы хотите, вы можете выйти, посмотреть салют, потом вернетесь, и мы продолжим. Ну все, конечно, высыпали на улицу. Ой, это был салют, вы знаете, я такого больше не видела! (Смеется.) Правда, это неправда, но для меня это был самый лучший салют в моей жизни. Ну а потом вернулись, и уже артисты в тот вечер пели ну просто бесподобно! (Смеется.) Вот такие всякие вещи. Вот, а когда, еще до госпиталя, еще когда вот мы так в районе, вот мы приходили в райком с утра, и вот нам какие-нибудь там задания давали. Тогда, значит, детей отправляли в эвакуацию. Мы ходили по квартирам, составляли списки этих детей, на вокзал их отводили, на поезд их сажали, потом было несколько эшелонов, они через Тихвин шли, значит, они дошли до Тихвина, и немцы перекрыли дорогу и Тихвин. И вот надо было срочно этих ребятишек обратно возвращать, там машины брали, вот этих ребят мы привозили сюда, ночью – ну как, из школы же никуда с ними не пойдешь. И вот мы поймали несколько патрулей, которые ходили по городу, и уговорили их: «Вот помогите нам, давайте, ведь вы же можете ходить по городу, давайте разведем ребятишек по домам, чтобы их вернуть». Вот. Потом нас посылали по квартирам собирать ребят. Представляете, вот квартира холодная, ледяная, лежит мертвая женщина, и у нее в руках вот прижатое к себе, закутанное, еще живой ребенок. И вот надо было эти руки разжать, они же закоченели уже, вот этого ребенка вытащить, а он уже даже не плакал, так, какие-то писки издавал. И был пункт, куда мы этих ребят приносили, сдавали, там их кормили, обмывали и потом по Ладоге, значит, отправляли. Вот, видите сколько всего…
Интервьюер: А почему вот вы с мамой все-таки не уехали в эвакуацию. Вы говорили, что предлагали с колхозом?
Информант: Не хотели. Нет, нет, не хотели. Я даже не знаю, предлагали ли с колхозом ехать или не предлагали, этого я не знаю, а вот у меня дядя, он на авиационном заводе работал, он, значит, уезжал с женой. И вот он все время старался, чтоб мы с мамой уехали. Ну ни в какую, ну не хотели. Вы знаете что, ведь из Ленинграда иногда просто силком увозили. И, наконец, он все-таки нас вытащил к пристани, значит, по Ладоге еще по воде перевозили, значит, на ночь, с утра должны были поехать, а подошли совсем немцы, и из пригородов в город хлынул народ весь. Ну и было дано распоряжение в первую очередь увезти этих вот, которые из пригородов, те, которые в городе, хотя бы тут им есть где жить, а этих куда девать? Ну, и мы с мамой забрали свои шмотки и скорее-скорее домой убежали. (Смеется.) Дядюшка потом пришел, ругал нас… Ну не знаю, ну понимаете, во-первых, конечно, никто не представлял, что это будет. И потом, я вам честно скажу, что я ни разу не пожалела о том, что я не уехала. Но, правда, вот все благополучно кончилось, были я и мама, никого… Дедушка и бабушка, и уж потом мы говорили, какое счастье: они умерли за год до войны. Они не попали, они бы не пережили бы блокаду, понимаете. Но намучились бы ужасно, мучительной была бы смерть. А так нормально умерли, вот тут на Серафимовском тоже похоронены. Так что вот, не хотели, ну многие не хотели, не уезжали. Понимаете, что ведь и даже понимали, что надо как можно больше вывезти народу, потому что легче будет и кормить, и вообще все, но вот не хотели уезжать из родного города. (Смеется.) Не знаю, я ни разу, но, правда, вот я все-таки не умерла, я и не умирала, но не жалела, и то все, что я видела, все, что я пережила, и все, что мне пришлось здесь делать, и все это… все это я считала так и… раз надо – значит надо, тут никаких разговоров быть не могло. Вот. А эта вот врач, о котором я вам говорила, это вообще, как говорится, врач от бога был. Вот не каждый получивший, окончивший там медицинский институт и ставший врачом, вот может быть хорошим врачом, а Лидия Александровна вот эта, это была удивительная… Она вообще потом по сердцу, она кардиологом была, и там уже потом был этот санаторий, она там работала в санатории, я тоже с ней там же работала. И вы знаете что, я не знаю случая, чтобы Лидочка ошиблась в диагнозе. Вот привезут с каким-то диагнозом, ей совсем немного надо посмотреть человека: нет, это не то, вы, говорит, ошиблись, говорит врачу. Больной: ой-ой-ой, что такое, как это мог… Вот так. Начинают делать анализы, начинают осмотр, и действительно получается, она прямо, знаете, как-то вот на лету сразу. Это не каждому врачу дано, это, я говорю, врач от бога. Она и это имела, «заслуженный врач республики», или чего это было, вот это звание, все это. Медали мы все пополучали. А один наш друг, поэт, Андрюшка, он младше был, он даже, у него даже есть такое одно стихотворение:
Нам в сорок третьем выдал медали
И только в сорок пятом паспорта[55 - Информантка цитирует строки стихотворения Юрия Воронова (1929–1993) «В блокадных днях мы так и не узнали…» из книги стихов «Блокада» (1973).].
(Смеется.) Но его уже нет, к сожалению, в живых. А так, в общем, вот… Потом убирали город. Но там, правда, на Каменном острове особенных таких завалов не было… Все-таки как-то больше было порядка. Но вот дороги приводили в порядок. Мусору, все это вывозили, вывозили, убирали, и даже уже больные, которые уже могли ходить, они: и мы, говорят, тоже будем. Мы говорим: «Нет, нет, нет, уходите, это не ваше дело» «Как это не наше дело!» (Смеется.) – «Вы тут нас вытащили, мы должны вам помочь!» Вот, такая вот взаимосвязь, и все это. А я никогда не забуду одного паренька. Привезли его, он стоять не мог, его внесли. И он у нас несколько месяцев, вот мы его вытаскивали, выковыривали, буквально вот с того света. И потом, когда, значит, а он тоже ремесленник был, он даже не ленинградец, он приехал сюда учиться в ремесленное училище и вот попал. И когда он уходил, мы его нарядили, одели, одежки-то много всякой оставалось, все это перестирали, одели, и Виктор от нас ушел – ну просто ж я не знаю, принц какой-то. (Смеется.) Вот он так вот у меня перед глазами вот и стоит. А еще такой грустный случай у меня пред глазами. Привезли тоже… мать привела, причем внешне даже не такой уж он был, знаете, истощенный, и палаты все были забиты, положили его в коридоре. Но она ушла, я, говорит, завтра утром приду. Ну вечером тут накормили его, чего-то там, какой-то укол ему чего-то сделали или что, но он не дожил, он умер, все равно он ночью умер. Пришла, значит, мать – вот, нету его. Он так, говорит, и умер в коридоре? Я говорю: «Нет, нет, нет». Я уж неправду ей сказала, но надо было как-то, понимаете, чтоб матери легче было от нас уйти. Я говорю: «В палату положили, он в палате лежал, в палате умер». И отдали ей все вещи, ну вот, все это. Вот, всяко. А потом еще тоже, из интересных таких – кошка у нас там была. Мы эту кошку с собой забрали в этот госпиталь. Она, конечно, в кухне притулилась, потому что понимала, что ей там будет лучше. Но иногда она поднималась и ходила по палатам. Так вы знаете, когда кошка входила в палату, так даже самые вот, которые не двигаясь, поднимались и вот смотрели – кошка, живая кошка! В блокадном Ленинграде живая кошка! А она так гордо ходила, задрав голову, точно вот понимала, что вот на нее смотрят. Мне эта врач говорила: слушай, ты вот знаешь, что лучше всяких лекарств, вот ты, говорит, Дымку приноси, пусть она, говорит, ходит по палатам. Она лучше всех, говорит, вылечивает, говорит, наших дистрофиков. (Смеемся.) Вот такие всякие вещи были. Да…
Интервьюер: А День Победы помните?
Информант: День Победы… (пауза) День Победы я встретила в Гатчине. Мы как раз вот с этой врачом, с Лидочкой, – уже, значит, их обратно… Она эстонка по национальности, и когда… Ну, эстонцы тоже жили здесь со времен Екатерины.
Интервьюер: Угу.
Информант: И когда, значит, немцы пришли, то они всех эстонцев убрали в Эстонию. Они там тоже хватили лиха. Потому что они там, эстонского они никто не знал, ничего они не знали, не умели, одна только вот их… их было три сестры, и одна очень хорошо шила. Так вот она всех… они выползли только за счет того, что она шила. Ну потом их всех обратно вернули. И вот когда, значит, уже можно было ездить без пропусков, мы, значит, с Лидочкой поехали туда, познакомиться с ее сестрой, с ее матерью, с тетушками ее. И вот как раз День Победы мы были там. Вдруг, значит, к поселку мчатся дети и кричат: «Победа! Победа!» Мы, значит, все сорвались. Все пошли в клуб, там, значит, радио включено, там все эти выступления, все, гармошка, пляски, скачки, водку откуда-то, конечно, принесли, тут же все за победу выпили, понимаете ли… Ну на следующий день уже сюда вернулись. Ну это я уже не работала уже в госпитале. Я уже… А я… я тут… был такой период, когда я… Понимаете, был такой период, когда кончилась блокада, то стали возвращаться, и медсестры появились. И нас, медсестер без всяких этих, документов, значит, стали убирать, а этих они должны были брать. Мы говорим: «Да как же вам не стыдно, мы же тут всю блокаду работали, мы лучше их знаем, чего надо людям!» (Смеется.) Все, говорят, мы обязаны, значит, взять на работу. А я в вечерней школе. Я, значит, два последних класса, 43-й и 44-й год, я в вечерней школе училась. И уже готовилась поступать в университет, поэтому я уже не работала, в этот День Победы. Мы уже дома праздновали, мы жили в коммунальной квартире, тоже праздник такой устроили. У нас хорошая была коммунальная квартира, ничего не могу сказать. Весело все это там было. А потом я уже в университет поступала. Вот так.
Интервьюер: Это В 45-м году, да?
Информант: Это в 45-м году. Да.
Интервьюер: Уже после окончания войны…
Информант: Да, это в 45– году, уже когда университет вернулся.
Интервьюер: Угу.
Информант: Он в 44-м вернулся, в 44-м я кончала вечернюю школу[56 - Ленинградский государственный университет был эвакуирован в Саратов в марте 1942 года, где продолжал свою научную и учебную деятельность. В июне 1944 года]. Вот она, наша школы была, вот если тоже знаете, по Введенской туда к Каменноостровскому, значит, вот угловой дом. Потом такой, в общем, не знаю, был там дом или не был, но только, в общем, пустое место, и только наша школа стояла. Вот эта школа, ее я кончала. Так что вот. Ну что еще вам вспомнить… (Пауза.)
Интервьюер: Ну расскажите немножко, может быть, про послевоенную еще жизнь, как вот жилось после войны.
Информант: Тяжело, конечно, жилось, понимаете ли… Карточки, разрушено все… но, надо сказать, вот когда даже бомбили еще даже вот, в блокаду-то вот эти все вот, особенно вот в центре, разрушенные дома, они так не стояли, их не то что их ремонтировали, но их… как бы заплатки ставили, понимаете ли. Из фанеры, рисовали на них окна и все эти дыры вот закрывали. Так что вот если внешний вид, если сфотографировать, все вроде нормально, улица стоит. Ну потом началось, конечно, стали восстанавливать все. Университет вернулся, университет тоже, ну мы принимали участие просто в чистке университета. Потому что там тоже были госпиталя, и военные, и такие, и просто его надо было, в порядок его приводить. Ректор тогда был очень сильный, он, надо сказать, ему, он потом, когда было «ленинградское дело», он погорел во время этого, но это был очень умный, очень сильный человек, и очень энергичный, Даниил Вознесенский[57 - Имеется в виду, очевидно, Александр Алексеевич Вознесенский (1898–1950), ректор ЛГУ с июля 1941 года. С февраля 1948 года по июль 1949 года – министр просвещения РСФСР. Был арестован в ходе «Ленинградского дела» и расстрелян в 1950 году.]. Он очень много для университета сделал, огромное ему спасибо, конечно, за то, что он сделал для университета, чего он добился для университета. А мы, значит, вот наша группа, например, была – блокадники, вернувшиеся из армии, ну один, правда, был, Леня М<…>[58 - В интервью упомянута фамилия.], он был инвалид от рождения, у него что-то было с ногой, он ходил с костылем, все это, так что он не воевал, ничего, но он в блокаду здесь был. В блокаду здесь был и пережил блокаду. Вот. Вообще, было очень такое приподнятое настроение, и, надо сказать… не знаю… но мы молодые были. Понимаете ли, конечно, были и семьи, где люди погибли на фронте или на войне. Но вот у нас вот не было такого. Были я и мама, больше никого не было. Понимаете. Поэтому наша семья не разрушилась. Поэтому вот этого горя и несчастья у нас не было. А ведь не было же практически семьи, где бы кто-то не погиб, либо на фронте, либо в блокаду. Конечно, это ужасно и страшно. Но они поднимались. Понимаете, жизнь ведь берет в любое время. Она берет свое. Надо было работать, надо было учиться, надо было восстанавливать город. Вот это все как-то вот и вовлекало людей, отвлекало от всяких отчаянных мыслей, и от ужасов, и от всяких-всяких таких вещей. Конечно.
Интервьюер: Но вы вспоминали блокаду вот в вашей группе, вот когда в университете учились?
Информант: Вы знаете что, честно вам скажу, не очень. Как-то вот прошло и прошло. Ведь и даже потом же уже появлялись люди, которые в город после блокады приехали. Они как-то, я даже не скажу, что они очень как-то так интересовались или расспрашивали. И мы тоже. Вы знаете, что, видимо, это была какая-то вот такая, ну форма защиты, что ли вот. Понимаете ли.
У нас не сохранились блокадные архивы. У нас у самих нету этих номеров». Я говорю: «Ну так тем более. Вы же можете гордиться тем, что „Костер“ тогда делал». Это все равно, что вот театр Музкомедии… Когда был его юбилей, встал вопрос: «Каким орденом его наградить?» Им, значит, предложили на выбор: или орденом… Вот затрудняюсь, уже не помню… Или орденом «Отечественной войны», кажется, или орденом «Трудового Красного знамени». И вот, вы знаете, молодые артисты оказались горластее и сказали: «Зачем нам «Отечественной войны»? Пусть будет лучше «Трудового Красного знамени». Ну а сейчас вообще у них никакого ордена нет[48 - 1 октября 1979 года Ленинградский государственный театр Музыкальной комедии Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени.]… Нет даже на этом самом… На фронтоне никакого ордена нет. А то, какую роль сыграл театр, конечно, он заслуживал орден «Отечественной войны».
Интервьюер: Спасибо вам большое. Очень интересно. Очень жаль, что мы не сможем с вами еще встретиться. (Конец записи.)
Интервью с Ириной Григорьевной
Интервьюер: Давайте, может быть, начнем вот с начала, еще с предвоенного времени. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей семье, как вы жили перед войной…
Информант: Перед войной мама с моим отцом разбежались, еще когда я[49 - Информантка родилась в 1925 году, находилась в Ленинграде все время блокады, работала в госпитале. Имеет высшее филологическое образование. Интервью проходило в квартире информантки в январе 2003 года. Общая продолжительность аудиозаписи интервью – 78 минут. Интервьюировала В. Календарова. Архив Центра устной истории ЕУ СПб. Интервью № 0102004. Имя и отчество информантки изменены.] совсем маленькая была. Поэтому мы жили здесь, в Ленинграде, с дедушкой, с бабушкой и мама. Мама работала во Всесоюзном институте растениеводства, летом она уезжала на всякие сортоучастки и меня, девчонку, начиная с пяти лет вот, каждый год брала с собой. Поэтому я поездила очень хорошо еще в детстве. Ну потом была школа, потом… у меня очень дедушка был хороший, очень хороший, и бабушка тоже, дедушка… то есть была семья. Вот сейчас очень как-то знаете, у нас семьи распадаются, дети стараются жить отдельно и все это, а это была, в общем, семья. Если в шесть часов дедушка приходил с работы, все дома садились за стол. В шесть часов ставили самовар. (Улыбается.) Вот. Потом была школа. Очень хорошо, дружные мы были, потом началась война. Финскую войну я помню, никогда не забуду, была очень тоже холодная зима, и объявлено было, что не будет занятий, потому что морозы, и всех нас отпустили, мы на радостях весь день бегали по улице, несмотря на мороз. (Смеется.) Занятий нет, мы веселились. Ну, когда началась война, вот наш класс, который выше нас, значит, мы в девятый перешли, когда началась война, а они в десятый класс, он весь ушел в ополчение. И ни один человек не вернулся. Всех мы их знали, в общем, никого их не стало. У нас здесь… Ну что мы… мы в школу собирались все время, что-нибудь если надо, чего не надо, и потом через райком комсомола нам всякие задания давали. Началось с того, что нас отправляли на всякие земляные работы. Мы рыли танковые рвы под Ораниенбаумом. И один был очень такой даже немножечко комичный – рассказать? – случай.
Интервьюер: Угу.
Информант: Тихо было. Как-то ни самолетов, ничего не было, и вдруг в один прекрасный день прилетает немецкий самолет. Видимо, разведчик. Низко так летит, видно, свастика видна, человека видно, там сидит. Мы, конечно, из этой ямы все наверх, кто ему кулаком грозит, кто фигу показывает, значит, все это, реагируем. И вдруг из этого, из… лесок такой небольшой стоял, оттуда, там как раз часть была, та, военная, для которой мы окопы-то и рыли, бежит офицер, расстегивает этот, кобуру, вытаскивает этот револьвер, кроет нас шестиэтажными всякими словами (смеется), грозит этим самым: щас же, говорит, вниз, трах-тибедох! Мы, конечно, все вниз попрыгали, с удивлением на него смотрим: что такое, почему вы нас так ругаете? Вы, говорит, такие-сякие, опять нас покрывает как следует. Неужели вы не соображаете, говорит. А если бы он вас полоснул, говорит, из автомата, вы бы, говорит, все бы, говорит, здесь лежали! А мы бы все в трибунал, говорит, пошли бы. Вот такой случай был у нас. (Смеется.) Вот. Ну потом началась здесь блокада, когда тоже вот на крышах сидели эти самые, зажигалки ловили. В общем, дружный у нас был такой класс, дружный. Мы и сейчас – правда, мало нас очень осталось, – но двадцать седьмого числа мы всегда собирались. Вот день снятия блокады, мы всегда собирались. И приезжали: кто в Москве – из Москвы приезжал, вот в Эстонию одна у нас попала, в Силамяэ она работала, – оттуда она приезжала, из… Кто в Америку уехал – звонили нам всегда. Ну в последние годы уже ни из Москвы, ни из Эстонии, уже никто не приезжал уже. Уже тяжело. И в этом году срывается наш сбор, потому что два человека больны: ну просто в такой холодрыге они, у одной не топится квартира – она заболела, а вторая, на улице что-то где-то такое долго ходила, она простудилась. Ну вот, мы… осталось… было нас много, а осталось нас всего пять человек. Вот из нашего класса, вот из нашей такой компании. Вот так.
Интервьюер: А школа это какая, в каком районе была?
Информант: Это Петроградский район. Я вообще из Петроградского района, жила на улице Красного курсанта, наш дом разбомбили, и нас переселили в другую квартиру, тут же, угол Красного курсанта и Большого проспекта. Вы Петроградскую представляете, знаете, нет?
Интервьюер: Да, я сама там выросла.
Информант: О! Эту… пожарную часть знаете там?
Интервьюер: Угу, да, да.
Информант: Это самое, угол Съезжинской и этой, вот против этой пожарной части как раз вот была наша комната, мы уже в коммунальной квартире, там-то у нас была отдельная, в том доме, который разбомбили, а здесь была коммунальная квартира. Здесь вот мы как раз, вот здесь жили. Ну вот. А потом сначала я несколько месяцев работала на заводе, но завод встал, уже там ничего не было, я, значит, оттуда ушла, в школу вернулась, вроде занятия у нас начались. Но потом они, конечно, кончились, и мама моя, она агроном, но и вот до войны она работала в немецком колхозе, который располагался между Малой Охтой и Володарским мостом, вот это все было, это был колхоз. Сейчас там все застроено, там уже, значит, эти новые дома и прочее.
Интервьюер: А почему немецкий?
Информант: Немецкий, там вот был еще при Екатерине… Они там…
Интервьюер: А, там была немецкая колония?
Информант: Да, да, да, там был немецкий колхоз, причем очень хороший колхоз, замечательный, просто прямо прелесть, и их, значит, им предложили уехать, конечно, отсюда, и последними эшелонами они, значит, уезжали. Но им поставили условие, что ничего из съедобного они с собой не берут. Ни семян, ничего. Там вам все дадут, все должно остаться здесь. И это вот нас с мамой спасло, у нас был мешок овса. Ни какой-то там крупы, а овса, и вот мы этот овес (не знаю, наверное, вам не приходилось видеть кофейные мельницы, такие вот большие, вот деревянные вот такие, вот так вот они крутились), и вот мы на этой мельнице, этот самый, его не чистили, ничего, просто вот так вот терли и потом из них лепешки делали и на буржуйке вот на крае, не на сковородке, а по краям вот эти самые, пекли эти лепешки. Так что вот это было наше подспорье в блокаду. Это нас всех, и меня, и маму, и вот эту Лидочку-врача, с которой мы сдружились, вот нас всех это выручило. Нас выручило, и потом, этот, Кировский, в районе там же бомбило же очень, и оттуда же переселяли, и нам в квартиру вселили женщину с двумя детьми. Три года мальчонка был, и девчушечка еще, совсем маленькая грудная девчушечка. И вот этого мальчонку тоже, я вот начинаю печь эти штучки, он придет в комнату, смотрит. «Пёти, пёти» – лепешку так называет, и вот я ему эти лепешки, лепешки и этого мальчоночку тоже подкармливала. Просто я прямо не могла, все тут сжималось… Ну вот. Потом, я не знаю, как мама попала в этот госпиталь, вернее, знала, но я уже сейчас много чего забыла и все это, и меня потом туда перетащила. Так как там медицинского персонала никакого не было, я там была медсестрой. Значит, вот в семнадцать-восемнадцать лет я там отработала медсестрой. Все это на ходу, все… Ну тяжелое, конечно… Понимаете ли, конечно, страшное было время и страшно тяжелое было время. Много было ужасов, всего. Все это, все это правда. Все это было… Но понимаете ли, это была наша юность. Понимаете, семнадцать-восемнадцать лет. Если о своей юности нечего вспомнить такого, хорошего для души, то я считаю, значит, этой юности не было. Так не бывает. И потом, кроме страха, и ужаса, и жестокости, была еще и доброта. Доброта и человеческое отношение друг к другу. Это тоже было. И если кто-то говорит, что этого не было, это неправда. Было это. И когда вот иногда говорят, что вот люди падали и, мол, никто к ним не подходил, – понимаете, не подходили никто не потому, что вот человек упал и никто не хотел ему помочь. А вот я иду, человек упал, и я понимаю, что если я начну этого человека подымать, то я тоже упаду и тоже не встану. И я уйду и этому человеку не помогу. Очень часто именно так объяснялось. Понимаете ли, было, и добро было, и человеческое отношение друг к другу было. Все это было. Понимаете, все это было. Так что нельзя только одни кошмары вспоминать. Так вообще жить нельзя, если вспоминать только ужасы, понимаете ли. А госпиталь наш располагался на Каменном острове. Вот там, где были вот эти, дома отдыха. Причем вот эти сейчас элитные дома, где сейчас встречают всяких гостей и все это (усмехается), вот там люди умирали в этих домах. Та же десятка, та же двойка, вот так они тогда назывались. Как они сейчас, я не знаю, называются…
Интервьюер: Это номера домов? Десятка, двойка…
Информант: Это номера павильонов, понимаете, этих номера. Там же эти, были санатории и дома отдыха, и вот номера этих домов отдыха, двойка там, десятка, самые шикарные вот эти два дома, которые сейчас правительственные, там сейчас гостей принимают. Когда все вот иногда там показывают и по телевизору, как туда везут и все это, там и этих, и всяких высоких гостей принимают, когда в Ленинград приходят. А тогда там это был наш вот госпиталь. Понимаете ли (пауза, вздыхает) умирали, умирали люди. Мы их возили на Серафимовское кладбище. Там, на Пискаревское, вы знаете этот мемориал, вот точно такой же есть на Серафимовском, только поменьше он. Если, может быть, приходилось вам бывать на Серафимовском кладбище…
Интервьюер: Угу.
Информант: Вы видели, ну вот, и вот туда свозили. И там в общей могиле просто вот хоронили. По бокам там имена. Понимаете ли. И зачастую просто вот к нам, к госпиталю вот просто привозили вот трупы – ночью привезут, оставят и убегают. Потому что никуда везти уже сил нету – привозили к нам. А как-то вот, я никогда этого не забуду, на грузовике привезли ребят, ремесленников из ремесленного училищ. Значит, их собирали по городу. Такой, крытый…
Интервьюер: Угу.
Информант: Грузовик. Часть, значит, вот мы перетащили в свой павильон, часть уже мертвые были в этом грузовике, а часть разбежалась. Вот те, кого мы принесли, – кто они, откуда они, мы знали. А они друг друга не знали, их с разных мест собирали – кто убежал, кто умер – так неясно и осталось.
Интервьюер: Угу. А почему они убежали?
Информант: Ну не хотели в госпитале, силы еще у них были, понимаете ли, не хотели они. Считали, что в больницу вместе с умирающими – так это и сам помрешь. Не верили, что там как-то могут поддержать. А там ведь, понимаете, там, конечно, дополнительного, никакой еды не было. Но что вот было и что людей поддерживало – ведь как выкупали хлеб на карточках – покупали, получали карточки и сразу на два дня покупали. И сразу съедали. Потом день вообще без еды и потом на день вперед, значит, эти сто двадцать пять грамм и сразу утром съел и все. А там, понимаете ли, не давали сразу утром все есть. Все-таки утром был горячий, ну чай – это так, относительно он назывался, но все-таки там одна чаиночка, допустим, плавала. Горячий чай с этим хлебом. Днем – ну тоже, может быть, нельзя назвать супом, но все-таки там, я не знаю, крупинка крупинку догоняла, но все-таки горячее с солью, вот эта крупинка плавала, и, наверное, какой-то листочек там плавал, понимаете. И то, что понимаете, вот человека, три раза в день он имел что-то горячее, и этот хлеб мы делили, мы не давали сразу 125 грамм, допустим, или потом, когда 250 стало, тоже сразу. Значит, часть утром дадим, часть днем дадим. На вечер не оставляли, это точно, потому что невозможно было, они смотрели на нас такими глазами, что сказать, что вечером дадим, это все… Днем давали вот что-то, что-то такое. Ну а летом мы свой огород там развели, капусту насадили, и, знаете, что интересно, уж я не знаю, я понятия не имею, откуда семена и эта капуста была в Ленинграде в тот год, но кочны не завязались нигде. Вот где бы эту капусту ни сажали, одна вот эта, хряпа она называлась, зеленые такие вот листья, большущие, правда, их много было. Но в кочан капуста нигде не завязалась в городе, где бы ее не сажали. И вот эту, значит, вот эту хряпу, так называемую, значит, рубили с солью, ну тоже, как зеленую, как эту, кислую капусту делали. Ну вот это тоже пошло. Потом там рядом воинская часть стояла, они иногда помогали. Но они старались, понимаете, подсунуть работникам. Там у нас одна девочка была тоже медсестрой, очень она, она все, что она тут получала иногда, она все старалась унести домой к матери. Понимаете. Я-то с мамой тут была, и больше никого не было. Поэтому все, что мы имели, то мы для себя и имели. А она вот… И вот они ей иногда подсовывали, понимаете. Так что я говорю, что добра тоже много было в то время. Тоже было много добра, нельзя сказать, что только было все это… Ну что я еще могу вспомнить – театр.
Интервьюер: Вы ходили в театр?
Информант: Ходили в театр. Представляете, с Каменного острова в Александринку[50 - После попадания бомбы в здание Ленинградского театра музыкальной комедии его спектакли с 25 декабря 1941 года шли на сцене Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (в 1832–1920 годах – Александринский театр; в настоящее время – Российский государственный театр драмы им. А. С. Пушкина – Александринский театр), труппа которого находилась в эвакуации.] мы ходили пешком. И ведь когда электростанции все были взяты, и не было света в городе, и как только их вернули и дали свет, ведь в первую очередь дали заводам, военным и все это, дали в Александринку, в театр. И вот мы ходили. И, вообще, представляете вот такую картину – вот сидит полный зал: в шубах, в меховых шапках, в валенках, в это самое, и все равно вот им холодно, а на сцену выходят Брилль и Колесникова[51 - Имеются в виду Е. Ф. Брилль и Л. А. Колесникова, актрисы Ленинградского театра музыкальной комедии в годы блокады.] в декольте, с голыми руками… Ну, вообще, представляете себе это? И вот они пели, вот все эти годы они пели. Так они уже после войны уже очень быстро сошли. Потому что все голоса, конечно, были сорваны, понимаете ли, абсолютно. Вот сейчас, между прочим, вчера вот это был, «Рио-Рита», по… по российской программе, они, значит, иногда ну старые… старых всяких вспоминают артистов, и вот он вспомнил про Музкомедию, которая в блокаду работала, но, правда, он назвал только Виноградову. Виноградова уже позже была, понимаете ли[52 - Зоя Акимовна Виноградова, народная артистка России (1978), действительно начала работать в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии уже после блокады, в 1949 году.]. А вот тех, кто были в блокаду, вот я даже не знаю, их судьбу я не знаю. Вот, например, кордебалет когда выходил, значит, танцевал, а там вдоль сцены были поставлены такие, деревянные палки были сделаны, они танцевали, потом шли к этим палкам и стояли, держась за них, потому что, видимо, так вот, ну стоять в позе, как вот обычно кордебалет стоит, оттанцевав свои номера, и он принимает какую-то позу красивую и стоит, они не могли. Они стояли уже, держась вот за эти палки. Нет, это… это великое дело. Это наша Музкомедия это… И вот мы… с Каменного острова мы тащились туда. Вот. А во вторую зиму, когда уже все-таки так было и вот это вот, представляете себе, вот, значит, мы протопим эту буржуйку и эту самую хряпу перемешаем с постным маслом, с солью, суем в эту горячую буржуйку и уходим в театр. И вот сидим в театре, что-нибудь смотрим-смотрим, потом вдруг кто-нибудь из нас вспоминает: «Ой, а у нас же там хряпа теплая стоит!» (Смеется.) «Придем, кушать будем!»
Интервьюер: А это вы в госпиталь возвращались то есть?
Информант: Да, да.
Интервьюер: То есть вы там ночевали, да? Домой вы не ходили?
Информант: Да-да-да, это было казарменное положение, это уже третий год – уже все, она уже кончилась, мы уже домой ходили. Это уже был, был уже не госпиталь. Там уже не дистрофики были, там уже просто был дом отдыха, там ремесленников направляли отдыхать, просто людей из производства, там отдыхали. Тоже было… это уже было совсем другое. А это вот, тяжеленные вот эти две зимы, конечно. И лето, это было жутко… Да… Вот, а вы знаете вот, что когда снята была блокада, не прорвана, а снята, вот 27-го[53 - То есть 27 января 1944 года – день снятия блокады Ленинграда.] как раз мы были в театре. Уж я не помню, что там шло – «Сильва» или чего другое. И вот третий акт не начинается и не начинается. Все: «Что такое, в чем…» И вдруг выходит Янет[54 - Н. Я. Янет – художественный руководитель Ленинградского театра музыкальной комедии в годы блокады.], это, значит, он тогда руководил театром, и говорит, что только что сейчас по радио передали, что немцев отогнали, блокада снята. Ой, представляете, что было в зале – он взорвался! И вот он сказал, сейчас, говорит, будет салют, и, если вы хотите, вы можете выйти, посмотреть салют, потом вернетесь, и мы продолжим. Ну все, конечно, высыпали на улицу. Ой, это был салют, вы знаете, я такого больше не видела! (Смеется.) Правда, это неправда, но для меня это был самый лучший салют в моей жизни. Ну а потом вернулись, и уже артисты в тот вечер пели ну просто бесподобно! (Смеется.) Вот такие всякие вещи. Вот, а когда, еще до госпиталя, еще когда вот мы так в районе, вот мы приходили в райком с утра, и вот нам какие-нибудь там задания давали. Тогда, значит, детей отправляли в эвакуацию. Мы ходили по квартирам, составляли списки этих детей, на вокзал их отводили, на поезд их сажали, потом было несколько эшелонов, они через Тихвин шли, значит, они дошли до Тихвина, и немцы перекрыли дорогу и Тихвин. И вот надо было срочно этих ребятишек обратно возвращать, там машины брали, вот этих ребят мы привозили сюда, ночью – ну как, из школы же никуда с ними не пойдешь. И вот мы поймали несколько патрулей, которые ходили по городу, и уговорили их: «Вот помогите нам, давайте, ведь вы же можете ходить по городу, давайте разведем ребятишек по домам, чтобы их вернуть». Вот. Потом нас посылали по квартирам собирать ребят. Представляете, вот квартира холодная, ледяная, лежит мертвая женщина, и у нее в руках вот прижатое к себе, закутанное, еще живой ребенок. И вот надо было эти руки разжать, они же закоченели уже, вот этого ребенка вытащить, а он уже даже не плакал, так, какие-то писки издавал. И был пункт, куда мы этих ребят приносили, сдавали, там их кормили, обмывали и потом по Ладоге, значит, отправляли. Вот, видите сколько всего…
Интервьюер: А почему вот вы с мамой все-таки не уехали в эвакуацию. Вы говорили, что предлагали с колхозом?
Информант: Не хотели. Нет, нет, не хотели. Я даже не знаю, предлагали ли с колхозом ехать или не предлагали, этого я не знаю, а вот у меня дядя, он на авиационном заводе работал, он, значит, уезжал с женой. И вот он все время старался, чтоб мы с мамой уехали. Ну ни в какую, ну не хотели. Вы знаете что, ведь из Ленинграда иногда просто силком увозили. И, наконец, он все-таки нас вытащил к пристани, значит, по Ладоге еще по воде перевозили, значит, на ночь, с утра должны были поехать, а подошли совсем немцы, и из пригородов в город хлынул народ весь. Ну и было дано распоряжение в первую очередь увезти этих вот, которые из пригородов, те, которые в городе, хотя бы тут им есть где жить, а этих куда девать? Ну, и мы с мамой забрали свои шмотки и скорее-скорее домой убежали. (Смеется.) Дядюшка потом пришел, ругал нас… Ну не знаю, ну понимаете, во-первых, конечно, никто не представлял, что это будет. И потом, я вам честно скажу, что я ни разу не пожалела о том, что я не уехала. Но, правда, вот все благополучно кончилось, были я и мама, никого… Дедушка и бабушка, и уж потом мы говорили, какое счастье: они умерли за год до войны. Они не попали, они бы не пережили бы блокаду, понимаете. Но намучились бы ужасно, мучительной была бы смерть. А так нормально умерли, вот тут на Серафимовском тоже похоронены. Так что вот, не хотели, ну многие не хотели, не уезжали. Понимаете, что ведь и даже понимали, что надо как можно больше вывезти народу, потому что легче будет и кормить, и вообще все, но вот не хотели уезжать из родного города. (Смеется.) Не знаю, я ни разу, но, правда, вот я все-таки не умерла, я и не умирала, но не жалела, и то все, что я видела, все, что я пережила, и все, что мне пришлось здесь делать, и все это… все это я считала так и… раз надо – значит надо, тут никаких разговоров быть не могло. Вот. А эта вот врач, о котором я вам говорила, это вообще, как говорится, врач от бога был. Вот не каждый получивший, окончивший там медицинский институт и ставший врачом, вот может быть хорошим врачом, а Лидия Александровна вот эта, это была удивительная… Она вообще потом по сердцу, она кардиологом была, и там уже потом был этот санаторий, она там работала в санатории, я тоже с ней там же работала. И вы знаете что, я не знаю случая, чтобы Лидочка ошиблась в диагнозе. Вот привезут с каким-то диагнозом, ей совсем немного надо посмотреть человека: нет, это не то, вы, говорит, ошиблись, говорит врачу. Больной: ой-ой-ой, что такое, как это мог… Вот так. Начинают делать анализы, начинают осмотр, и действительно получается, она прямо, знаете, как-то вот на лету сразу. Это не каждому врачу дано, это, я говорю, врач от бога. Она и это имела, «заслуженный врач республики», или чего это было, вот это звание, все это. Медали мы все пополучали. А один наш друг, поэт, Андрюшка, он младше был, он даже, у него даже есть такое одно стихотворение:
Нам в сорок третьем выдал медали
И только в сорок пятом паспорта[55 - Информантка цитирует строки стихотворения Юрия Воронова (1929–1993) «В блокадных днях мы так и не узнали…» из книги стихов «Блокада» (1973).].
(Смеется.) Но его уже нет, к сожалению, в живых. А так, в общем, вот… Потом убирали город. Но там, правда, на Каменном острове особенных таких завалов не было… Все-таки как-то больше было порядка. Но вот дороги приводили в порядок. Мусору, все это вывозили, вывозили, убирали, и даже уже больные, которые уже могли ходить, они: и мы, говорят, тоже будем. Мы говорим: «Нет, нет, нет, уходите, это не ваше дело» «Как это не наше дело!» (Смеется.) – «Вы тут нас вытащили, мы должны вам помочь!» Вот, такая вот взаимосвязь, и все это. А я никогда не забуду одного паренька. Привезли его, он стоять не мог, его внесли. И он у нас несколько месяцев, вот мы его вытаскивали, выковыривали, буквально вот с того света. И потом, когда, значит, а он тоже ремесленник был, он даже не ленинградец, он приехал сюда учиться в ремесленное училище и вот попал. И когда он уходил, мы его нарядили, одели, одежки-то много всякой оставалось, все это перестирали, одели, и Виктор от нас ушел – ну просто ж я не знаю, принц какой-то. (Смеется.) Вот он так вот у меня перед глазами вот и стоит. А еще такой грустный случай у меня пред глазами. Привезли тоже… мать привела, причем внешне даже не такой уж он был, знаете, истощенный, и палаты все были забиты, положили его в коридоре. Но она ушла, я, говорит, завтра утром приду. Ну вечером тут накормили его, чего-то там, какой-то укол ему чего-то сделали или что, но он не дожил, он умер, все равно он ночью умер. Пришла, значит, мать – вот, нету его. Он так, говорит, и умер в коридоре? Я говорю: «Нет, нет, нет». Я уж неправду ей сказала, но надо было как-то, понимаете, чтоб матери легче было от нас уйти. Я говорю: «В палату положили, он в палате лежал, в палате умер». И отдали ей все вещи, ну вот, все это. Вот, всяко. А потом еще тоже, из интересных таких – кошка у нас там была. Мы эту кошку с собой забрали в этот госпиталь. Она, конечно, в кухне притулилась, потому что понимала, что ей там будет лучше. Но иногда она поднималась и ходила по палатам. Так вы знаете, когда кошка входила в палату, так даже самые вот, которые не двигаясь, поднимались и вот смотрели – кошка, живая кошка! В блокадном Ленинграде живая кошка! А она так гордо ходила, задрав голову, точно вот понимала, что вот на нее смотрят. Мне эта врач говорила: слушай, ты вот знаешь, что лучше всяких лекарств, вот ты, говорит, Дымку приноси, пусть она, говорит, ходит по палатам. Она лучше всех, говорит, вылечивает, говорит, наших дистрофиков. (Смеемся.) Вот такие всякие вещи были. Да…
Интервьюер: А День Победы помните?
Информант: День Победы… (пауза) День Победы я встретила в Гатчине. Мы как раз вот с этой врачом, с Лидочкой, – уже, значит, их обратно… Она эстонка по национальности, и когда… Ну, эстонцы тоже жили здесь со времен Екатерины.
Интервьюер: Угу.
Информант: И когда, значит, немцы пришли, то они всех эстонцев убрали в Эстонию. Они там тоже хватили лиха. Потому что они там, эстонского они никто не знал, ничего они не знали, не умели, одна только вот их… их было три сестры, и одна очень хорошо шила. Так вот она всех… они выползли только за счет того, что она шила. Ну потом их всех обратно вернули. И вот когда, значит, уже можно было ездить без пропусков, мы, значит, с Лидочкой поехали туда, познакомиться с ее сестрой, с ее матерью, с тетушками ее. И вот как раз День Победы мы были там. Вдруг, значит, к поселку мчатся дети и кричат: «Победа! Победа!» Мы, значит, все сорвались. Все пошли в клуб, там, значит, радио включено, там все эти выступления, все, гармошка, пляски, скачки, водку откуда-то, конечно, принесли, тут же все за победу выпили, понимаете ли… Ну на следующий день уже сюда вернулись. Ну это я уже не работала уже в госпитале. Я уже… А я… я тут… был такой период, когда я… Понимаете, был такой период, когда кончилась блокада, то стали возвращаться, и медсестры появились. И нас, медсестер без всяких этих, документов, значит, стали убирать, а этих они должны были брать. Мы говорим: «Да как же вам не стыдно, мы же тут всю блокаду работали, мы лучше их знаем, чего надо людям!» (Смеется.) Все, говорят, мы обязаны, значит, взять на работу. А я в вечерней школе. Я, значит, два последних класса, 43-й и 44-й год, я в вечерней школе училась. И уже готовилась поступать в университет, поэтому я уже не работала, в этот День Победы. Мы уже дома праздновали, мы жили в коммунальной квартире, тоже праздник такой устроили. У нас хорошая была коммунальная квартира, ничего не могу сказать. Весело все это там было. А потом я уже в университет поступала. Вот так.
Интервьюер: Это В 45-м году, да?
Информант: Это в 45-м году. Да.
Интервьюер: Уже после окончания войны…
Информант: Да, это в 45– году, уже когда университет вернулся.
Интервьюер: Угу.
Информант: Он в 44-м вернулся, в 44-м я кончала вечернюю школу[56 - Ленинградский государственный университет был эвакуирован в Саратов в марте 1942 года, где продолжал свою научную и учебную деятельность. В июне 1944 года]. Вот она, наша школы была, вот если тоже знаете, по Введенской туда к Каменноостровскому, значит, вот угловой дом. Потом такой, в общем, не знаю, был там дом или не был, но только, в общем, пустое место, и только наша школа стояла. Вот эта школа, ее я кончала. Так что вот. Ну что еще вам вспомнить… (Пауза.)
Интервьюер: Ну расскажите немножко, может быть, про послевоенную еще жизнь, как вот жилось после войны.
Информант: Тяжело, конечно, жилось, понимаете ли… Карточки, разрушено все… но, надо сказать, вот когда даже бомбили еще даже вот, в блокаду-то вот эти все вот, особенно вот в центре, разрушенные дома, они так не стояли, их не то что их ремонтировали, но их… как бы заплатки ставили, понимаете ли. Из фанеры, рисовали на них окна и все эти дыры вот закрывали. Так что вот если внешний вид, если сфотографировать, все вроде нормально, улица стоит. Ну потом началось, конечно, стали восстанавливать все. Университет вернулся, университет тоже, ну мы принимали участие просто в чистке университета. Потому что там тоже были госпиталя, и военные, и такие, и просто его надо было, в порядок его приводить. Ректор тогда был очень сильный, он, надо сказать, ему, он потом, когда было «ленинградское дело», он погорел во время этого, но это был очень умный, очень сильный человек, и очень энергичный, Даниил Вознесенский[57 - Имеется в виду, очевидно, Александр Алексеевич Вознесенский (1898–1950), ректор ЛГУ с июля 1941 года. С февраля 1948 года по июль 1949 года – министр просвещения РСФСР. Был арестован в ходе «Ленинградского дела» и расстрелян в 1950 году.]. Он очень много для университета сделал, огромное ему спасибо, конечно, за то, что он сделал для университета, чего он добился для университета. А мы, значит, вот наша группа, например, была – блокадники, вернувшиеся из армии, ну один, правда, был, Леня М<…>[58 - В интервью упомянута фамилия.], он был инвалид от рождения, у него что-то было с ногой, он ходил с костылем, все это, так что он не воевал, ничего, но он в блокаду здесь был. В блокаду здесь был и пережил блокаду. Вот. Вообще, было очень такое приподнятое настроение, и, надо сказать… не знаю… но мы молодые были. Понимаете ли, конечно, были и семьи, где люди погибли на фронте или на войне. Но вот у нас вот не было такого. Были я и мама, больше никого не было. Понимаете. Поэтому наша семья не разрушилась. Поэтому вот этого горя и несчастья у нас не было. А ведь не было же практически семьи, где бы кто-то не погиб, либо на фронте, либо в блокаду. Конечно, это ужасно и страшно. Но они поднимались. Понимаете, жизнь ведь берет в любое время. Она берет свое. Надо было работать, надо было учиться, надо было восстанавливать город. Вот это все как-то вот и вовлекало людей, отвлекало от всяких отчаянных мыслей, и от ужасов, и от всяких-всяких таких вещей. Конечно.
Интервьюер: Но вы вспоминали блокаду вот в вашей группе, вот когда в университете учились?
Информант: Вы знаете что, честно вам скажу, не очень. Как-то вот прошло и прошло. Ведь и даже потом же уже появлялись люди, которые в город после блокады приехали. Они как-то, я даже не скажу, что они очень как-то так интересовались или расспрашивали. И мы тоже. Вы знаете, что, видимо, это была какая-то вот такая, ну форма защиты, что ли вот. Понимаете ли.