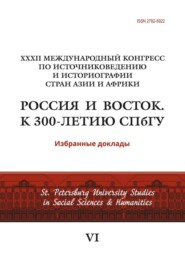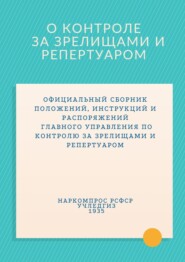По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3
Было ли первое письмо?
Переписка по делу о тайном надзоре над Пушкиным известна с 1883 года, рассказ Даля в записи Бартенева – с 1925-го (когда он был опубликован М.А. Цявловским в сборнике «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым в 1851–1860 гг.»). Пушкинисты, однако, на удивление легко примирили данные о секретной переписке с мемуарными свидетельствами Соллогуба и неизвестного автора. Картина выстроилась такая: сначала Бутурлин, заподозрив в Пушкине тайного агента правительства, послал Перовскому письмо, в котором предупредил оренбургского военного губернатора о возможной секретной миссии его гостя. Потом, узнав, что Пушкин – вовсе не правительственный агент, а, наоборот, лицо поднадзорное, Бутурлин отправил Перовскому второе письмо, в котором просил учредить над Пушкиным секретный полицейский надзор. Именно так представлено дело в большинстве работ, посвященных уральскому путешествию Пушкина. Так представлено оно и в итоговой «Летописи жизни и творчества Александра Пушкина»
.
Ни официальные документы, ни авторитетное свидетельство Даля не показались достаточными, чтобы подвергнуть сомнению красочные рассказы Соллогуба и анонимного мемуариста.
Меж тем в правдоподобии рассказанной мемуаристами истории должно было заставить усомниться многое. Особенно странными должны были показаться действия нижегородского губернатора. Прежде всего, так и остается непонятным, что же могло заставило Бутурлина заподозрить в помещике вверенной ему губернии секретного правительственного агента. И уж совсем непонятными выглядят действия, совершенные губернатором после получения письма из столицы. Итак, Бутурлин, получив в начале октября отношение из Петербурга касательно Пушкина, накладывает следующую резолюцию: «Узнать, куда поехал. Если в деревню, то написать исправнику и во всяком случае; а если по тракту, то к начальнику губернии Казанской и Оренбургскому военному губ.<ернатору>; уведомить обер-полицеймейстера». Нижегородского полицеймейстера уведомляют; он наводит справки, шлет губернатору извещение о прибытии Пушкина в Нижний 2 сентября и об отбытии его в Казань, после чего Бутурлин отправляет соответствующие бумаги в Казань и в Оренбург. Не удивительны ли эти действия со стороны человека, который совсем недавно предупреждал оренбургского генерал-губернатора о скором приезде к нему подозрительного Пушкина?.. С.Л. Абрамович так пытается объяснить акции, предпринятые нижегородским генерал-губернатором: «Бутурлин был прекрасно осведомлен о том, куда и когда выехал из Нижнего Новгорода Пушкин, но он дал ход делу лишь после того, как был получен официальный ответ от полицеймейстера. Губернатор знал толк в бумажном делопроизводстве»
.
Допустим, губернатор толк в делопроизводстве действительно знал. Допустим даже, что Бутурлин, прекрасно осведомленный насчет маршрутов Пушкина, попросту дезинформировал начальство. Но с какой целью? Чтобы оградить себя от лишних хлопот и возможных неприятностей (а заодно предстать перед властями в наилучшем свете), ему надлежало бы как можно скорее разыскать Пушкина, учредить над ним полицейский надзор и немедленно отрапортовать начальству о своевременно принятых мерах. Сделать это было как будто совсем нетрудно: 4 октября, в тот самый день, которым датирован ответ нижегородского полицеймейстера о выезде «тайного советника Пушкина» в Казань, титулярный советник Пушкин уже находился в Болдине и заканчивал первую главу «Истории Пугачева»… Вместо этого Бутурлин по собственной инициативе (это следует подчеркнуть; никаких предписаний и рекомендаций на сей счет в петербургском письме не содержалось!) рассылает письма казанскому и оренбургскому губернаторам; предписание же сергачскому земскому исправнику иметь за Пушкиным секретный надзор отправляется из губернской канцелярии только 16 октября – да и то, видимо, не потому, что местонахождение Пушкина к тому времени было наконец-то установлено, но потому только, что исправника решено было информировать «во всяком случае»…
Из анализа действий Бутурлина напрашиваются два вывода, совершенно непохожие на те, которые сделала С.Л. Абрамович. Первый: административный аппарат Нижегородской губернии работал из рук вон плохо (впрочем, немногим хуже центрального – в столице, судя по всему, перепутали сентябрь с августом). Второй: нижегородский губернатор в октябре 1833 года имел о планах Пушкина самые туманные представления. Что именно он знал?.. Предпринятые Бутурлиным акции позволяют утверждать, что Пушкин во время своего визита к нижегородскому губернатору, 2 или 3 сентября, сообщил хозяину, что намерен отправиться в Казань и Оренбург за материалами для задуманного романа (напомним, что такой была официальная мотивировка для получения Пушкиным отпуска и разрешения на посещение названных губерний
). Никаких деталей путешествия, т. е. его сроков, продолжительности, точных маршрутов, Пушкин с Бутурлиным не обсуждал. Судя по всему, Бутурлин не знал даже, когда именно Пушкин намерен отправиться в свое странствие. Потому-то еще в середине октября Бутурлин и мог предполагать, что Пушкин все еще находится в одной из двух упомянутых Пушкиным губерний, но где именно – он в точности не знал. Этим только и можно объяснить предпринятую по инициативе Бутурлина одновременную рассылку писем казанскому и оренбургскому губернаторам.
Но допустим даже, что все акции Бутурлина в октябре 1833 года имели целью замаскировать его подлинное знание о положении вещей. В таком случае крайне странным должен показаться характер действий, предпринятых им в сентябре. Ясно, что конфиденциальные письма с предупреждением о грозящей опасности обретают смысл только при непременном выполнении одного условия: письмо должно дойти до адресата раньше, чем появится носитель потенциальной угрозы. Заподозрить Бутурлина в том, что он таких вещей не понимал, невозможно. Допустим далее, что по разным причинам (к примеру, опасаясь подозрений, козней врагов и возможного раскрытия служебного преступления) он не рискнул отправить конфиденциальное письмо с нарочным. Но в распоряжении губернатора в любом случае оставалось немало возможностей для осуществления срочной связи. Так, буквально накануне поездки Пушкина на Урал, в 1833 году, между Петербургом и Оренбургом была установлена экстра-почта (с промежуточными пунктами в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и Симбирске)
. Скорость ее была по тем временам впечатляющей: от Москвы до Оренбурга экстра-почта доходила на шестые сутки
.
Сколько же времени двигалось секретное письмо Бутурлина в Оренбург из Нижнего? Согласно Соллогубу и неизвестному мемуаристу, письмо пришло в Оренбург после прибытия туда Пушкина (исследователи вопроса уточнили – через два дня). Меж тем с выезда Пушкина из Нижнего Новгорода до приезда его в Оренбург прошло пятнадцать дней, если же считать до утра 20 сентября – почти семнадцать. Столь фантастически медленная скорость передвижения
– несопоставимая со скоростью не только экстренной, но и обычной почты! – объясняется тем, что Пушкин на своем пути дважды надолго останавливался: почти три дня он провел в Казани (с вечера 5 сентября до утра 8-го), больше пяти дней – в Симбирске и его окрестностях (с вечера 9-го до утра 15 сентября)
. Таким образом, из 15 дней, проведенных Пушкиным в пути, бо?льшая часть времени (8 дней) пришлась на длительные остановки.
Даже если Бутурлин какое-то время колебался (предупреждать или не предупреждать сотоварища по должности?), даже если он имел основания не особенно спешить (допустим, Пушкин сообщил ему, что намерен ехать на восток не торопясь), все же губернатор, конечно, никак не мог знать, сколько именно дней проведет Пушкин в поволжских городах, не мог предположить, что по пути он сделает крюк, чтобы навестить имение приятеля (130 верст в два конца), и уж тем более не мог принимать в расчеты зайца, который некстати перебежит дорогу Пушкину в ночь на 13 сентября и задержит путешественника в Симбирске еще на два дня!.. В любом случае получается, что либо губернатор оправил письмо с экстренной информацией непростительно поздно, либо оно шло из Нижнего в Оренбург непомерно долго
.
Но даже если закрыть глаза и на эти несообразности (допустив, что почту задержали особые обстоятельства: скажем, на нее напали лихие люди) – необъяснимые противоречия не исчезнут.
Все авторы, так или иначе касавшиеся сюжета, согласны в том, что письмо Бутурлина могло быть получено Перовским и зачитано Пушкину не 19-го, а только 20 сентября, накануне отъезда. (Такая дата принята и в «Летописи…») Вывод строится на аргументах, выдвинутых еще в начале XX века: в анонимных мемуарах, опубликованных Бартеневым, сообщалось, что чтение письма происходило «поздно утром» – меж тем 19 сентября Пушкин, бесспорно, встал очень рано: утром он уже был с Далем в Бердской слободе (согласно Далю – «целое утро» проговорил со старухой, помнившей Пугачева). До отъезда в Берду Пушкин успел, тем не менее, написать письмо жене. Текст его расценивается (надо заметить, с достаточными остроумием и убедительностью) как еще один косвенный аргумент за то, что письма от Бутурлина Перовский Пушкину этим утром не читал: «Если бы письмо было читано 19-го, то Пушкин не пропустил бы написать о таком комическом случае жене, которой он написал, в письме от 2 октября, как „мило и ласково“ приняли его Бутурлины»
.
Но проблема состоит в следующем. Принято считать, что ночь с 19 на 20 сентября Пушкин, как и прочие, провел у генерал-губернатора (только при этих условиях и могла разыграться сценка, столь красочно описанная неизвестным мемуаристом). «Вернувшись к Перовскому, – восстанавливает последовательность событий Д.Н. Соколов, – Пушкин долго с ним разговаривал, – вероятно из деликатности по отношению к гостеприимному хозяину, к которому за весь день он заезжал только пообедать. Поэтому он лег спать только поздно ночью и 20-го проспал до позднего утра»
. Все эти данные (в «Летописи…» статья Соколова фигурирует в качестве первоисточника!) основаны на мемуарах анонима, опубликованных Бартеневым. Новация автора состоит только в предположении о «деликатности» как причине долгого разговора с Перовским. Круг, таким образом, замыкается.
На первый взгляд противоречия известным данным здесь нет: кажется, никто не сомневался в том, что Пушкин провел все оренбургские ночи у Перовского. Об этом писал еще П.В. Анненков: «19-го Сентября прибыл он в Оренбург. Там останавливался он, как мы слышали, в доме самого Генерал-Губернатора и вместе с В.Н. (sic!) Далем объехал Оренбургскую линию крепостей, ища везде преданий и свидетельства очевидцев»
. А ведь Анненков основывал свои данные на информации, полученной от Даля!..
Между тем как раз свидетельства Даля позволяют разрешить вопрос о местопребывании Пушкина в Оренбурге совершенно по-иному.
Первое свидетельство содержится в «Воспоминаниях о Пушкине», написанных Далем в 1840–1841 годах и введенных в широкий оборот Л.Н. Майковым в 1890-м. Со времен Майкова и до самого последнего времени текст очерка печатался в этом месте так: «Пушкин <…> остановился в загородном доме у военного губернатора В.Ал. Перовского, а на другой день перевез я его оттуда»
. Использованная Далем формула казалась позднейшим исследователям не вполне точной и затемняющей суть событий. Вот что замечает по этому поводу Д.Н. Соколов: «Утром же приехал Даль, и с ним Пушкин поехал сначала в город. Даль говорит, что он„перевез“ его туда, но это выражение неточное: заезжали они только не надолго, чтобы кое-что осмотреть и захватить с собою в Бёрды Артюхова»
.
Однако обращение к авторизованной писарской копии далевских воспоминаний позволило установить, что при публикации мемуарного очерка Даля Майков сделал в тексте вольный или невольный пропуск. В рукописи соответствующее место читается так: «Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у в<оенн>ого губ<ернато>ра В.А. Перовского, а на следующий день перевез я его оттуда к себе…»
Публикатор рукописи справедливо обращает внимание на важность этого уточнения. Однако нелишне заметить, что эту же подробность пребывания Пушкина в Оренбурге Даль отметил и в рассказе, записанном Бартеневым в январе 1860 года – том самом, о котором уже шла речь выше: «С Перовским Пушкин был на ты и приехал прямо к нему, но в доме генерал-губернатора поэту было не совсем ловко, и он перешел к Далю; обедать они ходили вместе к Перовскому»
.
В данном случае мемуарист, конечно, точен: не случайно он воспроизвел эту информацию дважды, с промежутком почти в двадцать лет – не только без изменений, но еще и со специальными разъяснениями смысла перемещений Пушкина. Памятливость Даля совершенно неудивительна: можно было забыть и перепутать что угодно, но единственная ночь, проведенная Пушкиным в доме мемуариста, несомненно, принадлежала к числу самых ярких и запоминающихся событий его жизни.
Итак, о чтении бутурлинского письма Пушкину в доме Перовского утром 20 сентября 1833 года речи быть не могло: это утро Пушкин встретил в доме у Даля.
К сказанному остается добавить: экстра-почта (как и обычная почта) отправлялась из Оренбурга по вторникам. (Этим и объясняется, между прочим, почему Пушкин пишет письмо жене ранним утром 19 сентября – это вторник, нужно было поспеть к почте. Так же объясняется, почему резолюция Перовского на официальном отношении Бутурлина наложена 23 октября: ответ должен был уйти в Нижний Новгород во вторник, 24 октября.) Приходила же почта в Оренбург по четвергам. 20 сентября 1833 года приходилось на среду. Почта, следовательно, прибыла в Оренбург только на следующий день после отъезда Пушкина…
4
Некоторые выводы
Итак, ряд данных – документальных, мемуарных, исторических – позволяет заключить: письмо Бутурлина Перовскому о Пушкине-ревизоре не существовало и не могло существовать в природе.
Рассказанная Соллогубом и анонимным мемуаристом история о получении и чтении письма оренбургским военным губернатором в присутствии Пушкина – это, несомненно, деформированная история реального бутурлинского письма (пришедшего в Оренбург через месяц после отъезда Пушкина) – об учреждении над Пушкиным секретного надзора. В историях и с реальным, и с фиктивным письмом действуют одни и те же персонажи, действие развертывается на фоне одних и тех же декораций, обсуждается один и тот же герой. Смысловой сдвиг в изложении произошел на уровне сюжета, но этот сдвиг изменил реальную картину до неузнаваемости.
Как же могла произойти подобная деформация?
По всей вероятности, после кончины Николая Павловича (вряд ли раньше) в общество проникли какие-то сведения о настоящем письме Бутурлина, восходящие, видимо, к Далю. Зная, в какой туманно-обтекаемой форме сообщал Даль о бутурлинском письме даже Бартеневу, мы можем предположить, что исходившие от него сведения имели самый общий характер и были лишены каких-либо подробностей. В лучшем случае могло стать известно, что в каком-то «секретном письме» нижегородского военного губернатора высказывались подозрения насчет того, не преследовало ли путешествие Пушкина, помимо исторических разысканий, каких-то иных целей.
Эта скудная информация легла на благодатную почву.
В 1855 стало широко известно признание Гоголя о том, что «мысль Ревизора» принадлежит Пушкину
. Читательский интерес был подогрет: возникло естественное желание узнать, в чем же именно состояла эта «мысль».
Какие-то слухи о пушкинском происхождении сюжета «Ревизора» циркулировали давно. Видимо, к ним отсылает пояснение в мемуарах анонима, опубликованных Бартеневым: «Тогда Пушкину пришла идея написать Комедию: „Ревизор“. Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде». К сообщению о пушкинских литературных планах и относится, вероятнее всего, помета мемуариста (ввергнувшая в соблазн последующих интерпретаторов): «Слышано от самого Пушкина». Сведения о пушкинских намерениях и планах (документально подтвержденных, повторим, лишь в XX веке), действительно, могли восходить только к Пушкину. Но реальная составляющая этих слухов не помнилась уже практически никем, что и неудивительно. Для поколения Пушкина П.П. Свиньин – неотъемлемая часть литературного ландшафта, носитель амплуа выдающегося враля, предмет постоянного вышучивания
. Для поколения, вступившего в свет в середине 30-х годов (а именно к нему принадлежали Соллогуб и, с большой долей вероятности, анонимный мемуарист) фигура Свиньина утратила актуальность: примечательно, что в мемуарном корпусе Соллогуба, где мелькают сотни имен, Свиньин не упомянут ни разу. Стоит напомнить также, что Бодянский после разговора с Гоголем о происхождении сюжета «Ревизора» наводил о Свиньине и его приключениях специальные справки; сообщение Гоголя его заинтриговало, но само по себе, видимо, мало что объяснило
. В памяти же мемуаристов, не склонных, в отличие от ученого Бодянского, к специальным разысканиям, история со Свиньиным совершенно не запечатлелась: имя его ничего им не говорило.
Напротив, слухи о «секретном письме» подсказывали напрашивающийся ответ на вопрос о роли Пушкина в создании «Ревизора»: ведь письмо – одна из пружин действия гоголевской комедии!.. Соответственно, слухи о бутурлинском письме начинают обрастать деталями, явно навеянными «Ревизором»: в рассказе о его содержании и об обстоятельствах его получения оказывается свернута почти вся комедия Гоголя – завязка («хозяин города» предупреждается конфиденциальным письмом о приезде инспектора из Петербурга), развитие действия (партикулярное лицо ошибочно идентифицируется как ревизор) и развязка (письмо читается в присутствии лица, о котором в письме говорится).
История насыщается историческими подробностями, создающими атмосферу достоверности. Но достоверность их иллюзорна: это не драгоценные свидетельства очевидца, а реалии (заимствованные из «предания» и даже печатных источников), специально подобранные так, чтобы увеличить правдоподобие анекдотического сюжета. Сюжет новеллы они действительно мотивируют, а вот с биографией Пушкина вступают в противоречие. К примеру, утверждение, что Пушкин прибыл в Оренбург прямо из Нижнего Новгорода, дает мотивировку опозданию письма Бутурлина. Но рассказчик анекдота не знает, что Пушкин в пути делал длительные остановки, а этот факт лишает мотив опоздания должной убедительности. Чтение письма происходит в доме Перовского, что соответствует доступной к тому времени информации, но опровергается документальными данными, которые станут доступны позднее, и т. п.
Наконец, «письмо Бутурлина» окрашивается – разумеется, независимо от намерений мемуаристов – элементами гоголевского стиля. В версии анонима письмо почти повторяет словесные обороты Андрея Ивановича Чмыхова: «Ему дано тайное поручение собирать сведения