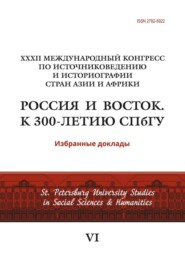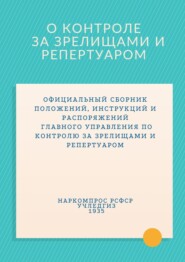По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наиболее распространенные искажения церковной жизни. Их содержание и пути преодоления. Материалы научно-богословской конференции (Москва, 5–6 июня 2015 г.)
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А чистота ока зависит только от чистоты помыслов и поисков направляющего ее духа. Или этот дух человеческий ищет согласия с Духом Божьим., чтобы он управил наше духовное зрение, или нет. Альтернатива, увы, строгая.
Откровение, совершив фундаментальную жизненную перемену в человеческом облике, позволяет увидеть и как бы «прочитать» это событие, т. е. способно спровоцировать потрясение, аналогичное по характеру самому Откровению. Если кто-то другой оказался способен проникнуться тем экзистенциальным потрясением, которое совершилось в первом случае, значит такому человеку доступна захваченность такой переменой, она его влечет и может обернуться опытом, сопоставимый с Откровением. Правда, в этом, втором случае мы имеем дело с чем-то, опосредованным опытом «прочтения», или с тем, что можно было бы назвать Писанием в его самом первичном и сокровенном смысле, – тем, что написал на скрижалях человеческого сердца Сам Господь в качестве послания всякому ищущему Его сердцу.
Но ведь эта «запись», которая производна от Откровения, должно пробуждать и аналог уже знакомого нам вопрошания, способного сформировать и новый опыт узнавания Бога, потрясшего основания человека своим посланием в виде преображенного Откровением личностного облика человека. Тогда на уровне Писания и соответствующего ему опыта, который и называется Преданием, возникает потребность согласия иного характера. Его нужно достигать между всеми носителями этого опыта. То есть разница в том, что Писание и Предание является коллективным достоянием. Писание адресовано для прочтения любому ищущему Бога человеческому духу. Предание – открыто для любого духа, переживающего присутствие Божье. Предание, как и Писание – это не только то, что совершается внутри сердца; это то, во что могут входить другие люди.
Таким образом, Писание и Предание в первоначальном опыте – духовный опыт, который в состоянии аккумулироваться, поскольку он общий, и, можно добавить, собирающий. Именно поэтому со временем возникает потребность получить отображение в виде текста.
При этом Предание как духовный опыт фиксируется сложнее., его труднее облечь в любую эмпирически доступную форму текста. Ведь само по себе оно представляет собой опыт нового узнавания того., что ты в исходном состоянии уже предчувствовал. А описания., которые свидетельствуют об этом узнавании., явно не могут быть так же легко унифицируемы., предполагается какая-то панорама свидетельств., которая может привести к переживанию более тесного единства в Духе тех, кто этим духом живет. Даже когда мы имеем дело с истолкованием текста Священного писания., Преданием будет не сама трактовка., а та скрытая духовная установка, которая позволяет извлекать адекватные смыслы. Это чистый дух, который ищет согласия и единства, и при этом, как дух, он подвижен и требует умножения согласия.
Специфика Предания не исчерпывается только сложностью фиксации. Его фундаментальная особенность состоит в том, что Предание оказывается решающим измерением, в котором концентрируется и одновременно проверяется на подлинность опыт пребывания в единстве и деятельном взаимодействии человека с Богом. Предание выступает как бы финальным подтверждением реальности богочеловеческого бытия. Именно Предание удостоверяет, что наши усилия исполнить Откровение, которыми наполняется и продолжается опыт Писания, узнаны и приняты Богом. Это подтверждение приходит каждый раз через возросший опыт взаимной проникнутости бытия Божьего и человеческого. Этот опыт к тому же не просто открыт дальнейшему событию возрастания, но и непременно предполагает такое продолжение. Предание богочеловеческого бытия не может ни остановиться, ни исчерпаться.
Тут кстати будет вспомнить идею о том, что Предание Церкви – это чистая динамика, живой поток, который лишь как-то кристаллизуется в исторически изменчивых формах. Его темным двойником выступает статичность, самоуспокоенность, переходящая в самодовольство обладания истиной[5 - «Предание всегда продолжается., и ныне не меньше., чем прежде., мы живем в Священном Предании и его творим» (Булгаков Сергий., прот. Православие: Очерки учения Православной церкви. М.: Терра, 1991. С. 77). «Церковное предание есть не статика., но динамика., оно оживает для нас в огне нашего собственного воодушевления» (Там же. С. 89).]. При этом динамизм христианского Предания совсем не означает чистой текучести. Предание имеет строгую и однозначную направленность: оно устремляет сердце, исполненное «опьяненного трезвения» (свт. Григорий Нисский) навстречу Богу. Предание тем самым – это напряженное ожидание и приготовление присутствия Бога, а значит, оно абсолютно эсхатологично.
Если бы мы хотели указать на наиболее важное отличие Предания от любой формы этнокультурной традиции как совокупности обычаев, то оно состояло бы именно в однонаправленной векторности, теоцентричности и эсхатологичности. Предание поэтому не воспроизводство порядка существования, а подлинная жизнь, т. е. возрастание, аккумулирующее опыт сопричастности нашего бытия с жизнью Бога. В этом качестве аккумулирующей эсхатологичности Предание христианства существенно отличается даже от философски ориентированного бытия. Последнее безусловно создает творческое поле жизненного усилия, но оно лишено христианской силы наращивать опыт достоверности сопребывания с истиной, не говоря уже об эсхатологическом движении к встрече с ее полнотой. Нам открыта жизнь как путь, и его парадокс в том, что это путь жизни в уже переживаемой полноте при абсолютной невозможности этой полнотой обладать.
Тогда помимо динамического характера мы должны указать на еще одно фундаментальное свойство Предания. Оно для народа Божьего есть высшая форма творческой активности. Поскольку оно аккумулирует опыт преодоления косности первозданной материи в пользу чистой созидающей активности духа. В этой преемственной последовательности творческого переустройства всей нашей совместной жизни и происходит становление области единого бытия творца и твари.
Естественно, акцентирование динамизма Предания не отменяет темы соотношения Предания и конкретных материально оформленных практик с закономерными вопросами: чем обеспечивается единство Духа и практик при широкой вариативности последних; и как устанавливается соответствие различных форм этому духу живому. В рамках именно этих соотношений мы и сталкиваемся с явно недостаточной проговоренностью, которая оборачивается специфически конфессиональной православной уверенностью, что названные соответствия осуществляются автоматически. Соответственно здесь и кроется риск превращения Предания в обычай (привычку) что создает теологическую, идеологическую и психологическую основу для фундаментализма – самодовольства от мнимого обладания истиной, которое часто сопровождается агрессивным сопротивлением какому бы о ни было движению, тем более творческому созиданию.
Но надо признать, что если к описанию жизни Церкви и применим термин «консерватизм», то только лишь в одном смысле – когда он обозначает бережное отношение к любому подлинному опыту Богопознания, и опасение, как бы не было вычеркнуто из духовной памяти ничего ценного. Deus conservat оmnia («Бог сохраняет все» (лат.). – Ред.) – вот единственное приемлемое толкование православного охранительства. Однако такое толкование предполагает максимальную инклюзивность, ведь у Бога может быть принято и даже привечено то, что никогда не придет на ум без творческого усилия нам, увы, пока еще смертным. Вспомним, что Господь не просто творит все новое, Он в своей творческой активности еще и всякий раз непредсказуем. Весь Новый Завет есть преодоление вполне благочестивых стандартов, о которых в частности так ревновали фарисеи. А разве они не мнили себя хранителями Предания, хотя на поверку оказались блюстителями недостоверных преданий то ли действительных, то ли вымышленных старцев?
Условия преемственности Божественного откровения в едином и живом потоке Предания – открытое дыханию ипостасного Духа человеческое сердце., ищущее служения, исполнения призвания Творца. Жизнь по инерции, жизнь символами, обрядами, локальными случайными привычками создает самые благоприятные условия для торжества предания старцев над божественным откровением.
Не в том ли основной соблазн в отношении к Преданию, чтобы замкнуть Его на формализованный источник или авторитет. Причем это не совсем необязательно авторитет институциональный, например приверженность «преданиям старцев» даже опаснее, поскольку гораздо эффектнее имитирует харизматический динамизм. Трудно себе представить, чтобы предостережение Господа ученикам – «бойтесь закваски фарисейской» потеряло актуальность.
В Церкви собираемой и умножаемой единым духом Откровения и Богопознания, являющимся в объединяющим их живом Предании насаждается и растет райский опыт согласия, в котором возможно цветение неисчерпаемого разнообразия. Например, в таком опыте согласия можно жить с весьма различающимися трактовками Писания. В этом образе кажется, что все держится на сваях, забитых в воздух. Тем не менее это самый крепкий фундамент подлинного богочеловеческого бытия, «возрастания в полноту возраста Христова», ибо только в таком гибком динамическом режиме может существовать единое поле истины. Стоит только допустить неподвижные общеобязательные формы, как живое начало, т. е. сама жизнь с Богом, окажется под угрозой. Невозможно, чтобы подпорки заменяли растение, но нам почему-то нередко встречается умиление от созерцания сада, в котором камни, палки и веревки заменили цветущие клумбы и плодоносящие деревья.
Итак, Предание – это область усилий, в которых обновляется опыт присутствия Бога в воскресшем Христе действием Св. Духа. И опыт, и его обновление – чистое духовно-экзистенциальное проживание, экстатическое и вдохновенное, одновременное открытое рискам всевозможных искажений и спекуляций. Формальной гарантированной защиты от них никакой нет. Эти опасности обходятся лишь духом верности открывшемуся нам Творцу, усыновляющему нас в Сыне, честным переживанием немощи своей ограниченности перед лицом умилостивляющего Господа, извечной, увы, неготовности к жертве. Одновременно это опыт вдохновения от усмотрения духовного переворота в другом и других, некогда мне чужих, а теперь моих духовных сородичей, братьев и сестер, с которыми я разделяю свою жизнь в качестве пусть часто нерадивого но все-таки чада Отца Небесного.
Быть может, одним из самых красноречивых свидетельств того, что Церковь жива творческой динамикой Предания, было по-видимому неожиданное предостережение ап. Иоанна, которым завершается его первое послание: «Дети, храните себя от идолов» (1 Ин 5:21). Идол православия, если так позволительно выразиться, – это ложное предание, некий фиксированный код, гарантирующий прохождение тока истины через твое бытие помимо риска жизнетворчества. Живя с такой верой, можно незаметно вынести за скобки жизни самого себя, свою личность и построить ложный режим духовного самообмана, будто все происходящее с нами непременно есть действующая истина Христова, особенно если Ее перевести на наглядный язык знаков, подходящих нам, но не приемлемых Христом.
В этом случае уже совершенно теряют актуальность и связи настоящего с прошлым, и вырастающее из настоящего будущее, которое в норме проблематизирует всякое настоящее. Ничто не сможет поколебать такой тип сознания в его ложной уверенности, что именно в нем и находит свое законченное выражение Святое Предание. Правда, принимая во внимание двусмысленность слова «законченное», мы могли бы неожиданно с этим согласиться: не обозначает ли такое «православие» конец живого Предания?!
Обсуждение
С. Молдован. Ваш доклад очень ценен., и, должен признаться, лично для меня он некий вызов в лучшем смысле этого слова. В частности, меня заинтересовали те аналогии, которые Вы использовали для уточнения главного предмета обсуждения – опыта предания. Какого рода опыт служит для нас средой для передачи предания? Я насчитал у Вас три или четыре аналогии этого опыта. Озвучу их еще раз с конца. Первая: прохождение тока через электрическую цепь. Вторая: сад, в котором есть все необходимое для садоводства, в том числе чтобы подпереть и подвязать вьющиеся растения. Затем аналогия с письменным текстом: что живой опыт фиксирует в виде некоего текста. Разумеется, здесь мы подразумеваем Священное писание, но не только: помимо него есть вся сокровищница нашего предания, каноны, святоотеческие писания. Наконец, в самом начале была озвучена аналогия, заимствованная у Кьеркегора, а именно – «прыжок в бездну».
Почему я затронул вопрос аналогий? Когда мы говорим о вещах, имеющих апофатическое содержание, которое превосходит наши возможности по его формальному представлению и исчерпывающему объяснению, мы вынуждены прибегать посредством аналогий к сходному опыту, более доступному для нас. Иными словами, поднимаемая Вами проблема является одной из основополагающих проблем христианской жизни: как сказал Владимир Лосский, это соотношение между «вертикалью», между абсолютно невыразимым, и историей со всем ее содержимым, которое мы можем идентифицировать эмпирически – посредством текстов, икон, всевозможных других артефактов.
Думаю, что в богословии в целом данная проблема является фундаментальной, потому что от используемых нами аналогий зависит то, какие аспекты рассматриваемой проблематики мы улавливаем. Это нам показал Спаситель, ведь и Он использовал аналогии, говоря притчами и проводя параллели с житейским опытом. Любая аналогия, с одной стороны, раскрывает нам что-то из мысли собеседника. С другой стороны, нам необходимо осознавать неизбежную ограниченность аналогий и в целом любого способа выражения нашего опыта. На мой взгляд, Вы это подчеркнули очень ясно: предание не тождественно Откровению. Предание что-то улавливает, запечатлевает, оставляет какие-то следы, и это как-то может передаваться. Однако само событие откровения, перемены, возрастания, встречи как таковое никогда не является замкнутым, ограниченным эмпирическими формами, через которые мы могли бы целиком сообщать его друг другу. Событие как таковое остается непередаваемым.
Вы обозначили важнейший вопрос – о критериях. Как опознавать подлинность того, что не может быть вполне выражено и формально определено? Очевидно, что буква сама по себе никогда не может сказать нам, в какой степени в ней присутствует Дух. Конечно, мы знаем прискорбный опыт фарисейства, превращения живого слова Божьего в «талмуд», в то, что может противоречить Самому Богу. «Разве Он может быть от Бога, если Он нарушает субботу?» Это классическая ситуация, и мы постоянно с ней сталкиваемся. Вы замечательно сказали, что, по слову ап. Иоанна Богослова, мы рискуем превратить букву в идола, в то, что убивает. Спаситель указал на то, что может нам здесь помочь: «По плодам их узнаете их». Полагаю, здесь мы видим чрезвычайно важный критерий: плоды Духа. В ту меру, в какую мы приобщаемся к ним через тех, у кого есть подлинный духовный опыт, мы, сами не имеющие этого опыта и соответствующих плодов, по ним узнаём реального носителя Духа.
И в завершение продолжу аналогию с электричеством, а именно с накаливанием нити лампы, по которой течет ток. Когда кто-то достигает этого состояния, то может передавать его тем, кто вокруг. А кто не достиг, тот не преображается под действием «тока», проходящего через его жизнь. Такой человек еще не может быть подлинным свидетелем предания. Поэтому я считаю, что именно «температура» духовного опыта помогает нам распознать, имеем ли мы дело с присутствием Духа или с той или иной формой прельщения.
Д. Гзгзян. Позвольте мне немного развить Вашу реплику: я все время стремился к обострению, отчасти потому., что мне в своем опыте обращения к христианству повезло. Я не вырос в христианской семье, хотя, если понимать буквально слова Кьеркегора, «прыжка в бездну» я тоже не испытывал. Только постфактум я понял, что моя история вполне сопоставима с таким событием. Прыжки, вероятно, бывают разные, и это еще один повод для размышлений. Конечно, когда в коротком докладе ты вынужден пользоваться эффектными образами, это не означает, что они снимают все вопросы. Да у меня и задачи такой не было. Я хотел только дать ему возможность прозвучать в конструктивном, как мне кажется, контексте.
Вот еще одно обострение, которое мне приходит на ум опять же из собственного опыта. Мы очень часто пользуемся аналогией иконы. Мне тут снова повезло. В мир икон меня, в частности, вводил А. М. Копировский, уча отличать настоящую икону от ненастоящей, плохую от хорошей. Но проблема возникает не в случае дилеммы «настоящее – ненастоящее», а в ситуации выбора между двумя хорошими иконами, одна из которых есть свидетельство духа, а другую характеризует очень хорошо набитая рука и глаз (оказывается, бывают даже такие отличия). И это только обостряет тему динамизма предания.
А вот второй случай гораздо сложнее. По свидетельству иконописцев, известно, что Феофана Грека иногда заставляли расписывать храмы «бригадным» методом, и у него вряд ли просто хватало времени на духовную сосредоточенность, чтобы всюду и всегда Преображение получалось ровно таким, как ему однажды открылось. Феофан плохих икон писать не умел. Но даже у него, наверное, есть опыты прозрения, а есть просто квалифицированно написанные фрески. Видеть отличия между ними все-таки сложнее, чем между кустарной иконой и чем-то настоящим.
Живой опыт предания позволяет нам не бояться постоянно ставить себя под сомнение и искать свою духовную опору заново. В этом смысле прыжок в бездну – это не то, что случилось однажды. Я, например, в своей жизни все время к нему возвращаюсь. С другой стороны., это дополнительное искушение. Легко произносить слова: экстатическое движение духа и т. д. А то, что в этом таятся более тонкие соблазны, мы тоже не можем забывать. Есть некие гарантии в динамике предания. Я о них не сказал, но они существуют, и эти гарантии тоже духовного происхождения.
А. Копировский. Доклад Д. М. Гзгзяна стимулирует размышления; конечно, нельзя разбирать проблему предания поверхностно, как делают протестантские течения: для них все, что прямо не связано с Писанием, не должно быть в церковной жизни. К сожалению, эта проблема, казалось бы, столь простая и ясная, для многих людей сейчас – камень преткновения, и приходится все время объяснять, что предание – это не то, что придумано людьми, а то, что идет из глубины духовной жизни.
Но в докладе приводится и обратный пример, который, впрочем, показался мне несколько искусственным. На последней странице сказано: «Стоит только допустить неподвижные общеобязательные формы, как живое начало, т. е. сама жизнь с Богом, окажется под угрозой». И дается яркий образ: «Невозможно, чтобы подпорки заменяли растения, но нам почему-то нередко встречается умиление от созерцания сада, в котором камни, палки и веревки заменили цветущие клумбы и плодоносящие деревья». Я с трудом представляю себе человека, который, войдя в такой сад – не в японский «сад камней», а сад, где вместо деревьев «палки, веревки» и что-то еще, – впадет в умиление. Если темный двойник предания выявляет себя открыто, он сразу виден именно как образ тьмы.
Но бывают более сложные случаи. Представьте себе, что мы входим в сад, где все прекрасно – даже прекраснее, чем в действительности: где все иконизировано. Есть проблема в самом богатстве нашего предания: духовных текстов, прекрасных икон, великолепных храмов, изысканной формы богослужения. Но как об этом коротко и образно сказал в своих «Дневниках» протопр. Александр Шмеман: «Декорации заняли всю сцену». Это прекрасные декорации., но что-то делать на такой сцене., действительно., очень трудно. Мне кажется, эту сторону проблемы следовало бы в докладе раскрыть подробнее. Говорю это не в упрек проф. Гзгзяну, у которого было очень мало времени для того, чтобы эту тему всесторонне раскрыть. Он сделал главное – поставил саму проблему. Но я хотел бы знать его отношение и к этой стороне дела.
Д. Гзгзян. Хотя я и предупреждал, что чужд радикальных намерений и т. д., но в одном образе явно сорвался. Такой абсурдистский прием я, конечно, применил, сознаюсь, для пущей наглядности. Но я совершенно принимаю Ваше развитие темы. В самом деле, в таком блистательно иконизированном пространстве жить трудновато. Но у меня есть и другое ощущение по этому поводу: мало кому это нужно. Параллельно с тем, что мы можем наблюдать некоторую перегруженность пусть и блестящими свидетельствами действовавшего некогда в прошлом Духа, есть еще, как мне кажется, вполне наблюдаемая утрата вкуса к этим высоким образцам. Может быть, я неуклюже пытаюсь реабилитировать этот абсурдистский прием. Просто очень часто мы встречаемся с ситуациями, когда вместо действительных образцов присутствуют явные муляжи. Нельзя, чтобы материальные свидетельства действия Духа заслоняли само действие. Но утрата вкуса к этим свидетельствам происходит ровно потому, что теряется чуткость к главному – к тому, что их произвело. Я потому и сделал этот акцент: проблема в том, чтобы отличить хорошую, но вполне уже привычную для руки мастера икону, от иконы как свидетельства действия Духа. В этом смысле, думаю, одно с другим вполне согласуется.
Д. Гасак. Если позволите, я тоже скажу несколько слов в связи с проблемой предания, как ее обозначил Д. М. Гзгзян. Христианство создало мощнейшую в мировой истории культуру. И сегодня разбираться в ней действительно могут только специалисты. Продолжу пример с иконой. Различать качество разных икон одного автора., особенно если это сам Феофан Грек., я думаю, большинству современных православных христиан просто не под силу. (А. М. Копировский подсказывает, что и большинству специалистов тоже.) Известно, что прп. Серафим Саровский молился перед иконой, иконография которой является частью западной композиции Благовещения. И эта икона отнюдь не высочайшего письма, не великого художника работа и не представляет сама по себе большой духовной ценности. Но опыт прп. Серафима (от которого, к слову говоря, мало чего сохранилось в плане письменных источников) вошел не только в предание Русской православной церкви, но и других церквей, и не только православных. Получается, что дело не в иконе. Когда мы входим в храм или в алтарь и видим, что все заставлено иконами, то часто это, увы, является свидетельством безвкусицы, отсутствия чувства меры и места иконы в литургическом и храмовом пространстве. Но, с другой стороны, опыт молитвы прп. Серафима, и не только его, показывает, что качество молитвы, качество духовного состояния человека и христианского собрания обусловлено не иконой, а чем-то другим. Наверное, для того же Феофана Грека подобное различение было важно, и он хорошо понимал, какого качества та или иная его икона. Для него это было так, потому что он лично переживал это откровение – откровение, связанное с вдохновением. И наверняка он различал, где в его творчестве явлен подлинный духовный опыт, а где – хорошее ремесло художника-иконописца. И для того чтобы понять прп. Феофана, нужно самому что-то сделать, нужно войти в опыт переживания подобного откровения. Но оказывается, как утверждает проф. Гзгзян, этот опыт не транслируется: предание еще можно передать другому, откровение – нет. Но если предание все же передается, то каким образом? Меня на заре моей христианской жизни удивляло, что совершенно разные люди в церкви спокойно называют себя духовными чадами какого-нибудь уважаемого человека. Видя их, я бы никогда не сказал, что они духовные чада одного и того же человека. Скажем, многие в Русской церкви называют себя чадами о. Иоанна (Крестьянкина). Но не может быть, чтобы о. Иоанн был носителем столь разных духов!..
Итак, можно ли прикоснуться к тайне передачи предания, можно ли ее приоткрыть? Ведь так важно, чтобы вхождение в предание действительно приобщало каждого христианина не просто к символам христианства, а к опыту, непосредственному опыту веры и апостолов, и всех святых. Причем эта вера должна стать не просто личным достоянием человека, но призвана соединить его со своими единоверцами в церковь.
Д. Гзгзян. Сделаю уточнение: этот личный опыт откровения непосредственно не передается. В докладе было сказано ровно это. Предание по самому смыслу есть не что иное, как опыт передачи, опыт взаимодействия, опыт достижения единства многих в их разных личных опытах, которые напоминают первичный опыт откровения. И тем не менее это опыт согласия. Так что весь парадокс-то в том, что предание передается. Другой вопрос, как. Можно отделаться репликой: если это предание Святого Духа, значит, оно духом и передается. Но такие слова в наше время выглядят как отговорки. Еще раз акцентирую одну фразу из своего доклада: предание – это область усилия. Мне кажется, мы довольно часто останавливаемся на каких-то точечных событиях, на разовых потрясениях. Люди могут вспоминать, причем совершенно искренне, что когда-то они впервые что-то пережили, и говорят об этом так, что это производит вполне однозначное свидетельство чего-то подлинного. Но вот что смущает: а дальше? Это однократное событие – разве оно исчерпывает всю оставшуюся жизнь? Нет.
Теперь про непохожих чад одного духовного отца. Сами люди о себе часто такое говорят, но почему-то до их духовника очень редко добираются с вопросом: а у Вас действительно столько духовных чад? Я подозреваю, что ответ удивил бы и самих духовных чад, и тех, кто спрашивает (подобные свидетельства есть, как известно). Но я бы еще больше заострил вопрос: а как узнать., мы чада Отца Небесного или нет? А у Него их столько., и таких разных., что ни один духовный старец такого разнообразия бы не выдержал. Но и тут есть проблема: это хорошо., мы себя так можем называть, а Он нас за таковых принимает, признает, или нет? Это наименование не только награда, оно ведь еще требует верности. Православные бывают самозванцами. Эта фраза допускает ситуацию, когда я думаю, что я православный, и все вокруг согласны, а «наверху» почему-то меня сочтут неправославным. Разве есть институты, которые подтверждают мое персональное православие? Я таких не знаю. Существуют институты, которые фиксируют канонические формы православия. Но, как известно, их нетрудно воспроизводить. Гораздо важнее критерий, по которому отбираются сами эти формы. Он назван в постановлениях соборов, в преамбулах обычно на него и ссылаются: это действие Святого Духа. Другой вопрос, все ли Ему соответствует.
Для того чтобы эти точечные события, эти разного характера факты личной биографии или коллективных историй и т. д. собирались воедино, требуется непрерывное усилие, когда мы эти события друг другу открываем, когда мы в них узнаем друг друга именно в качестве чад Единого Отца Небесного, в качестве учеников одного и того же Христа. При этом всегда допуская возможность, что мы по немощи своей уже удовлетворились этим единством, а Он придет и даст понять, что на самом деле единства нет. Но это допущение тоже неформальное, оно не тайный кнут, которым мы все время себя искусственно подстегиваем. Сама жизнь в церкви, жизнь в духе устроена, вероятно, так, что не просто нельзя останавливаться, но все время надо искать воспроизводящегося согласия. Если мы живем, то и движемся. И в этом движении все время сами себя проблематизируем. Иначе я не очень понимаю, в чем состоит жизнь. Жизнь не есть воспроизводство, если мы не про биологическую жизнь говорим (хотя есть мнения, что и там все не настолько просто, как мы иногда себе представляем). Что уж тогда про человеческую жизнь говорить?..
Свящ. Николае Кифэр. В контексте предшествовавших этому обсуждений мне бы тоже хотелось указать на одну проблему., касающуюся Предания и преданий. Разумеется., мы все согласны с тем., что существует письменное предание., которое мы можем назвать статичным., так как оно уже зафиксировано в письменном виде. В то же время мы говорим о предании динамичном., свидетельствующем., что Церковь жива и что в ней действует Святой Дух. В связи с этим динамичным преданием мы признаем сегодня в Церкви или в христианском мире в широком смысле слова различные движения или., как некоторые их называют., харизматические движения. Некоторые из них вписываются в дух предания Церкви. Другие же, которые мы категорически осуждаем, находятся вне этого духа. Но возникает вопрос: кто является авторитетом, отличающим одно движение от другого? Разумеется, я задаю этот вопрос, в первую очередь, проф. Гзгзяну. Думаю, мы все согласимся с тем, что Церковь и есть такой авторитет, в особенности через ее литургическую жизнь. Почему я об этом говорю? Дело в том, что есть опасность, которую мы ощущаем даже в нашей церкви, когда люди ходят поклоняться к могилам выдающихся духовных отцов, почтить должным образом их память, но при этом проходят мимо храма, где совершается литургия. Например, о. Теофил (Пэрэян) в монастыре Сымбэта не допускал к причастию тех, кто не был на литургии три воскресенья подряд. Идти сегодня к его могиле, проходя мимо храма – это противоречит тому, чего он желал, о чем проповедовал. Так что вопрос связан с авторитетом в церкви и как мы его выявляем, чтобы отличать предания от преданий.
Д. Гзгзян. Я бы, наверное, ответил так: есть историческая плоскость разрешения таких ситуаций. С моей точки зрения, она двусмысленная: когда-то эти решения были удачными, когда-то слишком поспешными. Иногда помогало стечение обстоятельств. Как мы знаем, исихазм был не чем иным, как харизматическим движением, очень смелым, обновляющим, на первый взгляд чрезвычайно рискованным, как всякое харизматическое движение, не свободным от крайностей. Я до сих пор не знаю, что именно оказалось решающим фактором для победы паламизма – причем такой, что никакие радикальные формы конкретных практик «священнобезмолствующих» не получили не просто осуждения, а хотя бы критической оценки. Хотя в последующем на эти риски осторожно указывали.
Мне кажется, когда мы доверяем действию Божьему, нецерковный характер того или иного явления как-то постепенно становится более явственным и разоблачает себя сам. Когда я так говорю, то совсем не имею в виду, что все произойдет автоматически. Я вообще принципиальный противник этого слова применительно к жизни церкви. Мне кажется, нужно иметь мужество ждать. Я всегда говорю студентам: обратите внимание, первые два – два с половиной века христианства церковь почти не располагала институциональными формами установления универсального согласия. Но почему-то это согласие периодически торжествовало. Взять, например, Феодота Кожевника (основатель ереси динамистического монархианства. – Ред.). Хорошо известно, что это классический тип еретика, потому что этот человек противопоставлял себя всему, что можно: Священному писанию, которое предлагал исправлять по собственному рациональному разумению, церковным авторитетам, поместным церквам. Всем своим поведением демонстрировал, что для него нет авторитета, кроме него самого. Но церковь выдержала существование рядом с собой этого совершенно «подрывного элемента». В итоге ее победа была одержана минимальными средствами, но с максимальным эффектом: Феодот Кожевник из ее жизни вычеркнут напрочь и без последствий. Совсем другое дело, когда в истории мы наблюдаем примеры – не побоюсь этого слова – очень поспешных институциональных решений с соответствующими же последствиями, совсем не такими, как в случае с Феодотом Кожевником. Чего стоит один громкий прецедент с Павлом Самосатским! У меня все из головы не идет: кажется, девять месяцев с перерывами длился разбиравшийся с ним Антиохийский собор 267–268 гг. Девять месяцев! И это в условиях., когда церковь в полуподпольном положении., когда на формальный авторитет опереться невозможно (потому что его нет). Но какие нам известны разрушительные последствия от присутствия в церкви такого еще одного классического еретика., как Павел Самосатский? Сколько народу с ним ушло в раскол? Есть у нас такие свидетельства? Практически нет. Почему? Потому что церковь победила духом. А свидетельством этой победы было чрезвычайно терпеливое., очень последовательное., очень вдумчивое отношение к явлению.
В этом смысле доверие Духу, как мне кажется., способно сделать то, чего никакие институции никогда – по крайней мере., с таким же успехом – не сделают. Но для этого требуется выполнение главного условия: нужно это самое внутреннее доверие. А когда его нет, тогда приходится браться за более доступные., скажем так, средства., например., привлекать вооруженную охрану для разрешения вероучительного спора., как было на Втором Эфесском соборе[6 - Имеется в виду собор в Эфесе 449 г. (вошедший в историю как «разбойничий»). – Прим. ред.], который известно чем закончился в 449 году; итог этого собора закономерен, потому что доверие Духу было там на нулевом уровне, если не на отрицательном.
Иером. Василе (Бырзу). Я решил включиться в дискуссию, услышав о паламизме и о критериях подлинности той или иной традиции. Здесь есть один аспект, который не был затронут. Мы говорим только о предании, творимом Святым Духом, но здесь также нужно принимать во внимание человеческий дух и те нюансы, которые он усваивает и проявляет в определенном контексте – историческом, национальном, языковом и т. д. Так, в первые века христианства в духовной традиции и экзегезе церкви, в формах проявления предания можно выделить три течения. Есть семитская традиция, для которой характерны поэтичность и образность, есть латинская традиция с ее юридизмом, а также греческая традиция, отличающаяся философским, метафизическим, гораздо более глубоким настроем. Я бы сказал, что любое явление предания в конечном счете кристаллизуется в жизни церкви, если со стороны самой церкви есть усилие сочетания этих трех аспектов, потому что все они находят свое действенное воплощение в человеческом духе. Здесь разум выступает как греческий дух, справедливость – как латинский и художественная чуткость – как семитский. Если бы в церкви осталась только семитская традиция, тогда сама церковь была бы подобием обскурантистской еврейской секты, поющей гимны, сходные с теми, что мы находим у Ефрема Сирина. Без глубины философских вероучительных умопостроений, происходящих из греческого мира, у такой церкви не было бы никаких шансов просуществовать уже не одно тысячелетие. Так же и без осознанного укоренения в латинской традиции юридизма, без суждений, имеющих социальные, практические, церковные импликации, церковь не была бы стойкой и плодотворной в условиях, трудных в контексте миссии или (выработки) вероучения. С этой точки зрения я бы сказал, что, принимая во внимание разнообразие человеческого духа, критерием для подтверждения подлинности преданию служит как раз это переплетение.
Что касается паламизма: до него были богомильство, еще раньше павликианство, мессалианство. Все эти движения вызывали духовные споры, за которыми стояли нехватка и нерешительность догматического языка. По сути, духовное делание простых аскетов было ценным во времена и мессалианства, и богомильства. Однако аскеты были далеки от того интеллектуального усилия, которое требовалось для преодоления этих ересей. Заслугой паламизма в том, что предание обрело стабильную и жизнеспособную форму на века, было усвоение и преобразование философской традиции…
Полагаю, нам следует взглянуть на Церковь и в свете той перспективы, что описана в «Дидахе» и «Пастыре» Ерма, а именно как Церковь до «христианской церкви». Здесь мы оказываемся в пространстве значительно более широкой традиции. Раз мы сейчас на русской земле, могу привести в качестве примера сочинения Анник де Сюзенель, русской писательницы во Франции., с глубокими связями в еврейской общине., благодаря чему она усвоила очень многое из каббалы. Для многих из ее экзегетических суждений я нахожу подтверждение в православном предании., несомненно., гораздо более глубоком.
В этом контексте, который нам предлагает постсовременность, не будем строго ограничиваться лишь тремя основными церковными традициями (см. выше), но также постараемся усваивать большее, в том числе из философии… Только так мы бы могли справляться с вызовами постсовременности, которые практически полностью выводят нас за пределы классической христианской парадигмы, и в то же время давать на них ответ. Однако условием для этого является серьезный и глубокий подход. Нужны очень глубокие люди, способные к междисциплинарной работе, чтобы осуществлять синтез в этих областях духовной традиции.
Д. Гзгзян. У меня возникло две ассоциации. Мне кажется, паламизм победил еще и потому – и это, вообще говоря, всегда отличает подлинное харизматическое движение, – что он принципиально не был агрессивен и никого не атаковал. Когда люди стараются совершать усилия обновления духа, им, с одной стороны, не до агрессии, им бы самим себя не потерять, потому что они и так рискуют. А во-вторых, обновление духа несовместимо с агрессивностью. А все названные Вами духовные движения характеризовались повышенной протестной составляющей. Неважно, какого она была происхождения, но это была не свободная от агрессивности форма противодействия, пусть и каким-то институциональным излишествам.
И еще одна вещь: взаимодействие традиции, разных конкретных исторических, этнокультурных особенностей не происходит автоматически, при том что внутри имеет очень высокий духовный накал. Простая инклюзивность тут не поможет: чтобы учесть силу латинского юридизма (в хорошем смысле), эллинского философствования и иудеохристианского мифопоэтизма, нужно иметь не просто открытый, а очень тренированный дух. Моя любимая по этому поводу историческая зарисовка – как папа Римский Аникет предпринял встречу с Поликарпом Смирнским для того, чтобы разрешить проблему, не больше не меньше, когда правильно отмечать Пасху. До сих пор это у нас камень преткновения, а у них вышло достаточно просто: предстоятели встретились, посмотрели друг на друга, в смысле, не две персоны друг на друга, а на то, как живут люди, и как-то поняли, что и те и другие нормальные, не побоюсь сказать, православные христиане. Технологию они нам не оставили; вероятно ее просто не существует (если не считать всего того, о чем я пытался сказать). Но факт исторический зафиксирован: они засвидетельствовали, что неважно, как, в какой день и т. д. отмечать Пасху; важно – пребывание в духовном единстве. Удивляюсь, почему до сих пор этот пример не тиражируется современными христианами как фундаментальнейшее свидетельство того, кто мы такие на самом деле и какое предание мы наследуем. Я не понимаю, почему этот случай такой непопулярный. Я о нем узнал лет через десять после того, как стал вникать в историю церкви, хотя он должен, наверное, хрестоматийно повсюду цитироваться.
Свящ. Георгий Кочетков. Мне хотелось бы задать еще один вопрос. Когда я слышу, что есть икона, вдохновленная духом, а есть, допустим, просто хорошая ремесленная работа, то для меня это связано с понятием «стиль» и «стилизация». В любом храме можно найти ремесленные вещи, их большинство, конечно, хотя есть и духовные творения. Люди в храмах, как правило, не очень отличают эти вещи. Но сейчас в наше время мы говорим о возрождении церкви, и мы тоже вынуждены иногда говорить о подлинном возрождении, а иногда о стилизации – уже самой жизни, не только иконы. Адекватно ли по отношению к тем материям, о которых Вы говорили, применять такой образ и такую терминологию? Мне кажется, что она более доступная и более понятная. Хотя я не знаю, что скажет А. М. Копировский или другие присутствующие специалисты по церковной культуре и искусству. Как отличается подлинная икона от стилизации? Мы же все-таки говорим: у этого мастера-иконописца., допустим., больше стилизации., у этого меньше., т. е. мы ее даже как-то измеряем. Как это происходит?
И второе., что я хотел бы сказать. Мне кажется., очень важно было бы провести мысль о личностности и соборности в отношении предания. Ваш доклад называется «Предание в богословии и практике православия»., но мне показалось., что по тексту православие больше соотносится с личностью., даже иногда с отдельным человеком, а соборный момент здесь не вполне развит. Хотя, я думаю, что как раз тайна предания в очень большой степени связана именно с соборностью. С личностью тоже, но здесь надо как-то, мне кажется, продолжить рассуждение в этом плане.
Д. Гзгзян. Я начну с конца, с того, что посложнее. Во-первых, безусловно, согласен с тем, что это равновесие и взаимодействие двух начал – личностного и соборного, но это предполагается самим положением и самим смыслом предания. Просто невозможно, чтобы оно было сугубо личным. Более того, я тут рискнул в тексте доклада назвать предание последней инстанцией, в которой фиксируется подлинность богочеловеческого опыта, богочеловеческого бытия. А это просто немыслимо в рамках изолированной персоны. Я даже не хочу по-русски произносить слово «личность» в этом контексте. Если текст производит такое впечатление, то, вероятно, оттого, что на все объема не хватило. Но принципиально, конечно, дух предания – это обнаружение собственно церковности как таковой, это величайшая интуиция именно православия.
Что касается стилизации. Я бы начал тоже с конца. Больше всего меня смущает стилизация возрождения и обновления, гораздо больше, чем стилизация одним автором другого или самого себя. Если, конечно, Вы это имели в виду, когда говорили про написание иконы по вдохновению и «по работе». Когда «по работе», чем иконописец занимается – стилизацией? В таком случае он стилизует сам себя в качестве некогда испытывавшего вдохновение. Хотя тут я не рискнул бы вдаваться в подробности., это не совсем моя сфера, чтобы себя свободно в ней чувствовать. Риски стилизации повсеместны, но хуже всего, когда они касаются существа церковной жизни – харизматичности, мудрости, соборности, богословия. Скажем, куда девалось богословское вдохновение начала XX века? А стилизации хватает…