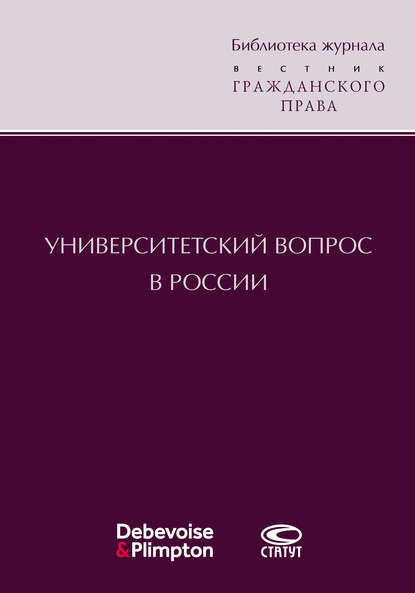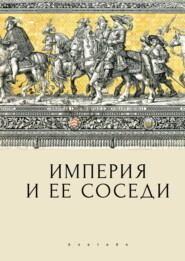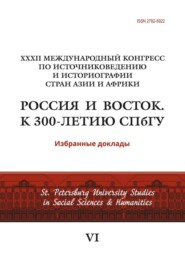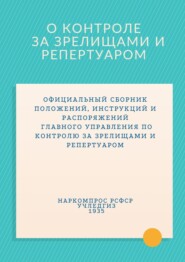По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Университетский вопрос в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Упомянутые чувства составляют красу духа человеческого и высшие идеальнейшие блага, поддержку и утешение жизни человеческой.
Не требуется и невозможно на земле, чтобы все посвящали себя специально культу науки, как невозможно, чтобы все были поэтами или служителями и проповедниками религии. Но тем не менее приобщение к науке путем хотя бы временного поднятия существа нашего до высоты ее, до созерцания и чувствования ее высоты и красы составляет такой же необходимый элемент полной и совершенной жизни, как такое же приобщение к другим идеальным сокровищам рода homo sapiens, например к поэзии, к религиозному чувству… Такой homo sapiens, который никогда не приобщился в этом смысле к sapientia, к высшему проявлению и воплощению этого свойства человечества – к науке, не есть homo sapiens в полном и совершенном смысле этого слова, как и тот, кто никогда в жизни не поднялся до высоты поэзии или эстетики вообще, кому даже неизвестно чувство эстетического подъема и воодушевления.
Поэтому идеалом развития человечества должно быть достижение такого состояния, чтобы никто в этом отношении не оставался в обиде, чтобы приобщение к высшим идеальным благам человеческой культуры, в том числе и к науке человеческой, могло быть уделом всех и каждого.
Теперь приобщение к науке является уделом немногих; в наиболее близком и тесном отношении к ней находятся, конечно, те, которые свою жизнь специально посвящают культу и развитию науки.
Особенно высокого подъема и сильного напряжения достигает то чувство незаинтересованного воодушевления, которое мы назвали «научным чувством», в области научного творчества в моменты творческого «вдохновения» и созерцания впервые новой истины, особенно если она освещает большие, темные прежде пространства. Такой впервые увиденный свет представляется особенно чудным и вызывает подчас экстаз и сильное физическое потрясение. Бывают, конечно, миражи, большие печали и разочарования, и абсолютной гарантии против этого почти никогда не бывает. Нечто подобное пришлось переживать довольно широким кругам образованной публики по поводу известия об открытии проф. Кохом средства излечения чахотки. Некоторые профессора-старики, покрытые славою и сами сделавшие великие открытия, объявляя в аудиториях содержание полученной из Берлина телеграммы, плакали от волнения, энтузиазм в аудиториях (например, Гейдельбергского университета) был неописуем. Дальнейшие вести причинили многим, конечно, горькое разочарование.
Эмоциональное действие научных идей, конечно, не ограничивается моментом первого появления. Характер чувства меняется, оно получает более спокойный характер, но подчас сохраняет или приобретает большую силу, и власть, и способность воодушевлять на великие подвиги. Как показывает история науки, в особенности в периоды гонения воодушевление и преданность научным идеям доходит со стороны авторов их подчас до готовности потерпеть за них смерть, например до предпочтения мучительной смерти на костре отречению от найденной научной истины.
В Новое время, вообще чуждое гонений за научные истины, воодушевление и преданность научным идеям выражаются и проявляются в менее героической, но подчас тоже не чуждой больших жертв и самоотречения форме, например в виде посвящения всей жизни тяжелому и упорному труду фактической проверки, разработки, развития и отделки известной идеи или системы идей, иногда соединенному не только с отказом от разных житейских благ, удовольствий и развлечений, но и от необходимого для элементарного физического благосостояния и здоровья отдыха. Вещественные и характерные иллюстрации к этому представляют подчас своеобразные ходячие мумии, желтые и высохшие, так что старый потертый сюртук висит как на колышке каком-то. Так изображаются типы ученых, между прочим, в немецких юмористических журналах, в иллюстрациях к анекдотам на тему об ученой рассеянности и забывчивости под влиянием идейной жизни не от мира сего. Но это материал для размышлений не только юмористического свойства, хотя подлинные воплощения ученого аскетизма подчас превосходят эти типические изображения, так сказать, еще большею резкостью и типичностью. Например, живой скелет Моммзена имеет форму пишущего человека и во время ходьбы, во время передвижения этой своеобразной тени человека, способной внушить своим появлением скорее мистические, нежели юмористические, чувства.
Другого рода вещественные иллюстрации к сказанному выше – некоторые книги. Иногда уже объем этих книг и характер примечаний к тексту наглядно свидетельствуют о таких подвигах упорного и напряженного труда, терпения и энергии в течение десятков лет, какие в других областях жизни едва ли вообще случаются. Другие книги дают подобное же свидетельство только при более близком ознакомлении с их содержанием (например, труды Канта, Дарвина и т. п.).
Некоторую роль в этой области играют, конечно, и слава, и честолюбие. Но не следует преувеличивать значение этого фактора. Стремление к научной славе играет часто более или менее сильную вспомогательную или, пожалуй, иногда даже решительно преобладающую роль главным образом в начале ученой деятельности, в области первых успехов, до приобретения славы или в начале ее. Иногда, особенно в начале углубления в науку, играют большую роль и чувства, и соображения еще менее высокого свойства, например карьерные соображения.
Но было бы весьма ошибочно так толковать вообще научные подвиги, особенно более великие из них. Люди вообще те личные «блага», которые они уже имеют, менее ценят, а иногда совсем ими перестают интересоваться. И научная слава может приесться, а иногда даже опротиветь. А затем – и это главнее – идейная, истинно научная жизнь по мере глубины и силы приобщения к ней поднимает и очищает от личных интересов, более высокие и напряженные чувства вытесняют менее высокие, и при известной высоте подъема, которой, естественно, особенно легко достигают великие творцы великих идей, такие вещи, как слава, хотя и более высокие и ценные блага, чем, например, деньги и т. п., могут остаться далеко внизу и позади. Нередко это видно уже из самого характера отстаиваемых ими идей и систем таковых и из способа их сообщения и борьбы за них. Например, если бы Кант из-за славы посвятил свою жизнь и жизненные удовольствия постоянному, тяжелому и упорному научному труду для разработки и изготовления к публичному (печатному) сообщению своей системы гносеологических, нравственно-философских и иных идей, то уж он, наверно, сумел бы придать более популярный облик как самой системе, так и форме сообщения. Разве так и такие вещи пишут люди, которым интересны «рукоплескания толпы»? Из его системы и формы сообщения ясно и очевидно, что этот человек не сделал бы не только ни малейшей уступки в области содержания, не пошел бы ни на малейший компромисс и смягчение научного радикализма своих положений, чтобы сделать их более понятными, доступными и приятными широкой публике, но не изменил бы ради этой цели даже формы выражения, ни единой из своих строгих и с точки зрения внешнего выражения формул, хотя бы такое приноровление к вкусам читателей не влекло за собою ущерба для содержания, его опошления или даже только некоторого смягчения ввиду большей удобоваримости для массы читателей.
Воодушевляют ученых и мыслителей и побуждают к борьбе за истину и к упорному труду не только идеи «собственного производства», а и другие идеи, если они им представляются истинными и ценными, особенно если они подвергаются спору и сомнению или встречают иные препятствия к распространению и торжеству. Истинному ученому, живущему полною и настоящею – не только интеллектуальною, а и эмоциональною – научною жизнью, истина дорога сама по себе, она радует и воодушевляет его и независимо от его участия в открытии ее. Какую бы великую роль ни играли в жизни науки гении, открывающие новые горизонты, создающие великие и плодотворные идеи, но еще большую роль, даже подчас в жизни, развитии и распространении этих идей, играют воодушевленные усилия и труды приверженцев, учеников, членов «школы», в которых эти идеи, хотя и не ими открытые, вызывают восторг и воодушевление. Великое воодушевление ведет часто и к великим подвигам с их стороны, нередко и к крупному дальнейшему идейному творчеству на почве идеи их учителя, к созданию важных ветвей, приложений, исправлений, подкреплений и т. д.; весьма трогательно то часто наблюдаемое в этой области явление, что они даже тогда сами ставят себя в тень знамени учителя, когда их заслуги не только по распространению и укреплению, но и по обогащению и созданию самостоятельных вкладов больше и важнее первого слова инициатора идеи или вдохновителя школы.
Больше волнуют, воодушевляют и побуждают к распространению и пропаганде, естественно, большие и важные, многообъемлющие и общие идеи. Но совершенно ошибочно было бы думать, что только крупные и общие идеи оказывают такое психическое влияние. Точно так же было бы совершенно неправильно с точки зрения действительной психологии научного мира полагать, будто интересуют и воодушевляют только идеи, имеющие практическое значение для жизни человеческой, например важные для техники, политики и т. п. Напротив, и идеи, и открытия, касающиеся отдаленнейших времен, глубокой исторической или «доисторической» древности, отдаленнейших мест и предметов (например, в области астрономии), волнуют и воодушевляют ученых, хотя относящиеся сюда проблемы имеют чисто теоретическое значение и никакой практической в тесном смысле пользы не касаются (или по крайней мере теперь не видно, чтобы могла получиться какая практическая польза, трудно таковую предвидеть). И размер волнующих ученых проблем, их решений, споров и т. д. бывает иногда очень микроскопическим (а по крайней мере теперь представляется таковым: часто трудно предвидеть будущее значение данной, теперь представляющейся микроскопическою истины, например, для решения другого, уже, может быть, очень крупного вопроса). Преинтересные, положительно трогательные (а иногда граничащие с комизмом не только для тех, которые смеются, потому что не понимают) явления в этом направлении можно наблюдать среди таких типических ученых, каких особенно много в немецких университетах. Громоносно и с сильным научным аппаратом проповедуются с кафедры и в печати путем статей и даже толстых монографий иногда такие микроскопические положения, которые у профанов возбудили бы разве презрительно-снисходительную улыбку.
А затем для понимания психологии науки и ученых надо принять во внимание, что по мере углубления в науку и роста воодушевления и любви к ней со стороны ученого данная наука растет в его глазах, приобретает все большее и большее значение и величественный вид, оттесняя на задний план не только разные мелкие житейские интересы, но и разные немелкие предметы и явления, в том числе и другие науки, по меньшей мере не менее важные, чем его специальность, при объективной оценке со стороны. То же относится к тем специальным областям данной науки, которые данный ученый специально разрабатывает, и даже к отдельным темам и проблемам какой-либо специальной области. Такому Гирке, который идее Genossenschaften (между прочим, идее, на честь первого открытия которой он отнюдь не притязает) посвятил огромную монографию, вложив в нее много лет тяжелого, по большей части крайне кропотливого и самоотверженного труда, проблема так называемых юридических лиц представляется не одним из многих второстепенных вопросов науки права, а вопросом и проблемой просто; теория юридических лиц как «социальных организмов» является одним из первых членов символа его научной веры и миросозерцания; теория же юридических лиц как фикций возбуждает в нем такое негодование (научное воодушевление проявляется и действует не только в форме преданности истине, но и в борьбе против научной неправды), что если бы эта теория имела свои легионы и с ними попыталась победоносно войти в храм науки, чтобы воцариться там, то он один бросился бы сражаться с этими легионами и положил бы свою жизнь за теорию «социальных организмов». Знающие его лично, слышавшие его лекции или имевшие случай беседовать с ним об этих проблемах, думаю, не сочтут эту характеристику выдумкой.
Описанные, весьма характерные для психологии ученого мира явления, в частности вырастание облюбованных областей знания, а подчас и мелких проблем до гигантских размеров в глазах ученых, объясняются, конечно, не чисто интеллектуальными процессами (например, Гирке не только высокоталантливый и великий юрист, но и вообще очень умный человек), а именно эмоциональным элементом, присущим всякой истинной науке. И, собственно, спорить против таких возвеличений не приходится, как нельзя, например, спорить с поэтом, ставящим поэзию выше всего, доказывая, например, что торговля или ремесла заслуживают предпочтения, или спорить с отцом, в своем сыне души не чающим, доказывая ему, что скорее следует ценить и любить такого-то другого, например племянника, очень выдающегося и прекрасного мальчика во всех отношениях. Притом такое преимущественное воодушевление по поводу облюбованной науки и специальных ее областей есть такая сила, без которой наука и сотой доли той грандиозной работы, которую она совершает на благо человечества, мощно двигая вперед его духовное и материальное благосостояние, не могла бы совершить.
Тем не менее в описанной склонности ученой психики к научным пристрастиям и возвеличениям подчас микроскопических вопросов или очень специальных областей есть и своя опасная сторона: хотя эта тенденция вовсе не ведет необходимо к односторонним выводам и ошибкам, а соответственные эмоции в нормальных случаях только усиливают освещение исследуемой области и дают возможность ученому узреть то, чего бы другой, менее заинтересованный духовно, менее воодушевленный, никогда бы не увидал и не открыл, все-таки в этой тенденции подчас кроется опасность сужения горизонта, развития духовной слепоты по отношению к другим областям знания и мысли, иногда даже полного извращения ума и миросозерцания, а то и потери равновесия в смысле психического здоровья. И именно истинные ученые, а не ремесленники и шарлатаны подвергаются такой опасности. Пожалуй, инстинктивное чутье (или и осознание) этого является наряду с другими одною из сильных побудительных причин, заставляющих ученых группироваться, искать общения с другими учеными. Чувствуется сильнейшая потребность иметь таких коллег, с которыми можно было бы дружно побеседовать или поспорить и повоевать (пожалуй, еще большее удовольствие!) на научные темы, «освежиться» в их обществе и т. д. – и это необходимейший элемент гигиены ученой профессии. Его доставляет обыкновенно в лучшей и идеальнейшей форме всякая сильная и здоровая universitas litterarum. Здесь, в университете, происходит как бы кровообращение в организме, циркуляция мысли.
Иногда здесь появляется своего рода сердце университета, центр импульсов и оживления для многих других членов, в виде, например, какого-либо гениального философа, дающего импульсы не только университету, но и всей эпохе. Теперь, положим, таких нигде не видно, и это вовсе не необходимо для силы и блеска университета – достаточно, чтобы принимающие участие в жизни ученой корпорации вносили хотя бы скромную лепту в духовное общение. Достойные примеры научных подвигов или по крайней мере истинно научной деятельности, столкновение, трение и обмен мыслями и миросозерцаниями, взаимное сообщение идей и идейного воодушевления – все это вырабатывает и создает в виде, так сказать, средней равнодействующей «университетский дух», который представляет нечто неопределимое и неуловимое – отнюдь не совокупность определенных идей и мыслей, а скорее веяние высоких чувств и настроений. Это лучшее украшение всякого живого и здорового университета и вместе с тем сила, движущая и направляющая, захватывающая и заставляющая двигаться в своем направлении подчас и тех вновь поступающих в общение членов, у которых вначале было совсем другое в сердце и уме, менее достойное. Университетский дух – великий педагог и лучший управитель и попечитель университета, хотя он не издает никаких правил и распоряжений, не имеет канцелярии, чиновников и иных видимых орудий и средств власти.
Эти замечания, впрочем, не означают мистического представления какого-то особого существа. Дело идет только о психическом взаимодействии отдельных людей и о порождаемой им общей духовной атмосфере. Эта атмосфера тем выше и чище, чем достойнее отдельные члены общения. Университетский дух падает и разлагается от введения в коллегию недостойных элементов; он неминуемо возникает и растет по мере увеличения числа и преобладания верных и преданных слуг науки – настоящих ученых.
В связи с вопросами психологии науки нам необходимо было уяснить, между прочим, и отношение учебников к подлинной научной жизни, к живому научному процессу. Что касается отношения учебников к эмоциональному элементу научного процесса, вопроса о том, насколько в этом отношении и направлении руководства могут быть признаны верным отражением и изображением настоящей, живой науки, то и здесь приходится дать только отрицательный ответ.
Учебники – невоодушевленные предметы не только в буквальном, но и в том переносном смысле, что не в них живет и отражаются воодушевление и энтузиазм науки, что и в этом смысле в них не воплощается и даже не отражается настоящая природа научного процесса. Это только «пособия», содержащие склад некоторых понятий и сведений, необходимых как средство предварительной ориентировки, как минимальная амуниция при движении по пути науки к высотам настоящего царства ее. До известной степени, конечно, и учебники могут отражать научное воодушевление автора, но все-таки не для отражения эмоциональной жизни науки они предназначены и не для этой цели они являются годным средством. И даже считается достоинством учебников как таковых (сообразно особому назначению сих предметов) если не бесчувственность, то во всяком случае бесстрастие – холодная объективность.
Впрочем, разъединение учебной литературы и эмоциональной стороны научного процесса представляет столь резко выраженное свойство и тенденцию этой литературы, что приводить здесь подробные доказательства означало бы ломиться в открытые двери[44 - Такая же тенденция, хотя и в менее резкой форме, проявляется и в других областях печатной научной литературы (не в лекциях!). В основе ее, пожалуй, отчасти лежит недоразумение относительно существа и смысла научной «объективности». Научная объективность состоит не в устранении чувства (результатом были бы научная impotentia и чисто ремесленное производство), а именно в решающем значении научного чувства (убеждения), причем отнюдь не вредит подъем его хотя бы до энтузиазма и экстаза; требуется только устранение тех иных чувств и интересов, которые могут явиться конкурентами и врагами научного чувства. Иногда, может быть, играет известную роль то, что называется «ложным стыдом». Впрочем, научное чувство и характер содержания научных книг (не только учебников) обыкновенно таковы, что и при отсутствии умышленной тенденции оно (это чувство) в печатной литературе может находить разве лишь слабое и редкое отражение. Иное дело лекция, о чем см. ниже].
Тем более само собою разумеется и не требует никаких пояснений решение вопроса о том, можно ли познакомиться с тем своеобразным проявлением научной жизни, которое называется университетским, академическим духом, только путем пребывания в сфере действия этого духа, или же для этого достаточно выписать и прочитать или выучить известную совокупность учебников.
Поэтому я ограничиваюсь констатированием этих пунктов, чтобы перейти к следующей ступени выяснения смысла, значения и идеала университета как учебного заведения, а именно к выяснению смысла и значения того процесса, на котором зиждется университетское преподавание, – процесса чтения-слушания научных лекций.
В. Университетское преподавание. Его психология и значение
I.
Душевные волнения, эмоции обыкновенно стремятся к разряжению, к внешним проявлениям; отсюда возникла, между прочим, теория, отождествляющая эмоции с их разряжением, – теория, по моему убеждению, весьма ошибочная, а здесь во всяком случае не требующая оспаривания, но тем не менее характерная как показатель тесной связи этих двух процессов. Обыкновенно эмоции вызывают, между прочим, потребность поделиться с другими, сообщить другим то, что нас волнует. Так и волнующие нас идеи, т. е. мысли, связанные с более или менее сильными эмоциями, создают потребность высказаться, сообщить другим, а идеи, волнующие нас в положительном смысле, воодушевляющие и представляющиеся ценными, истинными, дорогими, создают потребность склонения и убеждения и других в их пользу, потребность активного учения, проповеди.
Существует легенда, что Будда, открыв наконец после долгой борьбы и искания известные три основные истины (относительно страданий живых существ и т. д.), усомнился и даже долго колебался, следует ли ему сделаться учителем найденной им (философской) системы истин или оставить их, так сказать, при себе. Мне эта легенда представляется среди прочих сведений о жизни и проповеди этого великого философа и учителя, отчасти правильных (как теперь убедительно доказывают знатоки-специалисты), отчасти, несомненно, неправильных, именно только легендой, мифом. Не только последующая воодушевленная и поразительно успешная проповедь этих истин и само их содержание, но и сама духовная природа идейного творчества и чувств и стремлений, с ним связанных, мало говорит в пользу вероятности упомянутого рассказа. В основе развития этой легенды скорее было наивное стремление возвеличить ценность тех высоких истин, которые могли и погибнуть для рода человеческого, и заслуги Будды, который сжалился над непросвещенными и посвятил себя их обучению. Христос уже в отрочестве стремился обучать других, а его воодушевленные и великие духом ученики сделались бы апостолами и проповедниками даже и без особого поручения Учителя. Платон, создавая нечто вроде «университета» для себя, академию, постоянную аудиторию, как и вышедший из этой великой аудитории наиболее выдающийся ученик Аристотель, в свою очередь (после самостоятельной переработки слышанного от Платона), основавший школу, следовал тому же стремлению, общему творцам и поклонникам идей, к их распространению. Платов учился философии у Сократа. И этот философ имел свою постоянную аудиторию, хотя она и не находилась в его доме (там была Ксантиппа, в университетском деле мало смыслившая и даже прямо враждебно к науке настроенная дама, – она бы устроила обструкцию). Аудитория Сократа странствовала по площадям и улицам; Сократ ходил и заходил всюду, где он только мог приютиться со своими учениками и собрать аудиторию «вольных слушателей».
Возникновение университетов следует психологически объяснять не столько потребностями и стремлением к знанию со стороны неученых, сколько стремлением к общению и сообщению своих идей и открытий другим со стороны ученых. Стремление и потребность учить, проповедовать (profteri, professio) представляли в начале развития университетов и представляют и теперь – во всяком случае со стороны истинных ученых, а особенно со стороны тех, которые много и усиленно думали и имеют много, чем поделиться и чему поучить других, – существенный фактор и условие силы и успеха университетского учения, и без понимания этого фактора не может быть и правильной теории и сознательной политики университетского дела.
Нельзя себе представлять дело так, будто ученые, читающие лекции в университете, – это чиновники, за жалованье исполняющие работу чтения лекций, отбывающие службу, радующиеся, может быть, праздникам или чрезвычайным случаям отдыха и освобождения от отбывания лекционной повинности и нуждающиеся, может быть, в надзоре, контроле и понукании к аккуратному отбыванию своей службы (для каковой цели, например, недавно введена мера сообщения каждого профессора ректору для сведения Министерства о дне начала и окончания чтения лекций с его стороны и т. п.). Это, как, например, и попытка изыскать меры, которые бы заставили членов факультета являться в достаточном числе на ученые диспуты, симптомы и образцы принципиально ошибочной политики, в корне искажающей всю психологию университетского дела, вносящей в университет совершенно ложную ноту и не усиливающей усердия, а, как раз напротив, подрывающей и расшатывающей нормальную и желательную мотивацию профессорского поведения.
Единственно правильна та университетская политика, которая исходит из предположения свободного влечения и охотного чтения лекций не из страха, а из любви к этому занятию; точно так же и посещение заседаний факультета, совета и ученых диспутов должно происходить из любви к науке и радостного служения ей.
Нас спросят: «А если такое предположения не оправдывается?»
На это я отвечу: «В таком случае надо прийти к выводу о том, что вкралась серьезная болезнь, органический порок, и паллиативы тут ничем не помогут: неуместные лекарства только усилят болезнь. Надо обратиться к коренному лечению».
С этой же точки зрения не нужны университету назначенный и считающийся начальством ректор или попечитель. А если фактические обстоятельства таковы, что они кажутся нужными, то это уже банкротство университетской политики, поверхностный диагноз и такое же лечение. Притом это даже не паллиативы, а простые фикции, ибо начальнические меры и манеры не удаются и обыкновенно инстинктивно чувствуются неуместными и избегаются, так что получается только начальство на бумаге; нравственная ответственность с тех, на которых она по существу лежит, снимается, а те, на которых она на бумаге возлагается, только ощущают свое ложное положение, ничего сделать не могут и обыкновенно и не решаются предпринимать. Поэтому Устав 1884 г., заводя, по-видимому, начальство и контроль, на самом деле содействовал появлению анархии, ослаблению чувства долга и нравственной ответственности в университете и появлению таких болезней и злоупотреблений, какие были бы немыслимы при ином положении дела.
Ошибочно было бы и так толковать нормальную и желательную психологию университетского преподавания, будто здесь основная желательная нота состоит в педагогических склонностях и мотивах; не следует думать, что основная пружина деятельности идеального профессора такова же, как, например, у родителей, обучающих и воспитывающих своих детей, или у педагогов по любви и призванию, например тех учителей, которые с величайшим усердием и удовольствием обучают мальчиков грамоте, грамматике, арифметике и стараются всячески внушить им хорошие правила поведения и т. д. Это очень почтенная и даже высокая психология. Среди разных человеческих типов мало можно найти столь симпатичных и достойных любви и уважения типов, как тип педагога по любви и призванию. И я отнюдь не ставлю тип надлежащего профессора – во всяком случае с нравственной точки зрения – выше типа педагога по любви и призванию. Как тип сестры милосердия по любви и призванию идеальнее с нравственной точки зрения типа художника, предающегося свободному эстетическому творчеству (первая посвящает себя ближним, а второй удовлетворяет свои эстетические потребности), так и тип идеального педагога, хотя бы учителя народного училища, по-моему, с этической точки зрения идеальнее типа надлежащего профессора университета.
Цель и смысл моих замечаний вовсе не в превознесении и возвеличении профессоров как таковых. Но последних следует строго отличать от педагогов в собственном смысле, если мы желаем правильно понять профессорскую психологию и вести рациональную университетскую политику. Всякая деятельность и всякое учреждение имеют свою особую психологию, свой дух и свое назначение, и всякая политика должна исходить из уяснения этой психологии и действовать сообразно ее природе. И вот, повторяю, профессорская психология не есть педагогическая психология, и стремление заставить профессоров быть педагогами, сближаться и вступать в общение на педагогической почве и с педагогической целью со студентами и т. д. – это идея, психологически очень понятная ввиду явлений последнего периода университетской жизни, но она едва ли может дать обильные результаты на деле. Хороший профессор обыкновенно был бы довольно плохим педагогом, а идеальнейший ученый и профессор оказался бы, пожалуй, идеально неудачным педагогом и поэтому даже, пожалуй, очень плохим учителем гимназии. Выше (с. 46) я привел воображаемый пример Канта, Гегеля, Фихте, занимающихся собеседованием по заданному уроку, проверяющих прилежание отдельных студентов и т. д.: «Фихте стал бы, пожалуй, нервничать, а Гегель стал бы во вред серьезному и систематическому преподаванию увлекаться течением и изложением собственных идей…» Из названных великих философов особенно Фихте, как известно, был великим профессором в смысле необычайного, удивительного успеха его лекций. Это, несомненно, идеальный профессор, но место ему было именно в университете, а не в педагогическом заведении. Одна уже углубленность в свои мысли, рассеянность и непрактичность типичных ученых и профессоров делает их негодными для педагогической деятельности в собственном смысле, где требуется величайшее внимание к другим, к движениям их души, большой практический такт и т. д.
Типичный и в своем деле идеальный профессор столь же годится в педагоги, как и в музыканты. Бывают среди профессоров и музыканты, бывают и очень практичные люди, которые могли бы быть прекрасными купцами и промышленниками, бывают среди них и люди с педагогическими склонностями и качествами. Они выделяются из общей профессорской среды, и их можно легко узнать и отличить. При прежнем режиме они, между прочим, наводили на себя подозрения именно из-за своих педагогических склонностей и происходившего под влиянием этих склонностей сближения со студентами. Недавно лишились мы одного профессора, который представлял соединение и истинного ученого, и профессора, и вместе с тем педагога по призванию, что проявилось, между прочим, и в его литературной деятельности (в прекрасных печатных поучениях по адресу молодежи). Я не отрицаю, стало быть, возможности такого соединения, тем менее я отрицаю желательность и ценность такой комбинации. Но только я утверждаю, что такие соединения представляют исключительные явления – именно соединения двух «характеров», так что никакой общей директивы для университетской политики на этой почве найти нельзя. Само собою, что предыдущие замечания не означают вовсе утверждения отсутствия у профессоров человеческих чувств, и в частности любви и симпатии к учащейся молодежи, желания ей всякого блага и стремления быть ей полезным. Только нравственные уроды могут быть чужды этих чувств и стремлений, и смысл моих замечаний, конечно, не тот. Дело идет, конечно, не о нежелании всячески быть полезным учащейся молодежи, а о различии характера, способов и приемов деятельности на пользу других. Все трудящиеся люди полезны другим, и все нормально развитые в нравственном отношении люди желают быть полезными другим. Но один полезен одним искусством и умением, другой другим, третий третьим, и полезнее всего для других те, которые попали в свою колею, которые занимаются именно тем, к чему они чувствуют влечение и к чему они больше всего способны. Поэтому я с радостью приветствую принцип любви и сердечного попечения и с точки зрения университетского дела (это такой великий и всеобъемлющий принцип, что он может и должен быть девизом везде, где живут люди, даже в тюрьмах и на каторжных работах, а без него никакое человеческое дело – не только школьное, но даже и тюремное – истинно преуспевать не может), но только я полагаю, что есть тысячи способов и родов применения этого великого принципа; тех способов его применения и воплощения, которых можно требовать от одних учреждений, нельзя требовать от других, подчас под страхом полного извращения и искажения природной функции данного учреждения.
II.
Нормальная, соответствующая природе ученого-профессора и ученого учреждения – университета движущая психическая сила лекции (необходимая для успеха ее) есть психика не педагога, а психика ученого, которого воодушевляют его научные убеждения, то, что он считает истиною, особенно то, что он впервые нашел как истину, но также и другие научные истины (ср. выше, с. 174–175). И он выступает здесь, в аудитории, не в качестве praeceptor’a (наставника), а в качестве professor’a (исповедующего публично и проповедующего свои научные убеждения). Перед ним не ученики и не мальчики, а взрослые люди (между ними попадаются и старики, хотя и не в мундире или в мундире чиновника какого-либо ведомства), явившиеся добровольно и готовые выслушать истину (т. е. то, что по убеждению профессора истина) и его доводы и убедиться в правильности их в случае достаточной убедительности. А если тема профессора очень интересует и даже волнует, то и эти слушатели стушевываются: он смотрит на них, но не видит их, а во всяком случае не различает отдельных лиц, а видит только сияние идей, увлекается течением мысли и больше ничего не видит и не слышит, подчас даже не слышит и звонка, хотя звук его очень резок, и пробуждение происходит от инстинктивного чувства непривычно продолжительного времени лекции.
В немецкой университетской юмористике, составляющей любимую тему и общих юмористических журналов, рассказываются разные случаи весьма поразительной до комизма забывчивости вследствие увлечения профессора течением своих идей во время лекции (например, во время присутствия на лекции владетельного князя данного государства или короля) или и независимо от лекций; многие из этих анекдотов, конечно, вымышлены и содержат большое преувеличение, но тем не менее эта юмористика исходит из более правильного понимания психологии типа ученого профессора, чем некоторые новые предложения относительно «надлежащего университетского преподавания», хотя они и исходят от людей, приобретших титул и звание профессора.
На слушателей лекция искренне увлекающегося течением идей профессора действует вовсе не в комическом направлении. Этого не бывает даже в тех случаях, если дело идет о темах самих по себе малых, так что при спокойном и холодном наблюдении могло бы получиться впечатление комического несоответствия размера темы, с одной стороны, пафоса и увлечения профессора, с другой стороны.
Эмоции при живом их выражении заразительны, заразительно действует на слушателей и научное чувство воодушевленного ученого (чему еще обыкновенно способствуют и обычный возраст слушателей, престиж университета и университетской кафедры самих по себе, научное имя профессора и т. д.).
Нам выше пришлось, между прочим, встретиться с противоречивыми утверждениями относительно, так сказать, количественной вместимости лекций, относительно того, что вмещает и сообщает час лекции. По одному мнению, «лекция есть живое слово, которым можно за час сообщить то, чего из книг не узнаешь и за год»; по другому мнению, напротив, сообщение содержимого тома в 500 страниц путем лекций требует около 100 часов, между тем как чтение того же тома требует 16–20 часов. По первому мнению, стало быть, вместимость лекции превосходит весьма многократно количественный успех чтения; по другому, напротив, последняя величина превосходит первую более чем в пять раз.
Интересная комбинация сухой и точной арифметики со свободой фантазии.
Как-то никто не догадывается взглянуть в экспериментальную психологию или справиться у коллеги-специалиста. Впрочем, и без таких справок можно путем простых опытов и наблюдений легко убедиться в фантастичности обоих предположений. Процесс чтения написанных или напечатанных слов представляет вообще более сложный процесс, чем восприятие слов говорящего, – он требует добавочной затраты энергии и времени. Буквы и напечатанные слова – символы звуков и комбинаций таковых (произносимых слов); как бы быстро мы ни «переводили» эти символы, а все-таки для сего психического процесса требуются некоторое время и некоторая добавочная затрата нервной энергии. Читающие производят более сложную и большую работу, нежели слушающие. Но разница получается вообще не столь большая, чтобы она могла в нашем вопросе иметь существенное значение.
Приписание лекции способности сообщить за час то, «чего из книг не узнаешь и за год» и т. п., было бы фантастичным и тогда, когда вместо «за год» сказали бы «за день», и даже тогда, когда вместо «за день» сказали бы «за два часа».
Но – и это главное – мы вообще не советуем заниматься подобною арифметикою в области воспитания и образования. Она здесь неуместна и малоинтересна. Не в количестве воспринятых слов и предложений дело! Вообще в области воспитания и образования, особенно же в области высших ступеней и оттенков воспитания и в области научного (в высшем смысле) образования, лучше поменьше думать о количествах, а побольше о качествах.
С этой точки зрения (а не с точки зрения количества воспринимаемых положений) восприятие лекции в аудитории (истинного ученого) принципиально и существенно отличается от восприятия напечатанного путем чтения. Ибо здесь, в аудитории, восприятие суждений, интеллектуальных ценностей происходит на почве эмоциональной вибрации, соответствующей такому же эмоциональному процессу в психике ученого на кафедре.
Печатные знаки вообще отнюдь не фотография человеческой речи, а тем менее оживленной и воодушевленной речи, а только некий суррогат для передачи главным образом одного из элементов речи, а именно элемента интеллектуального, который искусственно выделяется из всего эмоционального процесса и путем условных символических знаков сообщается читающему. Мы ниже увидим, какие из этого вытекают последствия для интеллектуальных процессов у читателей книги и у слушателей лекции. Теперь же нас специально интересует эмоциональный процесс сам по себе. Этот процесс сам по себе весьма достоин внимания. Характер человека, его жизнь и поведение, особенно добрые и злые, высокие и низменные качества характера и жизни человека, определяются не столько количеством и даже качеством воспринятых им научных или иных положений и вообще познаний, сколько эмоциональным складом его души. Говорится в Евангелии: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто». И более ценной, глубокой и важной истины для жизни человеческой не заключает в себе и «последнее слово» теперешней науки. Человек с разными знаниями и умениями и всею властью и силою, которые даются знаниям, но со злыми и низменными чувствами не лучше зверя, а даже значительно хуже и опаснее его, ибо у него орудие сильнее и опаснее лап и челюстей зверя.
Не требуется и невозможно на земле, чтобы все посвящали себя специально культу науки, как невозможно, чтобы все были поэтами или служителями и проповедниками религии. Но тем не менее приобщение к науке путем хотя бы временного поднятия существа нашего до высоты ее, до созерцания и чувствования ее высоты и красы составляет такой же необходимый элемент полной и совершенной жизни, как такое же приобщение к другим идеальным сокровищам рода homo sapiens, например к поэзии, к религиозному чувству… Такой homo sapiens, который никогда не приобщился в этом смысле к sapientia, к высшему проявлению и воплощению этого свойства человечества – к науке, не есть homo sapiens в полном и совершенном смысле этого слова, как и тот, кто никогда в жизни не поднялся до высоты поэзии или эстетики вообще, кому даже неизвестно чувство эстетического подъема и воодушевления.
Поэтому идеалом развития человечества должно быть достижение такого состояния, чтобы никто в этом отношении не оставался в обиде, чтобы приобщение к высшим идеальным благам человеческой культуры, в том числе и к науке человеческой, могло быть уделом всех и каждого.
Теперь приобщение к науке является уделом немногих; в наиболее близком и тесном отношении к ней находятся, конечно, те, которые свою жизнь специально посвящают культу и развитию науки.
Особенно высокого подъема и сильного напряжения достигает то чувство незаинтересованного воодушевления, которое мы назвали «научным чувством», в области научного творчества в моменты творческого «вдохновения» и созерцания впервые новой истины, особенно если она освещает большие, темные прежде пространства. Такой впервые увиденный свет представляется особенно чудным и вызывает подчас экстаз и сильное физическое потрясение. Бывают, конечно, миражи, большие печали и разочарования, и абсолютной гарантии против этого почти никогда не бывает. Нечто подобное пришлось переживать довольно широким кругам образованной публики по поводу известия об открытии проф. Кохом средства излечения чахотки. Некоторые профессора-старики, покрытые славою и сами сделавшие великие открытия, объявляя в аудиториях содержание полученной из Берлина телеграммы, плакали от волнения, энтузиазм в аудиториях (например, Гейдельбергского университета) был неописуем. Дальнейшие вести причинили многим, конечно, горькое разочарование.
Эмоциональное действие научных идей, конечно, не ограничивается моментом первого появления. Характер чувства меняется, оно получает более спокойный характер, но подчас сохраняет или приобретает большую силу, и власть, и способность воодушевлять на великие подвиги. Как показывает история науки, в особенности в периоды гонения воодушевление и преданность научным идеям доходит со стороны авторов их подчас до готовности потерпеть за них смерть, например до предпочтения мучительной смерти на костре отречению от найденной научной истины.
В Новое время, вообще чуждое гонений за научные истины, воодушевление и преданность научным идеям выражаются и проявляются в менее героической, но подчас тоже не чуждой больших жертв и самоотречения форме, например в виде посвящения всей жизни тяжелому и упорному труду фактической проверки, разработки, развития и отделки известной идеи или системы идей, иногда соединенному не только с отказом от разных житейских благ, удовольствий и развлечений, но и от необходимого для элементарного физического благосостояния и здоровья отдыха. Вещественные и характерные иллюстрации к этому представляют подчас своеобразные ходячие мумии, желтые и высохшие, так что старый потертый сюртук висит как на колышке каком-то. Так изображаются типы ученых, между прочим, в немецких юмористических журналах, в иллюстрациях к анекдотам на тему об ученой рассеянности и забывчивости под влиянием идейной жизни не от мира сего. Но это материал для размышлений не только юмористического свойства, хотя подлинные воплощения ученого аскетизма подчас превосходят эти типические изображения, так сказать, еще большею резкостью и типичностью. Например, живой скелет Моммзена имеет форму пишущего человека и во время ходьбы, во время передвижения этой своеобразной тени человека, способной внушить своим появлением скорее мистические, нежели юмористические, чувства.
Другого рода вещественные иллюстрации к сказанному выше – некоторые книги. Иногда уже объем этих книг и характер примечаний к тексту наглядно свидетельствуют о таких подвигах упорного и напряженного труда, терпения и энергии в течение десятков лет, какие в других областях жизни едва ли вообще случаются. Другие книги дают подобное же свидетельство только при более близком ознакомлении с их содержанием (например, труды Канта, Дарвина и т. п.).
Некоторую роль в этой области играют, конечно, и слава, и честолюбие. Но не следует преувеличивать значение этого фактора. Стремление к научной славе играет часто более или менее сильную вспомогательную или, пожалуй, иногда даже решительно преобладающую роль главным образом в начале ученой деятельности, в области первых успехов, до приобретения славы или в начале ее. Иногда, особенно в начале углубления в науку, играют большую роль и чувства, и соображения еще менее высокого свойства, например карьерные соображения.
Но было бы весьма ошибочно так толковать вообще научные подвиги, особенно более великие из них. Люди вообще те личные «блага», которые они уже имеют, менее ценят, а иногда совсем ими перестают интересоваться. И научная слава может приесться, а иногда даже опротиветь. А затем – и это главнее – идейная, истинно научная жизнь по мере глубины и силы приобщения к ней поднимает и очищает от личных интересов, более высокие и напряженные чувства вытесняют менее высокие, и при известной высоте подъема, которой, естественно, особенно легко достигают великие творцы великих идей, такие вещи, как слава, хотя и более высокие и ценные блага, чем, например, деньги и т. п., могут остаться далеко внизу и позади. Нередко это видно уже из самого характера отстаиваемых ими идей и систем таковых и из способа их сообщения и борьбы за них. Например, если бы Кант из-за славы посвятил свою жизнь и жизненные удовольствия постоянному, тяжелому и упорному научному труду для разработки и изготовления к публичному (печатному) сообщению своей системы гносеологических, нравственно-философских и иных идей, то уж он, наверно, сумел бы придать более популярный облик как самой системе, так и форме сообщения. Разве так и такие вещи пишут люди, которым интересны «рукоплескания толпы»? Из его системы и формы сообщения ясно и очевидно, что этот человек не сделал бы не только ни малейшей уступки в области содержания, не пошел бы ни на малейший компромисс и смягчение научного радикализма своих положений, чтобы сделать их более понятными, доступными и приятными широкой публике, но не изменил бы ради этой цели даже формы выражения, ни единой из своих строгих и с точки зрения внешнего выражения формул, хотя бы такое приноровление к вкусам читателей не влекло за собою ущерба для содержания, его опошления или даже только некоторого смягчения ввиду большей удобоваримости для массы читателей.
Воодушевляют ученых и мыслителей и побуждают к борьбе за истину и к упорному труду не только идеи «собственного производства», а и другие идеи, если они им представляются истинными и ценными, особенно если они подвергаются спору и сомнению или встречают иные препятствия к распространению и торжеству. Истинному ученому, живущему полною и настоящею – не только интеллектуальною, а и эмоциональною – научною жизнью, истина дорога сама по себе, она радует и воодушевляет его и независимо от его участия в открытии ее. Какую бы великую роль ни играли в жизни науки гении, открывающие новые горизонты, создающие великие и плодотворные идеи, но еще большую роль, даже подчас в жизни, развитии и распространении этих идей, играют воодушевленные усилия и труды приверженцев, учеников, членов «школы», в которых эти идеи, хотя и не ими открытые, вызывают восторг и воодушевление. Великое воодушевление ведет часто и к великим подвигам с их стороны, нередко и к крупному дальнейшему идейному творчеству на почве идеи их учителя, к созданию важных ветвей, приложений, исправлений, подкреплений и т. д.; весьма трогательно то часто наблюдаемое в этой области явление, что они даже тогда сами ставят себя в тень знамени учителя, когда их заслуги не только по распространению и укреплению, но и по обогащению и созданию самостоятельных вкладов больше и важнее первого слова инициатора идеи или вдохновителя школы.
Больше волнуют, воодушевляют и побуждают к распространению и пропаганде, естественно, большие и важные, многообъемлющие и общие идеи. Но совершенно ошибочно было бы думать, что только крупные и общие идеи оказывают такое психическое влияние. Точно так же было бы совершенно неправильно с точки зрения действительной психологии научного мира полагать, будто интересуют и воодушевляют только идеи, имеющие практическое значение для жизни человеческой, например важные для техники, политики и т. п. Напротив, и идеи, и открытия, касающиеся отдаленнейших времен, глубокой исторической или «доисторической» древности, отдаленнейших мест и предметов (например, в области астрономии), волнуют и воодушевляют ученых, хотя относящиеся сюда проблемы имеют чисто теоретическое значение и никакой практической в тесном смысле пользы не касаются (или по крайней мере теперь не видно, чтобы могла получиться какая практическая польза, трудно таковую предвидеть). И размер волнующих ученых проблем, их решений, споров и т. д. бывает иногда очень микроскопическим (а по крайней мере теперь представляется таковым: часто трудно предвидеть будущее значение данной, теперь представляющейся микроскопическою истины, например, для решения другого, уже, может быть, очень крупного вопроса). Преинтересные, положительно трогательные (а иногда граничащие с комизмом не только для тех, которые смеются, потому что не понимают) явления в этом направлении можно наблюдать среди таких типических ученых, каких особенно много в немецких университетах. Громоносно и с сильным научным аппаратом проповедуются с кафедры и в печати путем статей и даже толстых монографий иногда такие микроскопические положения, которые у профанов возбудили бы разве презрительно-снисходительную улыбку.
А затем для понимания психологии науки и ученых надо принять во внимание, что по мере углубления в науку и роста воодушевления и любви к ней со стороны ученого данная наука растет в его глазах, приобретает все большее и большее значение и величественный вид, оттесняя на задний план не только разные мелкие житейские интересы, но и разные немелкие предметы и явления, в том числе и другие науки, по меньшей мере не менее важные, чем его специальность, при объективной оценке со стороны. То же относится к тем специальным областям данной науки, которые данный ученый специально разрабатывает, и даже к отдельным темам и проблемам какой-либо специальной области. Такому Гирке, который идее Genossenschaften (между прочим, идее, на честь первого открытия которой он отнюдь не притязает) посвятил огромную монографию, вложив в нее много лет тяжелого, по большей части крайне кропотливого и самоотверженного труда, проблема так называемых юридических лиц представляется не одним из многих второстепенных вопросов науки права, а вопросом и проблемой просто; теория юридических лиц как «социальных организмов» является одним из первых членов символа его научной веры и миросозерцания; теория же юридических лиц как фикций возбуждает в нем такое негодование (научное воодушевление проявляется и действует не только в форме преданности истине, но и в борьбе против научной неправды), что если бы эта теория имела свои легионы и с ними попыталась победоносно войти в храм науки, чтобы воцариться там, то он один бросился бы сражаться с этими легионами и положил бы свою жизнь за теорию «социальных организмов». Знающие его лично, слышавшие его лекции или имевшие случай беседовать с ним об этих проблемах, думаю, не сочтут эту характеристику выдумкой.
Описанные, весьма характерные для психологии ученого мира явления, в частности вырастание облюбованных областей знания, а подчас и мелких проблем до гигантских размеров в глазах ученых, объясняются, конечно, не чисто интеллектуальными процессами (например, Гирке не только высокоталантливый и великий юрист, но и вообще очень умный человек), а именно эмоциональным элементом, присущим всякой истинной науке. И, собственно, спорить против таких возвеличений не приходится, как нельзя, например, спорить с поэтом, ставящим поэзию выше всего, доказывая, например, что торговля или ремесла заслуживают предпочтения, или спорить с отцом, в своем сыне души не чающим, доказывая ему, что скорее следует ценить и любить такого-то другого, например племянника, очень выдающегося и прекрасного мальчика во всех отношениях. Притом такое преимущественное воодушевление по поводу облюбованной науки и специальных ее областей есть такая сила, без которой наука и сотой доли той грандиозной работы, которую она совершает на благо человечества, мощно двигая вперед его духовное и материальное благосостояние, не могла бы совершить.
Тем не менее в описанной склонности ученой психики к научным пристрастиям и возвеличениям подчас микроскопических вопросов или очень специальных областей есть и своя опасная сторона: хотя эта тенденция вовсе не ведет необходимо к односторонним выводам и ошибкам, а соответственные эмоции в нормальных случаях только усиливают освещение исследуемой области и дают возможность ученому узреть то, чего бы другой, менее заинтересованный духовно, менее воодушевленный, никогда бы не увидал и не открыл, все-таки в этой тенденции подчас кроется опасность сужения горизонта, развития духовной слепоты по отношению к другим областям знания и мысли, иногда даже полного извращения ума и миросозерцания, а то и потери равновесия в смысле психического здоровья. И именно истинные ученые, а не ремесленники и шарлатаны подвергаются такой опасности. Пожалуй, инстинктивное чутье (или и осознание) этого является наряду с другими одною из сильных побудительных причин, заставляющих ученых группироваться, искать общения с другими учеными. Чувствуется сильнейшая потребность иметь таких коллег, с которыми можно было бы дружно побеседовать или поспорить и повоевать (пожалуй, еще большее удовольствие!) на научные темы, «освежиться» в их обществе и т. д. – и это необходимейший элемент гигиены ученой профессии. Его доставляет обыкновенно в лучшей и идеальнейшей форме всякая сильная и здоровая universitas litterarum. Здесь, в университете, происходит как бы кровообращение в организме, циркуляция мысли.
Иногда здесь появляется своего рода сердце университета, центр импульсов и оживления для многих других членов, в виде, например, какого-либо гениального философа, дающего импульсы не только университету, но и всей эпохе. Теперь, положим, таких нигде не видно, и это вовсе не необходимо для силы и блеска университета – достаточно, чтобы принимающие участие в жизни ученой корпорации вносили хотя бы скромную лепту в духовное общение. Достойные примеры научных подвигов или по крайней мере истинно научной деятельности, столкновение, трение и обмен мыслями и миросозерцаниями, взаимное сообщение идей и идейного воодушевления – все это вырабатывает и создает в виде, так сказать, средней равнодействующей «университетский дух», который представляет нечто неопределимое и неуловимое – отнюдь не совокупность определенных идей и мыслей, а скорее веяние высоких чувств и настроений. Это лучшее украшение всякого живого и здорового университета и вместе с тем сила, движущая и направляющая, захватывающая и заставляющая двигаться в своем направлении подчас и тех вновь поступающих в общение членов, у которых вначале было совсем другое в сердце и уме, менее достойное. Университетский дух – великий педагог и лучший управитель и попечитель университета, хотя он не издает никаких правил и распоряжений, не имеет канцелярии, чиновников и иных видимых орудий и средств власти.
Эти замечания, впрочем, не означают мистического представления какого-то особого существа. Дело идет только о психическом взаимодействии отдельных людей и о порождаемой им общей духовной атмосфере. Эта атмосфера тем выше и чище, чем достойнее отдельные члены общения. Университетский дух падает и разлагается от введения в коллегию недостойных элементов; он неминуемо возникает и растет по мере увеличения числа и преобладания верных и преданных слуг науки – настоящих ученых.
В связи с вопросами психологии науки нам необходимо было уяснить, между прочим, и отношение учебников к подлинной научной жизни, к живому научному процессу. Что касается отношения учебников к эмоциональному элементу научного процесса, вопроса о том, насколько в этом отношении и направлении руководства могут быть признаны верным отражением и изображением настоящей, живой науки, то и здесь приходится дать только отрицательный ответ.
Учебники – невоодушевленные предметы не только в буквальном, но и в том переносном смысле, что не в них живет и отражаются воодушевление и энтузиазм науки, что и в этом смысле в них не воплощается и даже не отражается настоящая природа научного процесса. Это только «пособия», содержащие склад некоторых понятий и сведений, необходимых как средство предварительной ориентировки, как минимальная амуниция при движении по пути науки к высотам настоящего царства ее. До известной степени, конечно, и учебники могут отражать научное воодушевление автора, но все-таки не для отражения эмоциональной жизни науки они предназначены и не для этой цели они являются годным средством. И даже считается достоинством учебников как таковых (сообразно особому назначению сих предметов) если не бесчувственность, то во всяком случае бесстрастие – холодная объективность.
Впрочем, разъединение учебной литературы и эмоциональной стороны научного процесса представляет столь резко выраженное свойство и тенденцию этой литературы, что приводить здесь подробные доказательства означало бы ломиться в открытые двери[44 - Такая же тенденция, хотя и в менее резкой форме, проявляется и в других областях печатной научной литературы (не в лекциях!). В основе ее, пожалуй, отчасти лежит недоразумение относительно существа и смысла научной «объективности». Научная объективность состоит не в устранении чувства (результатом были бы научная impotentia и чисто ремесленное производство), а именно в решающем значении научного чувства (убеждения), причем отнюдь не вредит подъем его хотя бы до энтузиазма и экстаза; требуется только устранение тех иных чувств и интересов, которые могут явиться конкурентами и врагами научного чувства. Иногда, может быть, играет известную роль то, что называется «ложным стыдом». Впрочем, научное чувство и характер содержания научных книг (не только учебников) обыкновенно таковы, что и при отсутствии умышленной тенденции оно (это чувство) в печатной литературе может находить разве лишь слабое и редкое отражение. Иное дело лекция, о чем см. ниже].
Тем более само собою разумеется и не требует никаких пояснений решение вопроса о том, можно ли познакомиться с тем своеобразным проявлением научной жизни, которое называется университетским, академическим духом, только путем пребывания в сфере действия этого духа, или же для этого достаточно выписать и прочитать или выучить известную совокупность учебников.
Поэтому я ограничиваюсь констатированием этих пунктов, чтобы перейти к следующей ступени выяснения смысла, значения и идеала университета как учебного заведения, а именно к выяснению смысла и значения того процесса, на котором зиждется университетское преподавание, – процесса чтения-слушания научных лекций.
В. Университетское преподавание. Его психология и значение
I.
Душевные волнения, эмоции обыкновенно стремятся к разряжению, к внешним проявлениям; отсюда возникла, между прочим, теория, отождествляющая эмоции с их разряжением, – теория, по моему убеждению, весьма ошибочная, а здесь во всяком случае не требующая оспаривания, но тем не менее характерная как показатель тесной связи этих двух процессов. Обыкновенно эмоции вызывают, между прочим, потребность поделиться с другими, сообщить другим то, что нас волнует. Так и волнующие нас идеи, т. е. мысли, связанные с более или менее сильными эмоциями, создают потребность высказаться, сообщить другим, а идеи, волнующие нас в положительном смысле, воодушевляющие и представляющиеся ценными, истинными, дорогими, создают потребность склонения и убеждения и других в их пользу, потребность активного учения, проповеди.
Существует легенда, что Будда, открыв наконец после долгой борьбы и искания известные три основные истины (относительно страданий живых существ и т. д.), усомнился и даже долго колебался, следует ли ему сделаться учителем найденной им (философской) системы истин или оставить их, так сказать, при себе. Мне эта легенда представляется среди прочих сведений о жизни и проповеди этого великого философа и учителя, отчасти правильных (как теперь убедительно доказывают знатоки-специалисты), отчасти, несомненно, неправильных, именно только легендой, мифом. Не только последующая воодушевленная и поразительно успешная проповедь этих истин и само их содержание, но и сама духовная природа идейного творчества и чувств и стремлений, с ним связанных, мало говорит в пользу вероятности упомянутого рассказа. В основе развития этой легенды скорее было наивное стремление возвеличить ценность тех высоких истин, которые могли и погибнуть для рода человеческого, и заслуги Будды, который сжалился над непросвещенными и посвятил себя их обучению. Христос уже в отрочестве стремился обучать других, а его воодушевленные и великие духом ученики сделались бы апостолами и проповедниками даже и без особого поручения Учителя. Платон, создавая нечто вроде «университета» для себя, академию, постоянную аудиторию, как и вышедший из этой великой аудитории наиболее выдающийся ученик Аристотель, в свою очередь (после самостоятельной переработки слышанного от Платона), основавший школу, следовал тому же стремлению, общему творцам и поклонникам идей, к их распространению. Платов учился философии у Сократа. И этот философ имел свою постоянную аудиторию, хотя она и не находилась в его доме (там была Ксантиппа, в университетском деле мало смыслившая и даже прямо враждебно к науке настроенная дама, – она бы устроила обструкцию). Аудитория Сократа странствовала по площадям и улицам; Сократ ходил и заходил всюду, где он только мог приютиться со своими учениками и собрать аудиторию «вольных слушателей».
Возникновение университетов следует психологически объяснять не столько потребностями и стремлением к знанию со стороны неученых, сколько стремлением к общению и сообщению своих идей и открытий другим со стороны ученых. Стремление и потребность учить, проповедовать (profteri, professio) представляли в начале развития университетов и представляют и теперь – во всяком случае со стороны истинных ученых, а особенно со стороны тех, которые много и усиленно думали и имеют много, чем поделиться и чему поучить других, – существенный фактор и условие силы и успеха университетского учения, и без понимания этого фактора не может быть и правильной теории и сознательной политики университетского дела.
Нельзя себе представлять дело так, будто ученые, читающие лекции в университете, – это чиновники, за жалованье исполняющие работу чтения лекций, отбывающие службу, радующиеся, может быть, праздникам или чрезвычайным случаям отдыха и освобождения от отбывания лекционной повинности и нуждающиеся, может быть, в надзоре, контроле и понукании к аккуратному отбыванию своей службы (для каковой цели, например, недавно введена мера сообщения каждого профессора ректору для сведения Министерства о дне начала и окончания чтения лекций с его стороны и т. п.). Это, как, например, и попытка изыскать меры, которые бы заставили членов факультета являться в достаточном числе на ученые диспуты, симптомы и образцы принципиально ошибочной политики, в корне искажающей всю психологию университетского дела, вносящей в университет совершенно ложную ноту и не усиливающей усердия, а, как раз напротив, подрывающей и расшатывающей нормальную и желательную мотивацию профессорского поведения.
Единственно правильна та университетская политика, которая исходит из предположения свободного влечения и охотного чтения лекций не из страха, а из любви к этому занятию; точно так же и посещение заседаний факультета, совета и ученых диспутов должно происходить из любви к науке и радостного служения ей.
Нас спросят: «А если такое предположения не оправдывается?»
На это я отвечу: «В таком случае надо прийти к выводу о том, что вкралась серьезная болезнь, органический порок, и паллиативы тут ничем не помогут: неуместные лекарства только усилят болезнь. Надо обратиться к коренному лечению».
С этой же точки зрения не нужны университету назначенный и считающийся начальством ректор или попечитель. А если фактические обстоятельства таковы, что они кажутся нужными, то это уже банкротство университетской политики, поверхностный диагноз и такое же лечение. Притом это даже не паллиативы, а простые фикции, ибо начальнические меры и манеры не удаются и обыкновенно инстинктивно чувствуются неуместными и избегаются, так что получается только начальство на бумаге; нравственная ответственность с тех, на которых она по существу лежит, снимается, а те, на которых она на бумаге возлагается, только ощущают свое ложное положение, ничего сделать не могут и обыкновенно и не решаются предпринимать. Поэтому Устав 1884 г., заводя, по-видимому, начальство и контроль, на самом деле содействовал появлению анархии, ослаблению чувства долга и нравственной ответственности в университете и появлению таких болезней и злоупотреблений, какие были бы немыслимы при ином положении дела.
Ошибочно было бы и так толковать нормальную и желательную психологию университетского преподавания, будто здесь основная желательная нота состоит в педагогических склонностях и мотивах; не следует думать, что основная пружина деятельности идеального профессора такова же, как, например, у родителей, обучающих и воспитывающих своих детей, или у педагогов по любви и призванию, например тех учителей, которые с величайшим усердием и удовольствием обучают мальчиков грамоте, грамматике, арифметике и стараются всячески внушить им хорошие правила поведения и т. д. Это очень почтенная и даже высокая психология. Среди разных человеческих типов мало можно найти столь симпатичных и достойных любви и уважения типов, как тип педагога по любви и призванию. И я отнюдь не ставлю тип надлежащего профессора – во всяком случае с нравственной точки зрения – выше типа педагога по любви и призванию. Как тип сестры милосердия по любви и призванию идеальнее с нравственной точки зрения типа художника, предающегося свободному эстетическому творчеству (первая посвящает себя ближним, а второй удовлетворяет свои эстетические потребности), так и тип идеального педагога, хотя бы учителя народного училища, по-моему, с этической точки зрения идеальнее типа надлежащего профессора университета.
Цель и смысл моих замечаний вовсе не в превознесении и возвеличении профессоров как таковых. Но последних следует строго отличать от педагогов в собственном смысле, если мы желаем правильно понять профессорскую психологию и вести рациональную университетскую политику. Всякая деятельность и всякое учреждение имеют свою особую психологию, свой дух и свое назначение, и всякая политика должна исходить из уяснения этой психологии и действовать сообразно ее природе. И вот, повторяю, профессорская психология не есть педагогическая психология, и стремление заставить профессоров быть педагогами, сближаться и вступать в общение на педагогической почве и с педагогической целью со студентами и т. д. – это идея, психологически очень понятная ввиду явлений последнего периода университетской жизни, но она едва ли может дать обильные результаты на деле. Хороший профессор обыкновенно был бы довольно плохим педагогом, а идеальнейший ученый и профессор оказался бы, пожалуй, идеально неудачным педагогом и поэтому даже, пожалуй, очень плохим учителем гимназии. Выше (с. 46) я привел воображаемый пример Канта, Гегеля, Фихте, занимающихся собеседованием по заданному уроку, проверяющих прилежание отдельных студентов и т. д.: «Фихте стал бы, пожалуй, нервничать, а Гегель стал бы во вред серьезному и систематическому преподаванию увлекаться течением и изложением собственных идей…» Из названных великих философов особенно Фихте, как известно, был великим профессором в смысле необычайного, удивительного успеха его лекций. Это, несомненно, идеальный профессор, но место ему было именно в университете, а не в педагогическом заведении. Одна уже углубленность в свои мысли, рассеянность и непрактичность типичных ученых и профессоров делает их негодными для педагогической деятельности в собственном смысле, где требуется величайшее внимание к другим, к движениям их души, большой практический такт и т. д.
Типичный и в своем деле идеальный профессор столь же годится в педагоги, как и в музыканты. Бывают среди профессоров и музыканты, бывают и очень практичные люди, которые могли бы быть прекрасными купцами и промышленниками, бывают среди них и люди с педагогическими склонностями и качествами. Они выделяются из общей профессорской среды, и их можно легко узнать и отличить. При прежнем режиме они, между прочим, наводили на себя подозрения именно из-за своих педагогических склонностей и происходившего под влиянием этих склонностей сближения со студентами. Недавно лишились мы одного профессора, который представлял соединение и истинного ученого, и профессора, и вместе с тем педагога по призванию, что проявилось, между прочим, и в его литературной деятельности (в прекрасных печатных поучениях по адресу молодежи). Я не отрицаю, стало быть, возможности такого соединения, тем менее я отрицаю желательность и ценность такой комбинации. Но только я утверждаю, что такие соединения представляют исключительные явления – именно соединения двух «характеров», так что никакой общей директивы для университетской политики на этой почве найти нельзя. Само собою, что предыдущие замечания не означают вовсе утверждения отсутствия у профессоров человеческих чувств, и в частности любви и симпатии к учащейся молодежи, желания ей всякого блага и стремления быть ей полезным. Только нравственные уроды могут быть чужды этих чувств и стремлений, и смысл моих замечаний, конечно, не тот. Дело идет, конечно, не о нежелании всячески быть полезным учащейся молодежи, а о различии характера, способов и приемов деятельности на пользу других. Все трудящиеся люди полезны другим, и все нормально развитые в нравственном отношении люди желают быть полезными другим. Но один полезен одним искусством и умением, другой другим, третий третьим, и полезнее всего для других те, которые попали в свою колею, которые занимаются именно тем, к чему они чувствуют влечение и к чему они больше всего способны. Поэтому я с радостью приветствую принцип любви и сердечного попечения и с точки зрения университетского дела (это такой великий и всеобъемлющий принцип, что он может и должен быть девизом везде, где живут люди, даже в тюрьмах и на каторжных работах, а без него никакое человеческое дело – не только школьное, но даже и тюремное – истинно преуспевать не может), но только я полагаю, что есть тысячи способов и родов применения этого великого принципа; тех способов его применения и воплощения, которых можно требовать от одних учреждений, нельзя требовать от других, подчас под страхом полного извращения и искажения природной функции данного учреждения.
II.
Нормальная, соответствующая природе ученого-профессора и ученого учреждения – университета движущая психическая сила лекции (необходимая для успеха ее) есть психика не педагога, а психика ученого, которого воодушевляют его научные убеждения, то, что он считает истиною, особенно то, что он впервые нашел как истину, но также и другие научные истины (ср. выше, с. 174–175). И он выступает здесь, в аудитории, не в качестве praeceptor’a (наставника), а в качестве professor’a (исповедующего публично и проповедующего свои научные убеждения). Перед ним не ученики и не мальчики, а взрослые люди (между ними попадаются и старики, хотя и не в мундире или в мундире чиновника какого-либо ведомства), явившиеся добровольно и готовые выслушать истину (т. е. то, что по убеждению профессора истина) и его доводы и убедиться в правильности их в случае достаточной убедительности. А если тема профессора очень интересует и даже волнует, то и эти слушатели стушевываются: он смотрит на них, но не видит их, а во всяком случае не различает отдельных лиц, а видит только сияние идей, увлекается течением мысли и больше ничего не видит и не слышит, подчас даже не слышит и звонка, хотя звук его очень резок, и пробуждение происходит от инстинктивного чувства непривычно продолжительного времени лекции.
В немецкой университетской юмористике, составляющей любимую тему и общих юмористических журналов, рассказываются разные случаи весьма поразительной до комизма забывчивости вследствие увлечения профессора течением своих идей во время лекции (например, во время присутствия на лекции владетельного князя данного государства или короля) или и независимо от лекций; многие из этих анекдотов, конечно, вымышлены и содержат большое преувеличение, но тем не менее эта юмористика исходит из более правильного понимания психологии типа ученого профессора, чем некоторые новые предложения относительно «надлежащего университетского преподавания», хотя они и исходят от людей, приобретших титул и звание профессора.
На слушателей лекция искренне увлекающегося течением идей профессора действует вовсе не в комическом направлении. Этого не бывает даже в тех случаях, если дело идет о темах самих по себе малых, так что при спокойном и холодном наблюдении могло бы получиться впечатление комического несоответствия размера темы, с одной стороны, пафоса и увлечения профессора, с другой стороны.
Эмоции при живом их выражении заразительны, заразительно действует на слушателей и научное чувство воодушевленного ученого (чему еще обыкновенно способствуют и обычный возраст слушателей, престиж университета и университетской кафедры самих по себе, научное имя профессора и т. д.).
Нам выше пришлось, между прочим, встретиться с противоречивыми утверждениями относительно, так сказать, количественной вместимости лекций, относительно того, что вмещает и сообщает час лекции. По одному мнению, «лекция есть живое слово, которым можно за час сообщить то, чего из книг не узнаешь и за год»; по другому мнению, напротив, сообщение содержимого тома в 500 страниц путем лекций требует около 100 часов, между тем как чтение того же тома требует 16–20 часов. По первому мнению, стало быть, вместимость лекции превосходит весьма многократно количественный успех чтения; по другому, напротив, последняя величина превосходит первую более чем в пять раз.
Интересная комбинация сухой и точной арифметики со свободой фантазии.
Как-то никто не догадывается взглянуть в экспериментальную психологию или справиться у коллеги-специалиста. Впрочем, и без таких справок можно путем простых опытов и наблюдений легко убедиться в фантастичности обоих предположений. Процесс чтения написанных или напечатанных слов представляет вообще более сложный процесс, чем восприятие слов говорящего, – он требует добавочной затраты энергии и времени. Буквы и напечатанные слова – символы звуков и комбинаций таковых (произносимых слов); как бы быстро мы ни «переводили» эти символы, а все-таки для сего психического процесса требуются некоторое время и некоторая добавочная затрата нервной энергии. Читающие производят более сложную и большую работу, нежели слушающие. Но разница получается вообще не столь большая, чтобы она могла в нашем вопросе иметь существенное значение.
Приписание лекции способности сообщить за час то, «чего из книг не узнаешь и за год» и т. п., было бы фантастичным и тогда, когда вместо «за год» сказали бы «за день», и даже тогда, когда вместо «за день» сказали бы «за два часа».
Но – и это главное – мы вообще не советуем заниматься подобною арифметикою в области воспитания и образования. Она здесь неуместна и малоинтересна. Не в количестве воспринятых слов и предложений дело! Вообще в области воспитания и образования, особенно же в области высших ступеней и оттенков воспитания и в области научного (в высшем смысле) образования, лучше поменьше думать о количествах, а побольше о качествах.
С этой точки зрения (а не с точки зрения количества воспринимаемых положений) восприятие лекции в аудитории (истинного ученого) принципиально и существенно отличается от восприятия напечатанного путем чтения. Ибо здесь, в аудитории, восприятие суждений, интеллектуальных ценностей происходит на почве эмоциональной вибрации, соответствующей такому же эмоциональному процессу в психике ученого на кафедре.
Печатные знаки вообще отнюдь не фотография человеческой речи, а тем менее оживленной и воодушевленной речи, а только некий суррогат для передачи главным образом одного из элементов речи, а именно элемента интеллектуального, который искусственно выделяется из всего эмоционального процесса и путем условных символических знаков сообщается читающему. Мы ниже увидим, какие из этого вытекают последствия для интеллектуальных процессов у читателей книги и у слушателей лекции. Теперь же нас специально интересует эмоциональный процесс сам по себе. Этот процесс сам по себе весьма достоин внимания. Характер человека, его жизнь и поведение, особенно добрые и злые, высокие и низменные качества характера и жизни человека, определяются не столько количеством и даже качеством воспринятых им научных или иных положений и вообще познаний, сколько эмоциональным складом его души. Говорится в Евангелии: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто». И более ценной, глубокой и важной истины для жизни человеческой не заключает в себе и «последнее слово» теперешней науки. Человек с разными знаниями и умениями и всею властью и силою, которые даются знаниям, но со злыми и низменными чувствами не лучше зверя, а даже значительно хуже и опаснее его, ибо у него орудие сильнее и опаснее лап и челюстей зверя.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: