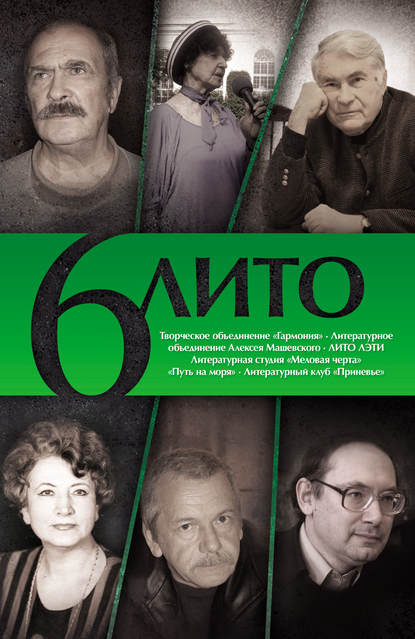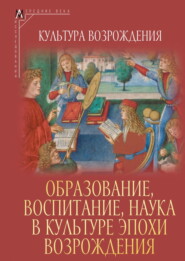По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
6 ЛИТО
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
упрямым сном. А в нём плоды
спасённые летят резвиться
бесовски чёрной близ воды.
Морзянка медлит, горн трубит,
гетера мудрая хохочет.
Ревёт, и стонет, и кипит,
и никого рожать не хочет
изнемогающий пиит.
А ты, моих седых оплот
Ночей, наездница-отрада,
зачем завесть желаешь плод
из крови и соплей?
Не надо
бояться смерти так и ада!
Уж в нас они.
Стучат в живот.
* * *
Вот, вдохновеньем даровит,
но обделён талантом тщетным,
увлечь старается пиит
очей огнем и слогом бедным.
Грешно куражиться над ним,
но и внимать невыносимо.
Закройся поскорей, сим-сим,
лишь молишь, словно раб сим-сима.
Зачем вообще сюда…
А где
дышать надежде неподвижной,
прозрачной от житья в среде
непревзойденной, мёртвой, книжной?
А здесь и гендер, и гормон,
и губ азарт, и плоти морок
витают с четырех сторон,
щекочут переборки створок.
И что ж, что нету на земли
таланта?
Мир и сам бездарно
устроен. Сколь его не зли —
в горсти сжимает благодарно.
Дыши, терпи, кривись, вбирай
флюиды чёртовы.
Лопатки
до тошноты набей, и в прятки
бодрей с монадами играй!
Лора
Зимою открываю форточку,
впускаю воздух, чтобы пах,
и подставляю снегу мордочку —
аж прямо иней на клыках!
С любимым вечер, слаще патоки,
вдруг вспоминаю хищным телом
(он предложение мне так-таки,
как ни стонала я, не сделал).
Весна уж чуется в скукоженном
промерзшем воздухе из фортки.
Ах, помню, в приступе восторженном
я все его сожрала фотки!
Кому теперь вилять с приязнию
тугим хвостом?
Поджавши оный,
удрал мил-друг, пропал за Клязьмою,
забыл мой облик лунно-лонный.
Ловлю снежинки, обреченные
на смерть в каморке с батареей…
Зачем сердца ожесточенные
с моей душою-лорелеей
играют в эти игры зверские,
беспечно мчат на рифы страсти?!
На мой златой лобок плебейские
слюнявые раззявив пасти.
* * *
Ах, кто бы дырочку протёр,
в которую верблюд с иглою
следит, горбатый вуаёр,
как дерзкий Дафнис клеит Хлою.
Прикидываясь тюфяком,
ласкает как бы неумело…
Трепещет Хлоя мотыльком,
не умолкает филомела.
спасённые летят резвиться
бесовски чёрной близ воды.
Морзянка медлит, горн трубит,
гетера мудрая хохочет.
Ревёт, и стонет, и кипит,
и никого рожать не хочет
изнемогающий пиит.
А ты, моих седых оплот
Ночей, наездница-отрада,
зачем завесть желаешь плод
из крови и соплей?
Не надо
бояться смерти так и ада!
Уж в нас они.
Стучат в живот.
* * *
Вот, вдохновеньем даровит,
но обделён талантом тщетным,
увлечь старается пиит
очей огнем и слогом бедным.
Грешно куражиться над ним,
но и внимать невыносимо.
Закройся поскорей, сим-сим,
лишь молишь, словно раб сим-сима.
Зачем вообще сюда…
А где
дышать надежде неподвижной,
прозрачной от житья в среде
непревзойденной, мёртвой, книжной?
А здесь и гендер, и гормон,
и губ азарт, и плоти морок
витают с четырех сторон,
щекочут переборки створок.
И что ж, что нету на земли
таланта?
Мир и сам бездарно
устроен. Сколь его не зли —
в горсти сжимает благодарно.
Дыши, терпи, кривись, вбирай
флюиды чёртовы.
Лопатки
до тошноты набей, и в прятки
бодрей с монадами играй!
Лора
Зимою открываю форточку,
впускаю воздух, чтобы пах,
и подставляю снегу мордочку —
аж прямо иней на клыках!
С любимым вечер, слаще патоки,
вдруг вспоминаю хищным телом
(он предложение мне так-таки,
как ни стонала я, не сделал).
Весна уж чуется в скукоженном
промерзшем воздухе из фортки.
Ах, помню, в приступе восторженном
я все его сожрала фотки!
Кому теперь вилять с приязнию
тугим хвостом?
Поджавши оный,
удрал мил-друг, пропал за Клязьмою,
забыл мой облик лунно-лонный.
Ловлю снежинки, обреченные
на смерть в каморке с батареей…
Зачем сердца ожесточенные
с моей душою-лорелеей
играют в эти игры зверские,
беспечно мчат на рифы страсти?!
На мой златой лобок плебейские
слюнявые раззявив пасти.
* * *
Ах, кто бы дырочку протёр,
в которую верблюд с иглою
следит, горбатый вуаёр,
как дерзкий Дафнис клеит Хлою.
Прикидываясь тюфяком,
ласкает как бы неумело…
Трепещет Хлоя мотыльком,
не умолкает филомела.