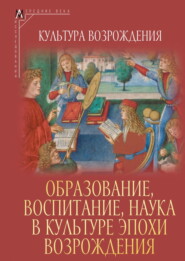По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Этическая мысль: современные исследования
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во всем, что было сформулировано выше в виде концентрированного обзора арендтовской трактовки проблемы «мораль и политика», нельзя не заметить, насколько отчетливо Х. Арендт понимала содержательную и целевую неоднородность антиэгоистической нормативности, которая определяет наше поведение. Традиционное обозначение этой нормативности словом «моральная» вполне может служить средством затемнения ее внутреннего раскола, способом искусственного сглаживания противоречий. Поэтому автор стремится упразднить такую возможность путем проведения строгих границ между сферами абсолютной морали и политики.
С моей точки зрения, соединение разнородных по содержанию и цели фрагментов нормативности под единой рубрикой «мораль» имеет не менее глубокое значение, чем последующее осознание этой разнородности. Такое соединение совсем не случайно, а конфликты и моменты противостояния, полемически заостренные Х. Арендт, существенны, но не фатальны. Если вести речь о самой Х. Арендт, то ее позиция также скрывает определенную двойственность в этом отношении. Свойственное ей глубочайшее возмущение тоталитарным «зверством» имеет корни, без сомнения связанные с абсолютной моралью. Ведь даже использование понятия «зверство» возможно только в свете представлений о том, на что имеет моральное право каждый человек, вне зависимости от его принадлежности к какому-либо партикулярному сообществу. В арендтовской концепции политической нравственности, на мой взгляд, экстремистски и гиперболически сформулированы вполне оправданные опасения: озабоченность бездумным, прямолинейным перенесением моральных стандартов в политическую практику, неверие в способность любой, даже самой тонко проработанной вариации морально-правового синтеза реализовать фундаментальные ценности морали.
Однако анализ арендтовской политической этики был проделан мною не просто ради того, чтобы выявить двойственность позиции политического философа или попытаться сформулировать аргументы против столь жесткого и бескомпромиссного разделения морали и политики. Этот анализ создает очень плодотворный контекст для коррекции и переосмысления того понимания морали, которое было представлено в начале данного исследования. В описании Х. Арендт противостоящие друг другу элементы нравственной нормативности никак не соответствуют простому и, казалось бы, очевидному делению на социально-дисциплинарные и индивидуально-перфекционистские. Ее настойчивые попытки защитить самостоятельность норм и добродетелей политической нравственности указывают на нечто большее: то ли на существование неотраженного в исходной двухчастной схеме третьего элемента, то ли на присутствие особого, не охарактеризованного еще измерения или качества социальной этики.
Обращаясь к личному опыту философских дискуссий, я могу сказать, что чтение текстов Х. Арендт заставило меня пересмотреть свое отношение к тому возмущению, которое вызывает подчас у философов политики стремление рассматривать политическую этику как часть социальной. Как для этика по философской специализации, это стремление казалось мне совершенно оправданным. Чем еще может быть политика, как не полем организационного осуществления фундаментальных интересов общества в целом и отдельных его представителей? Эти интересы могут приводится к общему знаменателю либо в свете соображений суммированной полезности, либо в категориях осуществления неотъемлемых прав. Но разница утилитаристской социальной этики и социальной этики прав человека вторична по отношению к той естественной иерархии, которая существует между политикой и моралью. Любая попытка как-то перевернуть эту иерархию или просто пересмотреть ее казалась мне следствием дисциплинарной зашоренности политических философов. Однако, как я уже отметил, тексты Х. Арендт дают серьезные основания если не для абсолютной автономизации политики, то, уж во всяком случае, для выделения особой роли политического взаимодействия на едином фоне общественных отношений.
Как известно, одним из основных тезисов философии Х. Арендт является отделение политической сферы от области общих и групповых, но при этом всего лишь социальных интересов, подлежащих реализации через аппарат государственного принуждения. Политика определяется ею совсем не по формальному критерию связи межчеловеческих отношений с публичной государственной властью (да и само понятие власти приобретает у нее особое, неконвенциональное значение). Политическая коммуникация представляет собой для Х. Арендт не инструментальную деятельность, а особую экзистенциальную сферу, в которой находят удовлетворение фундаментальные потребности человека, не связанные с простым поддержанием жизни и технологическим освоением реальности. Существование политики коренится в тех способностях, которые отделяют человека от других живых существ: в способности к речи и способности к совершению поступка. Каждый человек есть уникальная личность, которая способна доводить природное разнообразие, присутствующее во всех вещах и существах, «до выраженности, способна отличать самого себя от других и в конечном счете выделять себя из них, чтобы сообщать миру не просто что-то – голод, жажду, расположение, отвращение или страх, – но во всем этом также и самого себя» (VA 229).
Способность к новому началу, связанная с фактом «рожденности» (natality) каждого из нас, дополняется инициативой, стремлением к принятию решений и обеспечивает постоянное «выступание-в-явленность принципиально уникального существа». Этот важнейший процесс обеспечивается через систему действий и слов, обращенных к другому человеку и вплетенных в «ткань общечеловеческой связи».[76 - Подробно о роли понятия «рожденность» в философии X. Арендт см.: Bowen Moor P. Natality, Amor Mundi and Nuclearism in the Thought of Hannah Arendt // Amor Mundi. Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt. P. 135–156; Schell J. A Politics of Natality // Social research. Vol. 69, № 2. 2002. С 461–471.] Именно этой стороне человеческого существования отвечает политика, ведь, с точки зрения Х. Арендт, «выступание-в-явленность» уникальной личности возможно исключительно в ходе самоутверждения среди равных при решении общих вопросов путем взаимного убеждения. Только область коммуникации равноправных граждан позволяет в достаточной мере раскрыться индивидуальности человека или, вернее, определиться ей.
Никакая интроспекция, никакая самая тщательная рефлексия не могут выполнить этой роли. Душа индивида оказывается непроглядно темна для его персональных усилий по самопознанию, по постижению глубинных мотивов и потребностей, поскольку последние хаотичны до их вступления в освещенное пространство публичной коммуникации. С одной стороны, именно под взглядом Другого и в связи со взглядом на него личность человека обретает определенную форму, способную выразиться в связном повествовании о ней (нарративном единстве), с другой стороны, всесторонняя, целостная картина собственного Я сокрыта от самого человека, но при этом явлена окружающим, вовлеченным в совместное с ним действие.
Парадигматическое выражение политического пространства, в котором поступки и слова находятся на первом месте, а прочие проявления человеческой практики и теоретическая деятельность занимают довольно скромное место, Х. Арендт усматривает в древнегреческом полисе. С ее точки зрения, полис, в сравнении с другими системами организации общественной жизни, имел две дополнительных цели, отвечающих экзистенциальному содержанию межчеловеческого взаимодействия, то есть естественному стремлению людей сделать совместное существование не только эффективным, но позитивно смысловым. Во-первых, «полис имел задачу упорядоченного предоставления ситуаций, в которых можно было стяжать «бессмертную славу», соответственно организовать стечение событий, когда каждый мог бы отличиться и показать в слове и деле, кто он таков в своей неповторимой особности». Во-вторых, «задачей полиса было предоставить сцену, где могла зазвучать, чтобы пребыть в поколениях людей, непреходящая слава великих поступков и речей, и как бы дать таким образом поступку независимость от создающих и поэтических искусств» (VA 261). Конечно, опыт полисной жизни утрачен в условиях современного общества, но он напоминает нам о той стороне человеческого существования, которая по возможности должна быть сохранена и восстановлена в совершенно ином культурном контексте.
Пути устранения политики из публичного пространства
Столь ярко и смело обрисованный Х. Арендт экзистенциальный аспект политики испаряется, по ее мнению, при наличии малейшей примеси социально-дисциплинарного или производственно-экономического содержания, равно как и малейшей примеси корыстного группового интереса. Дж. Катеб в работе о политической этике Х. Арендт попытался определить ряд формальных критериев, по которым она очерчивает ту сферу, где возможна политическая деятельность. Его очень удачная и лаконичная сводка выглядит следующим образом. Политическое действие «должно включать отношения равных, оно должно быть связано с убеждением, а не принуждением; оно не должно быть инструментальным; оно не должно иметь дела с интересами или жизненными процессами; оно должно быть связано с вопросами, которые неопределенны и не допускают одного и только одного правильного ответа; оно должно получать свой порядок из серьезных и даже неотложных проблем, и, наконец, оно должно состоять из великих и раскрывающих индивидуальность разговоров, свободных от жаргона и технического лексикона».[77 - Kateb G. Hannah Arendt: Politics, Conscience, Evil. Oxford: Martin Robertson, 1983. P. 21.]
Эти жесткие и бескомпромиссные критерии отсекают основную часть современного политического процесса, своего рода «нормальную» политику, от политики полисной и революционной, воплощающей в себе экзистенциальное значение политического. В силу этого Х. Арендт так легко обесценивает и переговорный процесс, который приводит к согласованию частных социально-экономических интересов, и социально-экономическую реформаторскую деятельность. И в первом, и во втором случае содержание человеческих поступков безнадежно привязано к поддержанию порядка в социальных системах и увеличению их продуктивности, а способ решения этих вопросов требует утилитарной калькуляции потерь и приобретений, а не агонистического столкновения суждений.
Не случайно, само понятие «социальный» воспринимается Х. Арендт как продукт порочной практики эпохи Нового времени. Его возникновение знаменует собой умирание наиболее ценных элементов политической жизни и грубое вторжение в сферу публичного того, что раньше было приватным. Слово «социум» для философа не просто нейтральное обозначение совокупности всех мыслимых взаимодействий, происходящих в каком-то сообществе.
Это «та форма совместной жизни, где зависимость человека от ему подобных ради самой жизни и ничего другого достигает публичной значимости и где вследствие этого виды деятельности, служащие единственно поддержанию жизни, не только выступают на открытой публичной сцене, но и смеют определять собой лицо публичного пространства» (VA 61–62).
Но если быть до конца точным, то не только экономика и администрирование оказываются вне экзистенциального измерения политики. Внимательный анализ текста работы «О революции» показывает, что деятельность по обеспечению фундаментальных прав, выходящих по своему содержанию за пределы простого сохранения жизни, будет иметь тот же самый статус. Речь идет о таких правах и свободах, как право на владение собственностью, свобода передвижения, свобода слова, свобода ассоциаций, свобода совести и т. д. Их обеспечение Х. Арендт называет «раскрепощением» (liberation) в противоположность действительной политической «свободе» (freedom). Предметом «раскрепощения» является ряд «неполитических видов деятельности, которые данное государство дозволяет и гарантирует тем, кто его составляет» (OR 30). Сами по себе они находятся в пределах социального, и их сугубо юридическая или административная защита имеет мало общего со свободой в аутентичном смысле этого слова. И если право на их осуществление рассматривать как изолированную и самодостаточную ценность, то политическая свобода – свобода совместного принятия решений – автоматически обесценивается.
Если вспомнить конечные цели социальной этики, приведенные выше, такие, как безопасность, благосостояние, обеспечение некоторых фундаментальных прав, то деятельность, связанная с ними, равно как и нормы, ее предписывающие, будут либо чужды, либо враждебны политической коммуникации между людьми. Но в то же время политическая этика не может совпасть по своему смыслу и с индивидуально-перфекционистской нравственностью, для которой коллективное действие выступает в виде безразличной или угрожающей стихии. Любопытно, что, по мнению Х. Арендт, между аполитичной абсолютной моралью и общим интересом в устойчивости и продуктивности социальных систем вполне могут создаваться неравноправные союзы. Они направлены на снятие парадоксов, связанных с нисхождением идеалов индивидуального нравственного совершенствования в область социальной организации, и одновременно нацелены на устранение политического измерения человеческого существования.
Первый пример – «политическая нравственность платоновской чеканки». Этическая система, выражающая этот союз, построена на приложении к сфере межчеловеческих отношений тех «нравственных критериев», которые взяты из области обращения с самим собой, из области «самоовладения». Структурное подобие между индивидуальным совершенствованием и деятельностью по организации общества обеспечивается за счет объяснения любой человеческой практики по образцу процесса изготовления вещей. Именно в нем центральной фигурой является индивид, который обладает предвосхищающим образом конечного результата своих действий, который знает их безошибочный алгоритм и который, «обособившись от нарушений со стороны других, от начала и до конца остается господином своего деяния» (VA 292). Если такая аналогия оправданна, то и в первом, и во втором случае успех (как волевое преобразование самого себя или как рациональная организация и «гладкое» функционирование общества) зависит исключительно от точности применения заранее обретенного знания. Практика межчеловеческих взаимодействий приобретает характер компетентного повелевания ради обеспечения всеобщего блага, которое понимается как порядок и относительное благосостояние для всех и интеллектуально-нравственное совершенствование для избранных. Повелевающий субъект в рамках такого подхода выявляется очень легко: это сам интеллектуально-нравственный виртуоз, безупречно владеющий собой (VA 315). Ведь знание о совершенстве души и совершенстве социальных институтов есть две стороны одной и той же высшей мудрости.
Другой вариант неравноправного союза двух аспектов морали является специфическим продуктом Нового времени и наследует робеспьеровской политике сострадания.
Речь идет об экономической модели государства всеобщего благосостояния и политической системе представительной демократии. Здесь также присутствует базовая аналогия политической практики и деятельности по изготовлению вещей. Главным инструментом политики всеобщего благосостояния является рациональное, или «грамотное», управление, чему совсем не препятствует существование представительных демократических институтов, поскольку те обеспечивают не реальное участие граждан в решении общих вопросов, а их простое «согласие быть управляемыми» (OR 280–281). Естественно, что субъект управления меняется в сравнении с позднеантичной моделью. В него превращаются многочисленные эксперты в области свойств вещей и закономерного человеческого поведения. Но, что не менее важно, меняются и его цели. Теперь это порядок и максимальное благосостояние для всех, сопровождаемые успешным обеспечением целей «раскрепощения». С точки зрения двухаспектного понимания морали перед нами очевидная редукция индивидуального нравственного совершенства к тем добродетелям, которые отвечают целям социальной этики.[78 - Довольно точным теоретическим отображением этой редукции является политическая теория либеральной нейтральности по отношению к нравственным ценностям, оставляющая вопросы о содержании «благой» человеческой жизни за пределами публичных споров (См. очерк нейтралистской социальной этики в моей статье «Идея нравственного совершенства в социальной этике» (Прокофьев A.B. Указ. изд.).]
Для оценки представленных выше комбинаций моральной дисциплинарности и перфекционизма чрезвычайно важен вопрос о том, какие режимы власти (слово берется в широком, неарендтовском значении) будут морально допустимыми в их пределах? При сохранении нравственного значения исключительно за узкосоциальными и индивидуально-перфекционистскими интересами моральная система оценок оказывается совершенно индифферентна к возникновению тех вариантов тирании, которые гарантировали бы всем «повышение общественной производительности, безопасность внутриполитической ситуации, стабильность правления» (VA 293). Благодетельная, то есть «мудрая», тирания дает устойчивую рамку упорядоченных взаимоотношений между индивидами и одновременно предоставляет им свободу для развития частной инициативы, профессионального прилежания или нравственного совершенствования, кому что заблагорассудится. Аналогом добродетельной тирании в условиях современного государства всеобщего благосостояния является благодетельная власть бюрократического «никто» (VA 60). То есть с точки зрения социальной этики благотворная тирания, формальная представительная демократия, представительная демократия, построенная на гражданском участии, или прямая полисная демократия имеют одинаковую исходную ценность, которая может изменяться только в свете соображений их эффективности в деле осуществления порядка, благосостояния и реализации индивидуальных прав. Причем известно, что «работающая» демократия не всегда эффективна в этом отношении.
Социальная и политическая этика: поиск должного соотношения
Что же следует из последнего наблюдения? Вероятно, принципиальная неполнота уравнения: мораль = социальная этика + перфекционистская нравственность. По крайней мере, в том виде, как оно было представлено в начале данного исследования. Определение «социального», на которое оно опиралось, во многом совпадает с описанием «социума» у Х. Арендт и, как это неоднократно подчеркивалось ею, игнорирует экзистенциальное содержание политики. Даже если не считать самовыражение индивидов в коллективном действии и убедительной речи по его поводу как вершины в ценностной иерархии, то, во всяком случае, следует признать его самостоятельное значение среди ценностей, наполняющих человеческую жизнь смыслом. Обеспечение этого аспекта самореализации необходимо превращается в нечто этически значимое, в предмет моральной озабоченности. Это, на мой взгляд, тот вывод из философских размышлений Х. Арендт, который сохраняет свое значение – как для ее прямых идейных наследников, так и для тех, кто смотрит на ее тексты со значительной дистанции, связанной с различием теоретических установок или философских дисциплин. Определяя общественно значимое содержание морали, необходимо рассматривать человеческие сообщества не только как инструмент достижения индивидуального благосостояния, обеспечения индивидуальной безопасности и реализации индивидуальных прав, но и как сферу такого коллективного взаимодействия, в котором люди воспринимают себя в качестве запечатлевающих свою личность участников, в качестве реальных акторов политического процесса. В таком случае приходится вести речь не просто о социальной этике, как дисциплинарном аспекте морали, но и об этике социально-политической, имеющей разные измерения и неоднородные предельные цели, несмотря на общую обращенность к большим сообществам людей, воплощающим в своей деятельности коллективные проекты.
В этом случае понятие демократии приобретает фундаментальное моральное значение и оказывается тесно связано с вопросами о смысле и ценности человеческой жизни. Оно не лишается того контакта с высшими ценностями, сохранение которого заботит многих мыслителей.[79 - См. интересный обзор того, как эта тема была представлена в философской традиции русской эмиграции, в работе В. Кантора «Феномен русского европейца» (М.: Московский общественный научный фонд, 1999. С. 298–308).] Выводы арендтианской политической философии принципиально ориентированы на то, чтобы не могла повториться ситуация, зафиксированная в горькой констатации Ф. Степуна, касающейся судьбы России после 1917 года: «Большевики победили демократию потому, что в распоряжении демократии была только революционная программа, а у большевиков – миф о революции; потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков – о последнем, о самом главном, самом большом. Пусть они всего только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею встретились, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей».[80 - Степун Ф. Мысли о России // Современные записки. 1928. Кн. 35. С. 328 (цит. по: Кантор В.К. Указ. соч. С. 300).] Х. Арендт многократно и небезуспешно пыталась доказать, что защита демократии может быть «последним», предельным по своей моральной значимости вопросом.
Естественно, использование основных тезисов политической философии Х. Арендт в данном исследовании является достаточно вольным и нарушающим некоторые строгие арендтовские разграничения. Кроме того что оно опирается на идею принципиальной (хотя и парадоксальной) совместимости абсолютной морали и политики, оно разрушает антиномичное разделение социального и политического, которое Дж. Шкляр справедливо назвала «манихейским».[81 - Shhlar J. Rethinking the Past // Social Research. Vol. 44. № 1. 1977. P. 80–90.] Ведь стремясь сохранить непорочную чистоту политики, Х. Арендт, по сути, убивает ее, превращая в столь же редкое в истории человечества явление, как, например, абсолютная и беспримесная святость. Одновременно она лишает политическую активность подобающего ей содержания, т. е. отрывает ее от большинства серьезных и неотложных, коллективно значимых вопросов. В итоге, список возможных точек приложения для сугубо политической деятельности оказывается чрезвычайно узок: процесс конституирования публичного пространства и борьбы с неизбежной эрозией политических институтов (в «Vita activa» и «О революции») и осуществление справедливого суда (в поздних выступлениях). Не случайно один из оппонентов Х. Арендт на конференции, посвященной ее творчеству, проходившей незадолго до смерти философа, заметила, что после того, как основания политического сообщества сформированы, предметом политики остаются лишь внешние войны и бессодержательные речи. Все прочее будет хотя бы отчасти социальным.[82 - On Hannah Arendt // Hannah Arendt: The Recovery of the Public World / ed. by MA. Hill. NY: St. Martin 's Press, 1979. P. 254. P. 316 (далее в тексте ОНА).]
Конечно, Х. Арендт не находилась полностью в плену своих теоретических определений. Некоторые фрагменты ее текстов отчетливо свидетельствуют об этом. Так, описывая в работе «О революции» открытие американскими революционерами публичного пространства, то есть пространства политики, она замечает: «Поступки и деяния, которые раскрепощение требовало от них, вбросили их в область публичного дела, где намеренно или чаще неожиданно для самих себя они начали создавать то пространство явления, где свобода может развернуть свое очарование и стать видимой и осязаемой реальностью» (OR 33). Уже гораздо позднее, на закате собственной философской карьеры, Х. Арендт замечает также, что одна и та же коллективная проблема, например проблема улучшения жилищных условий населения, может совмещать в себе и политические, и социальные аспекты (OHA 318–319).
Мне представляется, что именно на этом пути можно прийти к более реалистичному описанию соотношения социального и политического. Политическая по своей экзистенциальной значимости деятельность довольно часто надстраивается над социальными вопросами, придавая процессу их решения дополнительное качество.
Это приходится принимать как неизбежность и, более того, это можно только приветствовать. Причин у неизбежного смешения социальной и политической активности довольно много. Во-первых, только очень небольшое количество социальных проблем подлежит сугубо экспертному и бюрократическому способу разрешения. Ведь любая экспертиза должна быть направленной, определенным образом ориентированной в связи с набором целей, которые должны определяться в ходе свободного столкновения мнений, то есть в ходе политического процесса. Во-вторых, проведение границ между политической и сугубо бюрократической сферами деятельности само является постоянным предметом перманентной политической дискуссии. В-третьих, любое продвижение частных интересов, приобретая гласный характер, неизбежно сталкивается с проблемой самообоснования на нормативном фоне идей справедливости и общего блага, и это придает пресловутой «политике интересов» политическое звучание в арендтианском понимании. Наконец, как утверждает Дж. М. Шварц, политика не сможет сохранить свою девственную чистоту уже только потому, что ее институты должны быть субсидируемы, а это «немедленно затягивает материальные и распределительные вопросы обратно в область политического».[83 - Schwartz J.M. The Permanence of the Political: A Democratic Critique of the Radical Impulse to Transcend Politics. Princeton: PUP, 1996. P. 183.]
В связи с этим мне кажется вполне оправданным вывод Дж. Катеба о том, что вне зависимости от того, с чем «политические дискуссии имеют дело… они могут быть неподдельно политическими, если ведутся в правильном духе… Каждый публичный вопрос может рассматриваться как имеющий политический аспект, [в том случае если. – А.П.] ударение падает на такие агонистические элементы, как соперничество, соревнование, маневрирование, так же как и на комплиментарные элементы общей принадлежности соперников к сообществу и преданности ему».[84 - Kateb G. Ibid. P. 21–22.]
Последняя вольность в интерпретации Х. Арендт, которая должна быть допущена, или последняя поправка, которая должна быть сделана, на мой взгляд, касается уровней существования политического. Из основных текстов философа следует, что приоритетным фокусом политической активности является решение вопросов на уровне самостоятельного политического сообщества или суверенного государства. Феномены полиса и революции недвусмысленно указывают на это. Однако есть и иные уровни, способные и в современном обществе воспроизводить черты арендтовского полиса и приобщать к политической деятельности максимальное количество граждан. Речь идет о локально-коммунитарном уровне существования политики. Именно он находится в центре внимания коммунитаристской традиции в социальной и политической философии. Признание возможности политики на уровне внутренней жизни самоуправляющихся локальных сообществ спорадически также присутствует у республикански, а не коммунитарно ориентированной Х. Арендт. Оно проглядывает и в ее очарованности советами, созданными на волне революций XX века, и в ее позднем утверждении о том, что процесс разрешения вопроса о месте строительства нового моста в одном из городских муниципальных собраний Нью-Гемпшира носил подлинно политический характер (OHA 317). Хотя, конечно, этот акцент мог бы звучать более отчетливо и явственно.
А.П. Скрипник. Бытие, логос и нрав
Нравственность является неотъемлемой стороной человеческого бытия. Именно в ней выражена сущность человека. Особенности поведения того или иного вида животных заложены в его генетическом коде, подкреплены его морфологией и физиологической организацией. В отличие от всех остальных живых существ, люди устанавливают себе правила жизни сами; по крайней мере, в рамках своих генетических программ они обладают гораздо большей степенью свободы. Животные просто существуют, а человек способен понимать свое существование, делать его предметом логоса (слова и мысли). Жизнь по самостоятельно установленным правилам и есть нравственность в ее важнейшем значении.
Человек может осознать горизонт собственных возможностей и создать себя как некое целое. «Присутствие, – специфически человеческое бытие, по Хайдеггеру, – только тогда может быть собственно оно само, когда само от себя делает себя к тому способным».[85 - Хайдеггер M. Бытие и время. M.: Ad Marginem, 1997. С. 263] Экзистенциалистское представление о том, что человека делает человеком сознание своей смертности, с нашей точки зрения, представляется несколько односторонним. На самом деле смерть и смертность – только один из мотивов размышления, ведущего к очеловечению человека. В целом же человек возвышается над животным миром благодаря осознанию и полаганию особенности своего жизненного пути. Человек начинается не тогда только, когда он понимает смерть как самую необходимую для себя возможность, разворачивает и выдерживает ее; но всегда, если принимает решение о том, что не может вести себя как животное. В понимании сущности человеческого бытия для нас особенно значителен тот поворот, который ведет от Хайдеггера к Леви-Стросу, усмотревшему одну из важнейших культурных способностей человека в классификации – распределении сущего на роды и виды. Основатель структурной антропологии настойчиво обращал внимание на то, что понятие вида всегда и везде производит на людей смутное обаяние.[86 - См.: Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление. М.: Терра – Книжный клуб; Республика, 1999. С. 220] Это касается вида вообще. Понятие же собственного вида является конститутивным для нравственности. Последняя не исключает из своего состава ни отношения к тому, что ниже человека (к животным, растениям и артефактам), ни отношения к тому, что выше его (Богу, ангелам и т. п.), но эти формы бытия окрашиваются в нравственности человеческим светом. Нравственность – это способ ориентации в мире, специфический для вида Homo sapiens.
Такое понимание подразумевает, что род человеческий представляет собою единство. Нравственность не будет призрачною только в том случае, если это единство существует, хотя, может быть, лишь в потенции, а не актуально. Это означает, что нравственность и есть та культурная сила, которая делает человека человеком, иными словами, выводит его на такой уровень бытия, на котором он действует не как отдельное изолированное существо, а как орган обширного целого, называемого человечеством. В нравственности человеку открывается его неразрывная связь с другими людьми, принадлежность к человечеству и способность быть активным творцом этой связи.[87 - Подобный онтологический поворот намечен уже самим Хайдеггером. Подвергая феноменологическому анализу бытие к смерти, он признавал, что «смерть уединяет лишь чтобы в качестве необходимой сделать присутствие как событие понимающим для бытийной способности других» (Указ. соч. С. 264). Но в целом, конечно, смерть конститутивна для собирания самости, а не для разворачивания бытия с другими.] Безнравственность (моральное зло) начинается, с одной стороны, там, где творчество превращается в разрушение; с другой стороны, там, где человек отказывается быть активным субъектом действия, низводит себя до уровня пассивного объекта внешних сил.
В бытии общее и единство присутствуют ничуть не менее реально, чем отдельное и разобщенность. Современное естествознание открыло в природе явление когерентности, которое служит самым весомым доказательством существования универсалий как общих структур бытия. Достаточно ярко и подробно это явление описано в работах Ильи Пригожина и других представителей Брюссельской школы.
Способность к самоорганизации, переходу от хаоса к порядку присуща любому уровню бытия, а отнюдь не только человеческому сообществу. В состоянии термодинамического равновесия, например, отдельные молекулы движутся каждая сама по себе, независимо друг от друга и взаимодействуют только при столкновениях. Но при переходе в неравновесное состояние частицы начинают действовать как согласованный ансамбль. Они как бы приобретают особую чувствительность, необъяснимую способность реагировать друг на друга, причем на весьма значительных расстояниях.[88 - См.: Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс. С. 240.] Аналогичные явления наблюдаются при образовании колонии амеб, постройке гнезда термитами и во многих других случаях.
По нашему убеждению, нравственность возникает в процессе эволюции жизни, а когерентность как способность к самоорганизации является ее важнейшим онтологическим основанием. Такая мощная культурная сила не могла бы возникнуть на пустом месте. Однако в мире существует не один только хаос, но и порядок; не только рост энтропии, но и самоорганизация. Она и составляет бытийную почву для нравственного развития. Само бытие вкладывает в человека стремление к совершенствованию: усилению энергетического потенциала, чувствительности и согласованности с другими людьми.
Отличие нравственности от самоорганизации вообще в ее намеренно целенаправленном характере. Это отличие возникает благодаря тому, что мораль является продуктом культивирования. Культура способна создавать совершенно новые когерентности. Она открывает такие универсалии, такие общие структурные компоненты, которые уже присутствуют в самом бытии, но только в качестве возможности, а сами по себе никогда не актуализируются. В нашем понимании, развитие культуры – это выстраивание связей или прокладывание путей между различными элементами мира, между живыми организмами и, преимущественным образом, между людьми. Культура связывает разрозненные группы людей не только в пространстве, но и во времени, причем способов связывания у нее множество. Соединение людей в человечество есть одновременно их преображение. Согласно идеям Брюссельской школы, материальные частицы, переходящие из равновесного состояния системы в неравновесное, претерпевают какие-то неизвестные и непонятные нам структурные изменения, обостряющие их «чувствительность». Нечто подобное происходит и с человеком, на которого воздействует культура. Он становится более чувствительным ко всем аспектам мира, прежде всего, к другим людям. Благодаря культуре человек получает возможность черпать вещество, энергию и информацию из самых разных источников, на всех уровнях бытия. Многократно расширяется диапазон продуктов питания, потому что к растительному и животному рациону добавляются искусственные продукты. Познавая мир, человек обращает в свою пользу деятельность других существ: либо прямо, заставляя их работать на себя, либо косвенно, подражая чужим поведенческим стереотипам. В результате умножается число возможных путей и способов поведения. Культура осуществляет грандиозный синтез. Она соединяет действительной связью то, что было связано только в беспредельном поле возможностей. С ее помощью размывается и перемещается граница, отделяющая одного человека от всех остальных, а также, хотя и в меньшей степени, между человеком и природой.
Первым, наиболее простым средством, которым действует культура, выступает язык. Ведущая роль языка в культуре вообще и нравственной жизни в частности была осознана еще в XIX веке. Сложилось убеждение, что через язык во внутренний мир человека входят самые глубинные связи бытия. Вот как толковал эту животворную роль языка, например, П.А. Флоренский: «Невидимые нити могут протягиваться между словами там, где при грубом учете их значений не может быть никакой связи; от слова тянутся нежные, но тонкие щупальца, схватывающиеся с таковыми же других слов, и тогда реальности, недоступные школьной речи, оказываются схваченными этою крепкою сетью из почти незримых истин».[89 - Флоренский ПА. У водоразделов мысли // Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 251.] Языковая культура делает прочным и явленным многообразие связей между различными элементами и сторонами действительности. В этом смысле язык – это «дом бытия», его «просветляюще-утаивающее явление».[90 - Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 199.] В первую очередь он позволяет бытию прорасти нравственными побегами.
Величайшим достоинством языка является его способность быть универсальной знаковой системой. Слово рождается для того, чтобы передать информацию от одного человека к другому и таким образом связать их. Поэтому в развитии нравственности язык играет огромную, пожалуй, ни с чем не сравнимую роль. Он является строительным материалом, из которого мораль возводит множество своих сооружений. Базовые нравственные структуры имеют диалогическое происхождение, т. е. предполагают наличие речи и языка.[91 - «Процесс речи есть присоединение говорящего к надындивидуальному, соборному единству, взаимопрорастание энергии индивидуального духа и энергии народного, общечеловеческого разума» (Флоренский ПА. Указ. соч. С. 234). Здесь обращено внимание на то, что речь как индивидуальное пользование языком соединяет личность с этносом; к этому мы добавим от себя, что логическая структура мысли, инвариантная для всех этносов и независимая от языковой грамматики, устанавливает связь с человечеством. В этих точках соединения и реализуется когерентность нравственности.] Область прямого соприкосновения языка и нравственности, пути, по которому эти две великие культурные силы устремляются навстречу друг другу, представляет значительный исследовательский интерес. Прежде всего, речь идет о двух взаимосвязанных проблемах: 1) что дает язык для развития нравственности; 2) какое содержание нравственности является языковым, а какое – неязыковым и как соотносятся друг с другом эти содержания.
Благодаря вербальным знакам люди устанавливают границы между вещами и фиксируют то, что является для них наиболее значимым. Понятие границы, вероятно, является коренным для нравственного отношения к миру. Оно имеет наглядный пространственный образ (борозда, стена, межевой столб) и блокирует посягательства одного субъекта на то, что принадлежит другому. Граница есть диалектическое единство общего и индивидуального и в этом смысле – непременное условие диалога, то, что делает двоих единым. В понятиях границы и определения (словесного полагания границы между вещами) человеку дается первый опыт осознания должного и не должного (запретного). С помощью терминов пробуждающееся человеческое сознание фиксирует различия между людьми, прежде всего, различия социальных статусов. С установления таких различий, собственно говоря, и начинается нравственность. Там, где все ведут себя одинаково, не может возникнуть представление о нравах. Оно появляется только там, где есть контраст и противоположность. Классификационная способность языка питает дифференцирующую способность нравственного сознания. Речевые правила, нормы словообразования и словоупотребления, по всей видимости, выступают прототипом нравственных норм.
Важнейшим для возникновения нравственности выступает представление о родственных связях, позволяющее различать «свое» и «чужое». Нравственность начинается с того момента, когда один человек признает ценность другого человека, пусть пока только кровного родственника или брачного партнера. Ее формирование протекает одновременно с образованием таких социальных структур, как род, семья и территориальная община. Возникают когерентности совершенно нового типа, не имеющие аналогов в животном мире.
Прежде всего, слово создает условия для согласованной деятельности. Чтобы действия одного лица были когерентными действиям другого, эти лица должны сообщить друг другу свои намерения, добиться максимального совпадения намерений. Речь и язык – не одно и то же, хотя и состоят в очень тесном родстве. Язык – универсальная знаковая система, устанавливающая соответствие между произносимыми звуками или записанными значками, с одной стороны, объектами и событиями действительности, с другой. Речь – использование данной системы в общении между людьми или с самим собой. Для возникновения морали необходимы и язык, и речь, но роль их различна. Речь обеспечивает реальное моральное взаимодействие, а язык создает глубинные структуры нравственности, в первую очередь систему родственных отношений, на которой покоятся значимые для нравственности сходства и различия между людьми.