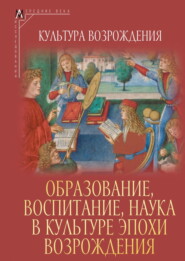По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Российский колокол №1-2 2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай я гляну.
Свирин по-молодому вскочил, быстро прошёл сквозь сени на двор, через него – к воротам. Открыл калитку.
– Неси сдачу! – ликующе-высокомерно объявил ему голый по пояс парень.
Сперва Свирину показалось, что это тот же самый, что приходил вчера, правда, успевший остричься почти налысо. И лицо похоже, и голос, а вернее, манера говорить. Глаза мутные, без зрачков.
– В каком смысле – неси сдачу? – строго спросил Свирин.
– Деньги принёс – неси сдачу.
– А если нет сдачи?
– П-фу-у! – парень фыркнул. – У вас-то и нет сдачи?
– Молодой человек, что это за интонация вообще?..
Свирину хотелось многое сказать ему, но подошла мама.
– А, Саша, здравствуй. Что такое? – начала приветливо, заискивающе даже.
– Деньги принёс, тёть Галь, сдачу надо.
– Сейчас, сейчас. Со скольких сдачу?..
– Мама, что происходит? – Свирин был поражён. – Это он у тебя занимал или ты у него?
– Олег, иди в дом.
Она сказала это так категорично, как раньше, когда Свирин-ребёнок в чём-нибудь провинялся. И он послушно ушёл.
Мама вернулась минут через пять, села за стол. К Свирину уже вернулась его взрослость, и он повторил:
– Как это понимать? Кто это вообще?
– Вали Тяповой муж. Деньги вернул.
– У неё, кажется, другой был…
– Петрунин? Он сбежал. А Саша – хороший.
– Да уж! Я бы ему ответил на его «неси сдачу». Ну вот прямо взял и побежал за сдачей. Даже ведь не поздоровался!
– А что ты от них хочешь, сынок? – как-то одновременно и жалостливо, и с упрёком спросила мама. – Откуда им культуры набираться? Беляков, которого ты вчера так, прямо скажу, послал, на вахтах по месяцу, и здесь хозяйство, трое детей. У Саши этого родители алкоголики, он и до девятого класса не доучился. скотником. Он рад-радёше-нек, что долг принёс, горд за себя, поэтому и ведёт так. Я, – мама с усилием и со всхлипом, что ли, выдохнула, – я вчера перед Беляковым сколько времени извинялась.
Свирин вытаращил глаза:
– За что?
– За твоё поведение. Да. Нельзя так с людьми. Он ведь обиделся.
– Что пьяный прибежал электричеством заниматься?
– Ну ведь он же помочь хотел, искренне. А ты его. Он нам сколько раз помогал. – Мама оглянулась на отца и дёрнула головой, как бы призывая его согласиться, и отец кивнул. – И Саша тоже. Что случится – мы к ним. И они ни разу не отказали. Коровы на задах городьбу опрокинули той весной – Саша на горбу два бревна принёс, сам вкопал. Воду не могли закачать – Беляков пришёл, закачал, мостки наладил. Культуры нет, а душа есть. Ты вот, сынок, приехал и уехал, а мы здесь, с ними, каждый божий день. И, кроме как к ним, обратиться не к кому. А мы будем их посылать.
Свирин всмотрелся в маму, в отца, перенёсшего несколько лет назад инсульт, и будто очнулся от долгого сна. Увидел, что это старые, обессилевшие и беззащитные люди.
Продолжавшийся четверть века период его поездок, чтоб с удовольствием покопаться на огороде, закончился.
Разиля Хуснулина
Разиля Рафинатовна Хуснулина, 1961 г. р., доктор филологических наук (Москва), доктор философии (США), член-корреспондент Международной педагогической академии, профессор, переводчик, писатель.
Окончила УдГУ (Ижевск, 1983), факультет романо-германской филологии, имеет квалификацию «преподаватель английского языка, филолог, переводчик». Обучалась в аспирантуре Института мировой литературы АН СССР (Москва, 1985–1988 гг.), защитила кандидатскую диссертацию по ирландской литературе. Окончила две очные докторантуры и защитила докторские диссертации: одну, по философии, в университете Тихоокеанского побережья США (1997–1998 гг.), другую, по английской литературе, в Москве, в ИМЛИ РАН (2002–2004 гг.).
Автор более 150 публикаций, из них шесть монографий, 12 учебных пособий, более полусотни статей в журналах, рекомендованных ВАК. Её монография «Ф. М. Достоевский и английский роман ХХ века» (2005, повт. изд. 2012) получила широкое признание в России и за рубежом; её высоко оценила королева Великобритании Елизавета II, признавшись в личном письме к Р. Р. Хуснулиной в 2006 году, что разделяет многие убеждения автора.
Профессиональный переводчик, Р. Р. Хуснулина перевела с английского языка романы Сомерсета Моэма «Наверху, в вилле» (1997, повт. изд. 2011) и Билла Хопкинса «Предсказание и последствие» (1997, повт. изд. 2007, 2015).
Автор сборников рассказов «Душа» (2000), «Мой изменившийся мир» (2007).
За монографию «Ф. М. Достоевский и английский роман ХХ века» и серию публикаций в журналах «Иностранная литература», «Литературное обозрение» решением ИНИОН включена в энциклопедию лучших литературоведов России «Кто есть кто в литературном мире» (2011). Член редколлегии журнала перечня ВАК «Казанская наука».
В настоящее время работает профессором Высшей школы перевода МГУ им. М. В. Ломоносова.
Бабушкин сундук
Я любила приезжать в её светлый, просторный дом. Мне нравились его простое убранство и цветы. Сколько же их было в несметных горшках повсюду: на подоконнике, на полке возле телевизора, на полу. Среди них – величественная глоксиния, фонарями горящая роза, хрупкая герань. Названий многих из них я уже не помню. Вспыхивая то тут, то там красно-белыми пятнами, эти цветы удивительно вязались с ней и были её единственной прихотью. Сама она – невысокого роста, голубоглазая, с длинными светло-каштановыми волосами, которых не коснулась седина, с двумя глубокими складками на щеках, спускавшимися к уголкам рта, – казалась редкостным цветком, собирательным экземпляром своей коллекции. Её внешность располагала, а имя Галия, корень которого восходит к французскому «праздник», очень точно отражало суть её приятия окружающими. Встреча с ней была праздником. Глаза её смеялись, и она никогда не казалась скучающей. Внешность, вкусы, репутация ставили бабушку в центр внимания, и только узость общения, вызванная удалённостью деревушки от других населённых пунктов, затемняла её лоск.
В доме, залитом мягким светом и обрамлённом цветным великолепием, успокаивающе пахло зеленью, и я с лёгкостью отвлекалась в нём от утомительных размышлений, занимавших меня в городе, обретала душевное равновесие. С лёгкостью вырисовывались и перспектива, и прозрение. Эти цветы, старое зеркало на стене, шифоньер с платьями прабабушки, сундук и тишина, ставшая приметой её дома. Запах свежести и лета. И я словно вижу саму душу моей бабушки.
Прелестное создание – её душа. Время отнимает дорогих ей людей, а она остаётся доброй, нежной. Настоящей. И верной. От покорности и терпения, жалких радостей, которыми она довольствовалась, комок подступает к горлу и на глаза наворачиваются слёзы.
С годами мне стало казаться, будто я знаю, что в душе бабушки было сокрыто. Разглядывая фотографии, я вижу её совсем молоденькой, в ситцевом платьице и думаю, какой она была красивой, как гордилась её умениями мать, как счастлив был с нею дедушка в полувековом союзе, подарившем им троих сыновей. Повинуясь тяге к неизвестности, которая всегда снедала бабушку, она сбрасывала на время бремя деревенских забот и уезжала к своим немногочисленным родственникам. Они всегда ждали её. Она была наделена располагающей общительностью, любила смеяться и смешить. И им нравились её смех и грусть. Сознание этого не утолило разочарования бабушки, и при каждой новой встрече с ними она оживлялась, словно они ещё не знали о её несбывшихся надеждах, и, когда заканчивался уже седьмой десяток, она по-прежнему расточала своё обаяние, готовая начать всё сначала. Дом, родственники, соседи были для неё образом самой жизни. А её символом стал сундук, вместивший их многолетние подношения. Среди них – платки, ткани, серебряные монеты и украшения, связанные и вышитые ею же самой изделия, достойные занять место в музее этнографии. Это было единственное, чем она не делилась, когда была жива. Бережливая от природы и по необходимости расчётливая, она придавала этим вещам значение, равное памяти тех, кто их дарил. Они стали самым дорогим её достоянием, когда внезапно скончались старшие сыновья и муж.
Сидя за чаем и разговаривая, я порой неожиданно получала приглашение осмотреть содержимое сундука. С годами это уже вошло у нас в привычку, хотя мы обе досконально знали его. Тихонько напевая что-то себе под нос, бабушка подходила к сундуку и неторопливо доставала одну вещь за другой. Перед ней словно проходила вся её жизнь. И это ощущение усиливалось, когда она натыкалась на что-то особенно дорогое. Музыка в душе стихала, а приятное возбуждение спадало. Бабушку, видимо, охватывала тоска по отчему дому, расположенному в нескольких десятках километров от собственного, в котором теперь живёт семья её покойного брата. В это время года там созревали вишни на кустарниках, посаженных им, и их сладкий аромат заполнял весь сад и двор. Каких только плодовых деревьев и кустарников не насадила бабушка рядом со своим домом: яблони, груши, черёмуху, иргу, целые полосы смородины и малины! Но дорога ей была именно вишня из родового дома. Слёзы наполняли её глаза, и она утирала лицо маленьким платочком, комкая его в руке. Обратив ко мне голубые глаза, она неуверенно спрашивала: «Не съездить ли туда дня на два-три?» Повторяла этот вопрос из года в год, чтобы унять боль, сделать сносным смятение. Я пожимала ей руку и чувствовала ответное движение её пальцев.
Взгляд бабушки падал на кружевной воротник, связанный для неё матерью. Она осторожно брала его в руки и улыбалась. Её лицо светилось при виде красивого изделия, олицетворявшего молодость. Сколько радостных воспоминаний пробуждал в ней этот ажурный воротничок! Разве лучшее в жизни досталось не ей? Что же такое счастье, если не сочетание красоты и любви, придающей всему, что окружает человека: людям, вещам, – повышенную ценность?
И снова ощущение чего-то пережитого в прошлом перехватило ей горло. В её руках вышитое полотенце. Что это? Забытый сон или грёзы? Бабушка провела рукой по глади, и его вид встряхнул ей память, и она вспомнила… что? Ей шёл двадцать первый год, когда она приехала к дедушке. На ней было платье ниже колен, на длинные волосы наброшен платок, подобранный в тон атласным лентам, свисавшим с её кос. Она была прямодушна и доверчива. И это понравилось свекрови, и они легко сблизились. Обаятельная семья. Приятно вспомнить её через столько лет! Первые недели, которые она прожила там, были настоящей идиллией. Она припомнила – удивительно, как такая мелочь осталась в памяти, – эпизод у ключа, когда местные девушки на выданье собрались возле него и ждали её появления, надеясь разглядеть поближе. Очаровательные были девушки, простые. Теперь нет той свежести души, какая была у них.
Она говорила, а у меня перед глазами вставали поросший осокой луг, два тополя, переживших не одно поколение селян, и ключ у их основания, в своём обилии и журчании ни с чем не сравнимый символ прелести деревушки. И вдруг на меня словно пахнуло его свежестью – и я порадовалась, что у меня есть «опора», куда более исконно непреходящее, чем городские улицы.
То ли инстинкт, то ли застенчивость заставляли меня молчать. Я слушала бабушку, и у меня дух захватывало от очередных свежих подробностей, которыми она снабжала уже знакомые мне истории. Как будто идёшь в неизвестное: мы очень близки, и в то же время я так мало знаю о ней.
Доставая из сундука одну вещицу за другой, она рассказывала мне о своих родителях: об отце, не вернувшемся с финской войны, рано овдовевшей матери, о сестре и брате, их взрослом детстве; и удивительно было, как много эти вещи вобрали в себя. Кружева украшали девичьи платья, скатерть вышита в год переезда к дедушке, крошечные валенки сваляны другом семьи для внука, моего брата, красивый белый платок подарен средним сыном после долгой разлуки, а другой, с жёлтым рисунком, – шурином к её очередному юбилею. Вспоминая их, она листала хронику жизни, перебирая годы радостей и горестей, словно видела лики времени, переступившие через порог приоткрытой памяти.
Платья моей прабабушки. Как миловидно, благородно и женственно выглядели они! Запустив руку в их воздушную мягкость, она осторожно вынимала одно из них, зелёное, и, собрав воедино, словно лёгкие летние волны, его многочисленные складки, бережно подносила к окну, сливаясь с ним в едином сверкающем образе былого счастья. Она гордилась трудами рук своей матери. Такие наряды мог создать лишь человек, который постиг Душу платья, – настолько они воплощали сущность того, что можно надеть на женское тело.
Свирин по-молодому вскочил, быстро прошёл сквозь сени на двор, через него – к воротам. Открыл калитку.
– Неси сдачу! – ликующе-высокомерно объявил ему голый по пояс парень.
Сперва Свирину показалось, что это тот же самый, что приходил вчера, правда, успевший остричься почти налысо. И лицо похоже, и голос, а вернее, манера говорить. Глаза мутные, без зрачков.
– В каком смысле – неси сдачу? – строго спросил Свирин.
– Деньги принёс – неси сдачу.
– А если нет сдачи?
– П-фу-у! – парень фыркнул. – У вас-то и нет сдачи?
– Молодой человек, что это за интонация вообще?..
Свирину хотелось многое сказать ему, но подошла мама.
– А, Саша, здравствуй. Что такое? – начала приветливо, заискивающе даже.
– Деньги принёс, тёть Галь, сдачу надо.
– Сейчас, сейчас. Со скольких сдачу?..
– Мама, что происходит? – Свирин был поражён. – Это он у тебя занимал или ты у него?
– Олег, иди в дом.
Она сказала это так категорично, как раньше, когда Свирин-ребёнок в чём-нибудь провинялся. И он послушно ушёл.
Мама вернулась минут через пять, села за стол. К Свирину уже вернулась его взрослость, и он повторил:
– Как это понимать? Кто это вообще?
– Вали Тяповой муж. Деньги вернул.
– У неё, кажется, другой был…
– Петрунин? Он сбежал. А Саша – хороший.
– Да уж! Я бы ему ответил на его «неси сдачу». Ну вот прямо взял и побежал за сдачей. Даже ведь не поздоровался!
– А что ты от них хочешь, сынок? – как-то одновременно и жалостливо, и с упрёком спросила мама. – Откуда им культуры набираться? Беляков, которого ты вчера так, прямо скажу, послал, на вахтах по месяцу, и здесь хозяйство, трое детей. У Саши этого родители алкоголики, он и до девятого класса не доучился. скотником. Он рад-радёше-нек, что долг принёс, горд за себя, поэтому и ведёт так. Я, – мама с усилием и со всхлипом, что ли, выдохнула, – я вчера перед Беляковым сколько времени извинялась.
Свирин вытаращил глаза:
– За что?
– За твоё поведение. Да. Нельзя так с людьми. Он ведь обиделся.
– Что пьяный прибежал электричеством заниматься?
– Ну ведь он же помочь хотел, искренне. А ты его. Он нам сколько раз помогал. – Мама оглянулась на отца и дёрнула головой, как бы призывая его согласиться, и отец кивнул. – И Саша тоже. Что случится – мы к ним. И они ни разу не отказали. Коровы на задах городьбу опрокинули той весной – Саша на горбу два бревна принёс, сам вкопал. Воду не могли закачать – Беляков пришёл, закачал, мостки наладил. Культуры нет, а душа есть. Ты вот, сынок, приехал и уехал, а мы здесь, с ними, каждый божий день. И, кроме как к ним, обратиться не к кому. А мы будем их посылать.
Свирин всмотрелся в маму, в отца, перенёсшего несколько лет назад инсульт, и будто очнулся от долгого сна. Увидел, что это старые, обессилевшие и беззащитные люди.
Продолжавшийся четверть века период его поездок, чтоб с удовольствием покопаться на огороде, закончился.
Разиля Хуснулина
Разиля Рафинатовна Хуснулина, 1961 г. р., доктор филологических наук (Москва), доктор философии (США), член-корреспондент Международной педагогической академии, профессор, переводчик, писатель.
Окончила УдГУ (Ижевск, 1983), факультет романо-германской филологии, имеет квалификацию «преподаватель английского языка, филолог, переводчик». Обучалась в аспирантуре Института мировой литературы АН СССР (Москва, 1985–1988 гг.), защитила кандидатскую диссертацию по ирландской литературе. Окончила две очные докторантуры и защитила докторские диссертации: одну, по философии, в университете Тихоокеанского побережья США (1997–1998 гг.), другую, по английской литературе, в Москве, в ИМЛИ РАН (2002–2004 гг.).
Автор более 150 публикаций, из них шесть монографий, 12 учебных пособий, более полусотни статей в журналах, рекомендованных ВАК. Её монография «Ф. М. Достоевский и английский роман ХХ века» (2005, повт. изд. 2012) получила широкое признание в России и за рубежом; её высоко оценила королева Великобритании Елизавета II, признавшись в личном письме к Р. Р. Хуснулиной в 2006 году, что разделяет многие убеждения автора.
Профессиональный переводчик, Р. Р. Хуснулина перевела с английского языка романы Сомерсета Моэма «Наверху, в вилле» (1997, повт. изд. 2011) и Билла Хопкинса «Предсказание и последствие» (1997, повт. изд. 2007, 2015).
Автор сборников рассказов «Душа» (2000), «Мой изменившийся мир» (2007).
За монографию «Ф. М. Достоевский и английский роман ХХ века» и серию публикаций в журналах «Иностранная литература», «Литературное обозрение» решением ИНИОН включена в энциклопедию лучших литературоведов России «Кто есть кто в литературном мире» (2011). Член редколлегии журнала перечня ВАК «Казанская наука».
В настоящее время работает профессором Высшей школы перевода МГУ им. М. В. Ломоносова.
Бабушкин сундук
Я любила приезжать в её светлый, просторный дом. Мне нравились его простое убранство и цветы. Сколько же их было в несметных горшках повсюду: на подоконнике, на полке возле телевизора, на полу. Среди них – величественная глоксиния, фонарями горящая роза, хрупкая герань. Названий многих из них я уже не помню. Вспыхивая то тут, то там красно-белыми пятнами, эти цветы удивительно вязались с ней и были её единственной прихотью. Сама она – невысокого роста, голубоглазая, с длинными светло-каштановыми волосами, которых не коснулась седина, с двумя глубокими складками на щеках, спускавшимися к уголкам рта, – казалась редкостным цветком, собирательным экземпляром своей коллекции. Её внешность располагала, а имя Галия, корень которого восходит к французскому «праздник», очень точно отражало суть её приятия окружающими. Встреча с ней была праздником. Глаза её смеялись, и она никогда не казалась скучающей. Внешность, вкусы, репутация ставили бабушку в центр внимания, и только узость общения, вызванная удалённостью деревушки от других населённых пунктов, затемняла её лоск.
В доме, залитом мягким светом и обрамлённом цветным великолепием, успокаивающе пахло зеленью, и я с лёгкостью отвлекалась в нём от утомительных размышлений, занимавших меня в городе, обретала душевное равновесие. С лёгкостью вырисовывались и перспектива, и прозрение. Эти цветы, старое зеркало на стене, шифоньер с платьями прабабушки, сундук и тишина, ставшая приметой её дома. Запах свежести и лета. И я словно вижу саму душу моей бабушки.
Прелестное создание – её душа. Время отнимает дорогих ей людей, а она остаётся доброй, нежной. Настоящей. И верной. От покорности и терпения, жалких радостей, которыми она довольствовалась, комок подступает к горлу и на глаза наворачиваются слёзы.
С годами мне стало казаться, будто я знаю, что в душе бабушки было сокрыто. Разглядывая фотографии, я вижу её совсем молоденькой, в ситцевом платьице и думаю, какой она была красивой, как гордилась её умениями мать, как счастлив был с нею дедушка в полувековом союзе, подарившем им троих сыновей. Повинуясь тяге к неизвестности, которая всегда снедала бабушку, она сбрасывала на время бремя деревенских забот и уезжала к своим немногочисленным родственникам. Они всегда ждали её. Она была наделена располагающей общительностью, любила смеяться и смешить. И им нравились её смех и грусть. Сознание этого не утолило разочарования бабушки, и при каждой новой встрече с ними она оживлялась, словно они ещё не знали о её несбывшихся надеждах, и, когда заканчивался уже седьмой десяток, она по-прежнему расточала своё обаяние, готовая начать всё сначала. Дом, родственники, соседи были для неё образом самой жизни. А её символом стал сундук, вместивший их многолетние подношения. Среди них – платки, ткани, серебряные монеты и украшения, связанные и вышитые ею же самой изделия, достойные занять место в музее этнографии. Это было единственное, чем она не делилась, когда была жива. Бережливая от природы и по необходимости расчётливая, она придавала этим вещам значение, равное памяти тех, кто их дарил. Они стали самым дорогим её достоянием, когда внезапно скончались старшие сыновья и муж.
Сидя за чаем и разговаривая, я порой неожиданно получала приглашение осмотреть содержимое сундука. С годами это уже вошло у нас в привычку, хотя мы обе досконально знали его. Тихонько напевая что-то себе под нос, бабушка подходила к сундуку и неторопливо доставала одну вещь за другой. Перед ней словно проходила вся её жизнь. И это ощущение усиливалось, когда она натыкалась на что-то особенно дорогое. Музыка в душе стихала, а приятное возбуждение спадало. Бабушку, видимо, охватывала тоска по отчему дому, расположенному в нескольких десятках километров от собственного, в котором теперь живёт семья её покойного брата. В это время года там созревали вишни на кустарниках, посаженных им, и их сладкий аромат заполнял весь сад и двор. Каких только плодовых деревьев и кустарников не насадила бабушка рядом со своим домом: яблони, груши, черёмуху, иргу, целые полосы смородины и малины! Но дорога ей была именно вишня из родового дома. Слёзы наполняли её глаза, и она утирала лицо маленьким платочком, комкая его в руке. Обратив ко мне голубые глаза, она неуверенно спрашивала: «Не съездить ли туда дня на два-три?» Повторяла этот вопрос из года в год, чтобы унять боль, сделать сносным смятение. Я пожимала ей руку и чувствовала ответное движение её пальцев.
Взгляд бабушки падал на кружевной воротник, связанный для неё матерью. Она осторожно брала его в руки и улыбалась. Её лицо светилось при виде красивого изделия, олицетворявшего молодость. Сколько радостных воспоминаний пробуждал в ней этот ажурный воротничок! Разве лучшее в жизни досталось не ей? Что же такое счастье, если не сочетание красоты и любви, придающей всему, что окружает человека: людям, вещам, – повышенную ценность?
И снова ощущение чего-то пережитого в прошлом перехватило ей горло. В её руках вышитое полотенце. Что это? Забытый сон или грёзы? Бабушка провела рукой по глади, и его вид встряхнул ей память, и она вспомнила… что? Ей шёл двадцать первый год, когда она приехала к дедушке. На ней было платье ниже колен, на длинные волосы наброшен платок, подобранный в тон атласным лентам, свисавшим с её кос. Она была прямодушна и доверчива. И это понравилось свекрови, и они легко сблизились. Обаятельная семья. Приятно вспомнить её через столько лет! Первые недели, которые она прожила там, были настоящей идиллией. Она припомнила – удивительно, как такая мелочь осталась в памяти, – эпизод у ключа, когда местные девушки на выданье собрались возле него и ждали её появления, надеясь разглядеть поближе. Очаровательные были девушки, простые. Теперь нет той свежести души, какая была у них.
Она говорила, а у меня перед глазами вставали поросший осокой луг, два тополя, переживших не одно поколение селян, и ключ у их основания, в своём обилии и журчании ни с чем не сравнимый символ прелести деревушки. И вдруг на меня словно пахнуло его свежестью – и я порадовалась, что у меня есть «опора», куда более исконно непреходящее, чем городские улицы.
То ли инстинкт, то ли застенчивость заставляли меня молчать. Я слушала бабушку, и у меня дух захватывало от очередных свежих подробностей, которыми она снабжала уже знакомые мне истории. Как будто идёшь в неизвестное: мы очень близки, и в то же время я так мало знаю о ней.
Доставая из сундука одну вещицу за другой, она рассказывала мне о своих родителях: об отце, не вернувшемся с финской войны, рано овдовевшей матери, о сестре и брате, их взрослом детстве; и удивительно было, как много эти вещи вобрали в себя. Кружева украшали девичьи платья, скатерть вышита в год переезда к дедушке, крошечные валенки сваляны другом семьи для внука, моего брата, красивый белый платок подарен средним сыном после долгой разлуки, а другой, с жёлтым рисунком, – шурином к её очередному юбилею. Вспоминая их, она листала хронику жизни, перебирая годы радостей и горестей, словно видела лики времени, переступившие через порог приоткрытой памяти.
Платья моей прабабушки. Как миловидно, благородно и женственно выглядели они! Запустив руку в их воздушную мягкость, она осторожно вынимала одно из них, зелёное, и, собрав воедино, словно лёгкие летние волны, его многочисленные складки, бережно подносила к окну, сливаясь с ним в едином сверкающем образе былого счастья. Она гордилась трудами рук своей матери. Такие наряды мог создать лишь человек, который постиг Душу платья, – настолько они воплощали сущность того, что можно надеть на женское тело.