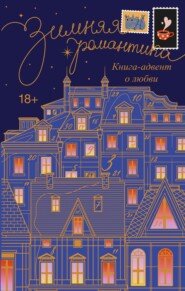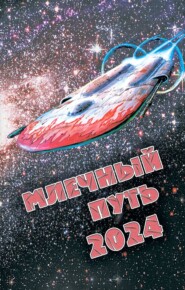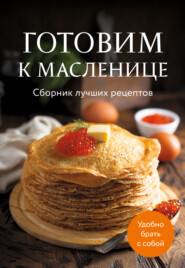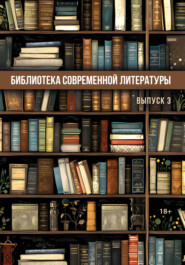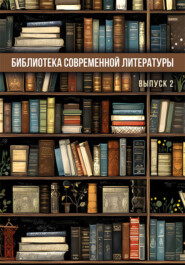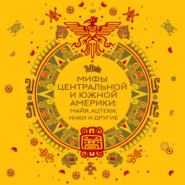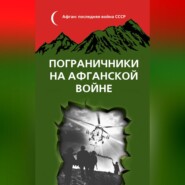По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Высокие ступени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но я уже невольно пересказываю, за что мы все ухватились, когда с невидимыми авангардными и шумными арьергардными боями к нам, часть за частью, начали пробиваться люди и годы жизни Эренбурга.
С точки зрения властей там все было не так. Во-первых, слишком много всяких «формалистов», ради кого, собственно, мы и передавали из рук в руки сначала номера журнала, а затем и тома: Модильяни, Шагал, Матисс, Мейерхольд, – ведь о них же почти ничего невозможно было отыскать особенно в провинции, так что Эренбург, можно сказать, первым ввел эти имена в широкий культурный оборот. Во-вторых же, что с партийной точки зрения было еще более недопустимым, Эренбург позволил себе сказать вслух, что сталинским репрессиям сопутствовал некий заговор молчания, все всё понимали, но придерживали язык за зубами. «Нет, это вы, циники, понимали, а мы, кристальные большевики, не понимали!» – восклицали партийные идеологи, предпочитавшие титул дурака клейму труса (хотя обычно им хорошо давались обе роли).
Сегодня трудно даже представить, насколько расширила хотя бы полудозволенную картину мира эта книга – она прорубила новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое. Но – падение царящего над социальным мирозданием советского небосвода породило и новые претензии к ней: если прежде ее ругали за то, что в ней есть, то теперь начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно: Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое действительно обошел. А что еще хуже – кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе: планомерное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически когда-нибудь сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовой ошибке, когда артиллерия бьет по своим. Это у Сталина-то были свои!
Тем не менее, автор этих строк до сих пор испытывает неловкость, от того, что, глотнув пьянящего воздуха свободы, и он однажды тоже не удержался от соблазна покрасоваться на фоне покачнувшегося кумира, печатно назвав «Люди, годы, жизнь» энциклопедией советского либерального западничества, – как будто тогда было возможно какое-то иное западничество!.. А ведь пишущий эти строки никогда не претендовал на праведность, тогда как различение возможного и невозможного считается низким лишь в министерстве праведности…
С точки зрения этого министерства еще менее красиво выглядит многолетняя служба Эренбурга в качестве представителя Страны Советов в интеллектуальных западных кругах: одного взгляда на этого лауреата и депутата, равноправного собеседника всех европейских знаменитостей, было достаточно, чтобы понять, что СССР совершенно европейская страна и что слухи о тамошних притеснениях евреев не имеют под собой никакой почвы. И это правда: Эренбург сделал очень много для улучшения образа Советского Союза в глазах Запада. Но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза. Он и впрямь был символом какой-то иной цивилизации, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую мечту, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира.
Интересно, признает ли его западничество современное?
Свой сказочный выигрыш в той лотерее, где ставкой была жизнь, Эренбург использовал, чтобы воскресить тех, кому не повезло. Наверное, тоже символично, что на публикацию его воспоминаний едва ли не наиболее страстно откликнулась дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон: «Спасибо за воскрешенных людей, годов, города». Она же самозабвенно благодарила Эренбурга за те усилия, которые этот несгибаемый Протей, этот верный Фома прилагал к тому, чтобы издать первый сборник Цветаевой со своим предисловием: «Вы единственный, который может это сделать – и сердцем, и умом, и знанием ее творчества, и чистыми руками».
Но может быть, его итоговая книга при всей ее огромной исторической роли уже отслужила свое, подобно отработанной ступени баллистической ракеты? Ведь едва ли не о каждом ее персонаже к сегодняшнему дню выпущено столько литературы, что проблемой становится скорее ее не-обозримость, чем нехватка: пустырь, на котором главный советский космополит когда-то высаживал первые робкие деревца, превратился в непроходимый лес (в котором, кстати сказать, едва ли не половина липы), – что, собственно, «Люди, годы, жизнь» могут дать сегодняшнему читателю?
Сегодняшнему читателю я бы посоветовал видеть в этой книге не только источник знаний, но и конспект колоссального романа. Попробуйте каждое дерево в этом лесу дорисовать и раскрасить собственным воображением, постаравшись взглянуть на него глазами юного социал-демократа, религиозного романтика, монпарнасского обормота (М. Волошин), глумливого скептика, верного солдата, библейского пророка, искушенного царедворца, несломленного утописта, а может быть, и мудрого конфуцианца, полагающего, что лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту.
Наталья Орлова / Россия /
Окончила Литературный институт имени Горького (семинар Е. М. Винокурова). Автор трех стихотворных сборников и многих статей о поэзии Серебряного века, переводчик, филолог, составитель ряда школьных хрестоматий по литературе. Главный редактор в долгосрочном проекте «Антология русской поэзии». Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Континент», «Знамя», «Юность», «Арион», «Студенческий меридиан».
Откажись!
Не гордись этой церковкой строгою,
Не молись дорогим мертвецам,
Не клянись этой ночью сторогою,
Даже пулей, обещанной нам.
Откажись – это нам примерещилось —
Голос Божий и блеск эполет,
Новизна повсеместно овещилась,
Ничего уже, в сущности, нет.
Все забудь – не воротишь, не вынянчишь,
Не достанешь из жаркой сумы,
Из горящего стога – не вытянешь,
Не вернешь ни Кузьмы, ни Косьмы.
А в придачу – ни марта метельного,
Ни беленых древесных рубах,
Ни исподнего снега последнего,
Где земля проступает на швах.
Вон зима-то – роскошная, нарядная,
Да пристыла дворцовая жизнь,
А весна – молода, неприглядная,
А, пойди, от нее – откажись!
Карта родины
Ну и карта,
сколько опечаток —
Расползается —
поди-ка, тронь!
Родины шагреневый остаток
Накрывает детская ладонь.
Сколько нас? Куда нас бесы гонят?
Иль взаправду – Русский Бог устал?
Пусть теперь нас крепко заборонит
Всей хребтиной складчатой Урал,
Пусть Байкал пошлет – в летящем дыме
Пароходов дальние гудки,
И рванутся – сестрами родными —
Волга с Камой – наперегонки…
Пусть спешит шипящая пороша,
Защищая спешенную ширь,
Пусть в окошко, словно книгоноша,
Постучит трескучая Сибирь.
Будто нам теперь – и горя мало —
Было – сплыло, сгинуло, ушло,
Словно пленку, – вспять перемотало
И опять снимает набело…
…Затерялась в поле похоронка
На того, последнего, царя,
И мерцает заревая кромка —
Кабинет его из янтаря…
Рубцов
Где тот неузнанный край,
Верная мира основа,
Здесь ли бывал Николай,
Помнят ли люди Рубцова?
Та же ли в небе звезда
Молча, стоит над селеньем?
Так же ль полны поезда
Верой, судьбой и волненьем?
Так же ли моет река
Берег забытый и лодки?
Греет ли грусть светляка
Память веселой походки?
С точки зрения властей там все было не так. Во-первых, слишком много всяких «формалистов», ради кого, собственно, мы и передавали из рук в руки сначала номера журнала, а затем и тома: Модильяни, Шагал, Матисс, Мейерхольд, – ведь о них же почти ничего невозможно было отыскать особенно в провинции, так что Эренбург, можно сказать, первым ввел эти имена в широкий культурный оборот. Во-вторых же, что с партийной точки зрения было еще более недопустимым, Эренбург позволил себе сказать вслух, что сталинским репрессиям сопутствовал некий заговор молчания, все всё понимали, но придерживали язык за зубами. «Нет, это вы, циники, понимали, а мы, кристальные большевики, не понимали!» – восклицали партийные идеологи, предпочитавшие титул дурака клейму труса (хотя обычно им хорошо давались обе роли).
Сегодня трудно даже представить, насколько расширила хотя бы полудозволенную картину мира эта книга – она прорубила новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое. Но – падение царящего над социальным мирозданием советского небосвода породило и новые претензии к ней: если прежде ее ругали за то, что в ней есть, то теперь начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно: Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое действительно обошел. А что еще хуже – кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе: планомерное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически когда-нибудь сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовой ошибке, когда артиллерия бьет по своим. Это у Сталина-то были свои!
Тем не менее, автор этих строк до сих пор испытывает неловкость, от того, что, глотнув пьянящего воздуха свободы, и он однажды тоже не удержался от соблазна покрасоваться на фоне покачнувшегося кумира, печатно назвав «Люди, годы, жизнь» энциклопедией советского либерального западничества, – как будто тогда было возможно какое-то иное западничество!.. А ведь пишущий эти строки никогда не претендовал на праведность, тогда как различение возможного и невозможного считается низким лишь в министерстве праведности…
С точки зрения этого министерства еще менее красиво выглядит многолетняя служба Эренбурга в качестве представителя Страны Советов в интеллектуальных западных кругах: одного взгляда на этого лауреата и депутата, равноправного собеседника всех европейских знаменитостей, было достаточно, чтобы понять, что СССР совершенно европейская страна и что слухи о тамошних притеснениях евреев не имеют под собой никакой почвы. И это правда: Эренбург сделал очень много для улучшения образа Советского Союза в глазах Запада. Но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза. Он и впрямь был символом какой-то иной цивилизации, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую мечту, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира.
Интересно, признает ли его западничество современное?
Свой сказочный выигрыш в той лотерее, где ставкой была жизнь, Эренбург использовал, чтобы воскресить тех, кому не повезло. Наверное, тоже символично, что на публикацию его воспоминаний едва ли не наиболее страстно откликнулась дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон: «Спасибо за воскрешенных людей, годов, города». Она же самозабвенно благодарила Эренбурга за те усилия, которые этот несгибаемый Протей, этот верный Фома прилагал к тому, чтобы издать первый сборник Цветаевой со своим предисловием: «Вы единственный, который может это сделать – и сердцем, и умом, и знанием ее творчества, и чистыми руками».
Но может быть, его итоговая книга при всей ее огромной исторической роли уже отслужила свое, подобно отработанной ступени баллистической ракеты? Ведь едва ли не о каждом ее персонаже к сегодняшнему дню выпущено столько литературы, что проблемой становится скорее ее не-обозримость, чем нехватка: пустырь, на котором главный советский космополит когда-то высаживал первые робкие деревца, превратился в непроходимый лес (в котором, кстати сказать, едва ли не половина липы), – что, собственно, «Люди, годы, жизнь» могут дать сегодняшнему читателю?
Сегодняшнему читателю я бы посоветовал видеть в этой книге не только источник знаний, но и конспект колоссального романа. Попробуйте каждое дерево в этом лесу дорисовать и раскрасить собственным воображением, постаравшись взглянуть на него глазами юного социал-демократа, религиозного романтика, монпарнасского обормота (М. Волошин), глумливого скептика, верного солдата, библейского пророка, искушенного царедворца, несломленного утописта, а может быть, и мудрого конфуцианца, полагающего, что лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту.
Наталья Орлова / Россия /
Окончила Литературный институт имени Горького (семинар Е. М. Винокурова). Автор трех стихотворных сборников и многих статей о поэзии Серебряного века, переводчик, филолог, составитель ряда школьных хрестоматий по литературе. Главный редактор в долгосрочном проекте «Антология русской поэзии». Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Континент», «Знамя», «Юность», «Арион», «Студенческий меридиан».
Откажись!
Не гордись этой церковкой строгою,
Не молись дорогим мертвецам,
Не клянись этой ночью сторогою,
Даже пулей, обещанной нам.
Откажись – это нам примерещилось —
Голос Божий и блеск эполет,
Новизна повсеместно овещилась,
Ничего уже, в сущности, нет.
Все забудь – не воротишь, не вынянчишь,
Не достанешь из жаркой сумы,
Из горящего стога – не вытянешь,
Не вернешь ни Кузьмы, ни Косьмы.
А в придачу – ни марта метельного,
Ни беленых древесных рубах,
Ни исподнего снега последнего,
Где земля проступает на швах.
Вон зима-то – роскошная, нарядная,
Да пристыла дворцовая жизнь,
А весна – молода, неприглядная,
А, пойди, от нее – откажись!
Карта родины
Ну и карта,
сколько опечаток —
Расползается —
поди-ка, тронь!
Родины шагреневый остаток
Накрывает детская ладонь.
Сколько нас? Куда нас бесы гонят?
Иль взаправду – Русский Бог устал?
Пусть теперь нас крепко заборонит
Всей хребтиной складчатой Урал,
Пусть Байкал пошлет – в летящем дыме
Пароходов дальние гудки,
И рванутся – сестрами родными —
Волга с Камой – наперегонки…
Пусть спешит шипящая пороша,
Защищая спешенную ширь,
Пусть в окошко, словно книгоноша,
Постучит трескучая Сибирь.
Будто нам теперь – и горя мало —
Было – сплыло, сгинуло, ушло,
Словно пленку, – вспять перемотало
И опять снимает набело…
…Затерялась в поле похоронка
На того, последнего, царя,
И мерцает заревая кромка —
Кабинет его из янтаря…
Рубцов
Где тот неузнанный край,
Верная мира основа,
Здесь ли бывал Николай,
Помнят ли люди Рубцова?
Та же ли в небе звезда
Молча, стоит над селеньем?
Так же ль полны поезда
Верой, судьбой и волненьем?
Так же ли моет река
Берег забытый и лодки?
Греет ли грусть светляка
Память веселой походки?