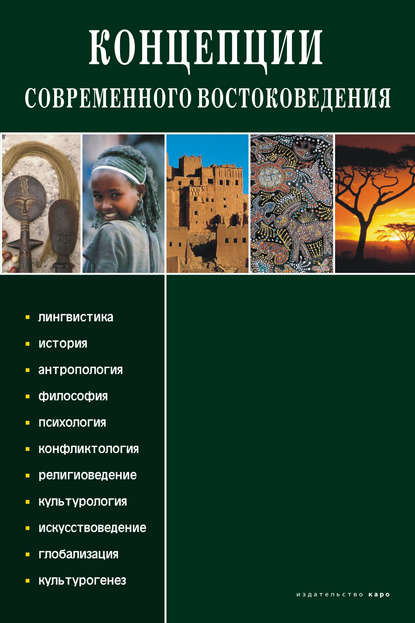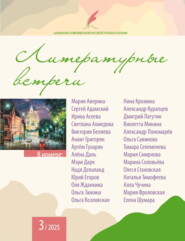По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Концепции современного востоковедения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отсюда, как очевидное следствие, популярность среди востоковедов-литературоведов компаративистских[116 - Термин «сравнительное литературоведение» (litterature comparеe) возник в XIX в. во Франции по аналогии со «сравнительной анатомией» Кювье. Первая кафедра сравнительного литературоведения была открыта в 1896 г. Очевидна связь литературной компаративистики с концепциями позитивизма и дарвинизма.] и поэтологических исследований, которые призваны подтвердить или опровергнуть одну из означенных позиций.
Как правило, предметом сопоставительного анализа становятся явления, принадлежащие к разным литературам, что актуализирует, пусть и с благими пожеланиями, дихотомию «свой – чужой». Предметом сопоставления может стать любой элемент коммуникативной цепочки в системе литературы: эпоха, период, род, вид, жанр, автор, произведение, образная система, отдельный троп и т. д. Применительно к русской литературе можно перечислить десятки работ в широчайшем диапазоне – от тюркизмов в «Слове о полку Игореве» и коранических мотивов у Пушкина до поисков социалистического реализма в той или иной восточной литературе и влиянии трудов В. И. Ленина на литературы Востока[117 - Характерные примеры: В. И. Ленин и литература зарубежного Востока: Сб. ст. М., 1971; Восток в русской литературе XVIII – начала XX века. Знакомство. Переводы. Восприятие. М., 2004.]. В данном случае востоковеды не часто ищут генетические связи, но охотно выявляют типологические[118 - Примером столь же блестящим, сколь и спорным была и остается знаменитая работа Н. И. Конрада (Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966). Из недавних примеров заслуживает внимания: Постмодернизм в литературах Азии и Африки: Очерки / З. А. Джандосова, Е. А. Завидовская, М. Е. Кухтина (и др.). СПб., 2010.]. Напротив, если сопоставляются/сравниваются явления одной литературы[119 - Из отечественной востоковедной классики первыми приходят на память работы Е. Э. Бертельса (Бертельс Е. Э. Избранные труды: Навои и Джами. М., 1965).] или одной литературной общности[120 - Теория межлитературных и межкультурных общностей разрабатывалась советскими и словацкими учеными, в том числе и на восточном материале. См.: Проблемы особых межлитературных общностей / Под общ. ред. Д. Дюришина. М., 1993; Брагинский И. С. Проблемы востоковедения. Актуальные вопросы восточного литературоведения. М., 1974.], то на первый план выходит уже генетическая связь. Компаративистские исследования явлений, связанных с процессами модернизации, на Востоке имевшей по преимуществу вид европеизации, и современными процессами глобализации, широко используют теорию и различные подходы интертекстуальности.
Отдельно необходимо упомянуть историко-литературные труды востоковедов[121 - Из сравнительно недавних работ уместно назвать чрезвычайно содержательную работу, где история средневековой литературы Ирана рассматривается с точки зрения эволюции литературного канона (Ардашникова А. Н., Рейснер М. Л. История литературы Ирана в Средние века (IX–XVII вв.): учеб. для студентов вузов, обучающихся по направл. «Востоковедение, африканистика» Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. М., 2010). Примечательно, что в данной работе история литературы отходит от господствующих внелитературных моделей.]. Под историей литературы обычно подразумевают историю литературных идей, кодов, приемов, стереотипов, мотивов и т. п., т. е. произведения литературы рассматриваются как исторические документы, отражающие идеологию и ментальность того или иного народа, той или иной эпохи.
Взаимоотношения собственно истории и истории литературы традиционно сводят к тому, что литературоведение занимается текстом, а история – контекстом, т. е. история воспринимается как объяснительный контекст литературы, а значит, литература меняется, потому что меняется контекст вокруг нее. Отсюда привычные для истории литературы оппозиции: старое – новое, традиция – новаторство, эволюция – разрыв и т. п. Писатель и его творчество понимались и объяснялись лишь как обусловленные исторической ситуацией. История литературы же становилась некой суммой, панорамой «великих», «значительных», «знаковых» авторов и их сочинений в хронологическом порядке. Такой подход был присущ востоковедным трудам изначально[122 - Gibb E. J. W. A History of Ottoman Poetry. Vol. 1–6. London, 1900–1909; Крымский А. Е. История Турции и ее литературы (От возникновения до начала расцвета). М., 1916. Т. 1; Крымский А. Е. История Турции и ее литературы от расцвета до начала упадка. М., 1910; Крымский А. Е. История арабов и арабской литературы, светской и духовной. М., 1911–1913. Ч. 1–3; Крымский А. Е. История Персии, ее литературы и дервишеской теософии. М., 1914–1917. Т. 1–3; Hammer J. Von. Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Vol. 1–4. Pesth, 1836–1838 и др.], что объяснялось отношением к научному востоковедению как к «экзотической» области традиционной филологии. При таком ракурсе получается, что история литературы отказывается от изучения собственно текста, сосредоточиваясь на изучении персоналий и набора внелитературных установок и идеологий, что превращает историю литературы в «просто историю». Чувствуя эту опасность, патриарх арабистики И. Ю. Крачковский еще в 1908 г. настаивал на изучении арабской поэзии (литературы?) именно в литературоведческом плане, а не как материала для историка[123 - Крачковский И. Ю. Избр. соч. М.; Л., 1956. Т. II.]. С другой стороны, само прошлое – история – доступно нам только в форме текстов (архивы, документы, надписи и т. п.), т. е. исторический контекст – это тоже текст или тексты и, в конечном счете, сам тоже литература.
История литературы теснейшим образом связана с исторической поэтикой, так что даже существует опасность их смешения. Историческая поэтика – учение о литературном процессе и его особенностях, закономерностях литературного развития; о литературных направлениях, течениях, школах;
об исторически меняющихся факторах, влияющих на литературное развитие; о сравнительном изучении литератур. Среди отечественных востоковедов популярность историко-поэтологических подходов объясняется незыблемым авторитетом отечественных литературоведов-невостоковедов А. Н. Веселовского и В. М. Жирмунского, М. М. Бахтина и М. П. Алексеева, Д. С. Лихачева и А. М. Панченко, Е. М. Мелетинского и многих других. Примечательно, что почти каждый из них отдавал дань научного интереса русской литературе и культуре, которые для большинства зарубежных коллег почти «восточные». Очевиден и обратный вектор: ряд собственно востоковедных трудов, по признанию самих авторов (см., в частности, А. Б. Куделина, Б. Я. Шидфар)[124 - Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983; Шидфар Б. Я. Образная система арабской классической литературы (VI–XII вв.). М., 1974.], были написаны под влиянием работы Д. С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы». Другим характерным примером может служить уникальный по масштабам проект серии «Литература Востока», реализованный в СССР издательством «Наука» в 60–70-е гг. ХХ в. Всего вышло 25 научно-популярных очерков различных литератур[125 - Андалусская, арабская, ассамская, афганская, бенгальская, бирманская, вьетнамская, индонезийская, китайская, корейская, маратхская, непальская, пенджабская, персидская, персоязычная литературы Индии, сингальская, тайская, телугу, тунисская, турецкая, филиппинская, хинди, японская, классическая арабская, древнеиндийская литературы.], написанных ведущими советскими востоковедами. Уникальность проекту добавляло и то, что все очерки выполнены в рамках единой идеологии, связанной с марксистской теорией «двух культур» и имманентной борьбы «прогрессивного с ретроградным», а то и с «реакционным»[126 - Обзор достижений, действительно немалых и во многом уникальных, российской, советской школы востоковедения в исследовании истории и теории восточных литератур см.: Брагинский В. И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока (очерки культурологического изучения литературы). М., 1991; Стеблева И. В. Изучение теории восточных литератур в России: ХХ век. М., 1996.].
Поэтика (в узком смысле), семиотика и риторика литературы – учение о литературном языке и художественной речи, о системе тропов. Поэтика, особенно традиционная, каноническая, и применительно главным образом к поэтическим текстам, всегда была в фокусе внимания востоковедов (например И. А. Борониной, П. А. Гринцера, А. Б. Куделина, М.-Н. О. Османова, Д. В. Фролова)[127 - Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978; Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987; Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983; Османов М.-Н. О. Стиль персидско-таджикской поэзии IX–X вв. М., 1974; Фролов Д. В. Классический арабский стих. М., 1991.]. Актуализировалась важная с методологической точки зрения мысль И. Ю. Крачковского о необходимости изучать поэзию с позиций и в контексте ее собственной культурной традиции[128 - Крачковский И. Ю. Избр. соч. М.; Л., 1956. Т. II.]. Характерно, что среди изданий серии «Памятники литературы народов Востока», основанной в 1959 г. (с 1965 г. – «Памятники письменности Востока»), в которой издавались и издаются тексты и комментированные переводы сочинений на 26 языках Востока, значительное место занимали труды поэтологические (например, сочинения Ватвата, Вахида Табризи, Кайса ар-Рази и др.)[129 - Ватват, Рашид ад-Дин. Сады волшебства в тонкостях поэзии / Пер. с перс., иссл. и комм. Ю. Н. Чалисова. М., 1985; Вахид Табризи. Джам-и мухтасар: Трактат по поэтике / Критич. текст, пер. и прим. А. Е. Бертельс. М., 1959; Кайс ар-Рази, Шамс ад-Дин Мухаммад б. Свод правил персидской поэзии / Пер. с перс., иссл. и комм. Ю. Н. Чалисова. М., 1997.].
«Лингвистический поворот» в востоковедном литературоведении тоже дал свои результаты преимущественно в изучении поэтических или близких к ним текстов, хотя структурно-семиотический анализ в востоковедном литературоведении получил развитие лишь в комплексе со сравнительно-историческим и сравнительно-типологическим методами[130 - Стеблева И. В. Изучение теории восточных литератур в России: ХХ век. М., 1996.]. Возможно, свою роль здесь сыграла генетическая предрасположенность востоковедения при всей внутренней дифференциации к междисциплинарности, точнее было бы сказать – мультидисциплинарности[131 - Зеленев Е. И. Постижение Образа мира. СПб., 2012.]. Востоковедение не могло смириться с тем, что анализ литературного произведения сводится к определению его статики, т. е. структуры, внутритекстовых связей, отношений между элементами структуры, иерархических уровней и т. п. Для востоковеда очевидна необходимость изучения и динамики – всего многообразия контекстуальных и интертекстуальных связей, влияний и заимствований, синхронии и диахронии и многих иных факторов. Кстати замечу, может быть, поэтому востоковеды с легкостью восприняли постмодернистский принцип, что предмет исследования должен определять выбор теоретического аппарата. Здесь принципиально различать две исследовательские позиции:
– я отдаю себе отчет, что никогда не смогу узнать наверняка, «что хотел сказать автор», «что объективно говорит данный текст», «как этот текст воспринимался» и т. д. Поэтому я не воссоздаю, а конструирую смыслы с помощью набора разнообразных исследовательско-аналитических практик. Диалог происходит между «я» и «иной»;
– я знаю, что благодаря навыкам обращения с фактами и опыту их систематизации – а это и составляет мой научный капитал и определяет мой исследовательский статус – я способен понять и эксплицировать и контекст, и истинные смыслы заложенного в тексте. Псевдодиалог происходит между «я» и «я», пусть и замаскированным.
«Антропологический поворот» в гуманитарных науках, и прежде всего, в литературоведении, может оказаться чрезвычайно продуктивным для востоковедения в общем значении, поскольку акцентирует внимание на взаимодействиях в широком спектре от транснациональных до кросскультурных и постколониальных в первую очередь через выстраивание взаимодействия «я» и «другой/иной». Фактически востоковедение на этом повороте возвращается к методам прежней филологии и отчасти философии, уже впитавших опыт социальных наук.
А. В. Образцов
История всемирной литературы: взгляд востоковеда
За последние десятилетия в отечественной науке появилось достаточно много литературоведческих исследований, в которых литературы Востока рассматриваются как неотъемлемая часть мировой литературы. Само это понятие появилось еще в XIX в. Целенаправленные попытки создания полноценной картины истории мировой литературы предпринимались с середины ХХ в.: достаточно вспомнить классические работы Н. И. Конрада[132 - Конрад Н. И. О некоторых вопросах истории мировой литературы // Запад и Восток. М., 1966. С. 446–465.] и др. Естественно, что инициаторами подобных исследований, как правило, выступали востоковеды, стремившиеся приблизить уровень изучения литератур Востока к общему уровню европейского литературоведения, имеющего за плечами гораздо более длительную научную традицию. Однако обозначенная тенденция в силу ряда причин так по-настоящему и не закрепилась в научном сознании, а следовательно, и в практике преподавания филологических дисциплин. Одной из причин скептического отношения специалистов по истории литературы Европы и Америки к перспективам создания единой «истории всемирной литературы» был известный теоретический «экстремизм» востоковедов – сторонников Н. И. Конрада, сделавших попытку теоретического построения истории литератур Востока на базе европейской модели литературного развития. Если в отношении термина «античность» применительно к классическим литературам Древней Индии, Древнего Китая и даже Ирана не было высказано особых нареканий, то попытки применения термина «Ренессанс» (Возрождение) к определенным этапам и явлениям средневековых литератур Востока вызвали резкие возражения. Острая полемика вылилась в затяжную дискуссию, в результате которой стороны так и не пришли к какому-либо согласованному мнению. В целом отрицательный результат дискуссии о Возрождении на Востоке, тем не менее, имел и некоторые позитивные последствия прежде всего для востоковедения. Инициированный дискуссией более пристальный взгляд на средневековые литературы Востока открыл новые перспективы их изучения. В период 70–80-х гг. ХХ в. целая плеяда отечественных ученых активно разрабатывала проблемы традиционной поэтики и закономерностей функционирования литературного канона[133 - См., например: Лисевич И. С. Литературная мысль Китая на рубеже Древности и Средних веков. М., 1979; Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика (вторая половина VIII – XI век). М., 1983; Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987, и др.].
Развитие данного направления основывалось прежде всего на переводах и анализе древних и средневековых трактатов по поэтике и преодолевало стереотипные представления о средневековом литературном самосознании как о чем-то застывшем и догматическом. Скептическое отношение к средневековой филологии ярко выражено в некоторых работах И. С. Брагинского. В частности, в статье «О мастерстве Рудаки» он писал: «Конечно, о многих поэтических приемах Рудаки – точнее, о применении им канонов средневековой поэтики – содержательно и правильно говорится в работах Саида Нафиси, Абдулгани Мирзоева, а также других авторов. <…> Однако, к сожалению, в литературоведческих, точнее филологических работах о Рудаки внимание уделено преимущественно тем моментам его художественного мастерства, которые лежат на поверхности <…> выражают нормы поэтики его времени. <…> Чтобы хотя бы подойти к решению этого вопроса, следует оценить художественное мастерство Рудаки с идейно-эстетических позиций нашей эпохи» (не отвлекаясь, конечно, от “пафоса расстояния”, лежащего между нами и поэтом)»[134 - Брагинский И. С. О мастерстве Рудаки // Из истории таджикской и персидской литератур. М., 1972. С. 175.]. Даже с учетом сделанной исследователем оговорки замечаем, что его отношение к нормативной поэтике остается в известной мере предвзятым. Перевод и скрупулезный анализ теоретических трудов по нормативной поэтике позволил не только преодолеть сложившийся стереотип, но и приблизиться к пониманию природы эстетического переживания и основ авторской оригинальности в рамках канонического типа словесного творчества. Перевод оригинальных трактатов и их комментирование стало особым типом научно-исследовательской работы, о чем свидетельствует большое количество трудов этого плана, созданных в названный период[135 - См., например: Анандавардхана. Дхваньялока («Свет дхвани») / Пер. с санскр., введ. и коммент. Ю. М. Алихановой. М., 1974; Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии / Пер. с перс., исслед. и коммент. Н. Ю. Чалисовой. М., 1985 и др.].
Углубленное изучение теоретической поэтики, ее мировоззренческих оснований привело к формированию более сбалансированного взгляда на историю литератур Востока в целом, на их роль и место в мировом литературном развитии. В свою очередь, успехи востоковедного литературоведения способствовали оживлению интереса к сравнительно-типологическим штудиям с привлечением широкого сопоставительного материала. Среди замечательных работ такого типа следует назвать книгу Е. М. Мелетинского «Средневековый роман», посвященную проблемам генезиса и становления классических форм средневекового романа на Западе и Востоке. Выделение общих признаков средневекового романа во всем многообразии его специфических национальных обличий – от западного куртуазного романа до персидского романического эпоса и японского моногатари – говорит само за себя. Характеризуя роман как особую форму повествования, Е. М. Мелетинский писал: «Роман <…> в отличие от героического эпоса ориентирован на изображение самодовлеющей личности, уже не столь органически связанной с этническим коллективом (и оппозицией “свой/чужой”), личности в какой-то мере эмансипированной. Главный интерес романа состоит в личной судьбе (испытаниях и приключениях) героя и в изображении его внутренних переживаний, его “частной жизни”, более или менее выделенной из общественного “эпического фона”»[136 - Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы. М., 1983. С. 3.].
Появление исследования, построенного как комплексная историко-типологическая характеристика одного из наиболее характерных жанров средневековой литературы, представленного на материале разных литературных традиций, обнаружило возможность восприятия художественных открытий классического романа как универсальных достижений мировой литературы в Средние века.
Любой литературовед понимает, что ряд проблем, касающихся истории литератур Запада, невозможно полноценно решить без привлечения материала восточных литератур и результатов специальных востоковедных работ. Специалисты западной литературы не без основания полагают, что период формирования литератур нового типа на Востоке и их вхождения в мировую литературу (XIX–XX вв.) связан с очевидным европейским влиянием. Однако тот же период в развитии европейских литератур ознаменовался бурным интересом к восточной словесности, характеризующим все творчество европейских романтиков. Этот пример взаимовлияния литератур Востока и Запада наиболее известен и очевиден. Об этом написано много специальных исследований. Из последних работ отметим наиболее близкую по тематике к настоящему разделу публикацию доклада А. Б. Куделина «Литературные связи Запада и Востока и формирование концепции “мировая литература”»[137 - Куделин А. Литературные взаимосвязи Запада и Востока и формирование концепции «мировая литература»: Избранные лекции университета. Выпуск 136. СПб., 201 1.]. В докладе можно найти подробную библиографию, свидетельствующую о постоянном интересе литературоведов всех направлений к проблеме построения целостной «истории всемирной литературы». Исследователь отмечает: «Отдавая приоритет в своих научных поисках то вектору Восток – Запад, то вектору Запад – Восток, ученые не сразу осознали, что в оппозиции Восток – Запад важны оба вектора. И что только при равном исследовательском интересе к обоим векторам, т. е. при интерпретации взаимосвязей и взаимодействия Востока и Запада, можно получить адекватные представления о мировом литературном процессе в ту или иную эпоху»[138 - Указ. соч. С. 6.].
Перспективы изучения отдельных литератур в рамках проблематики «истории всемирной литературы» были намечены в трудах Института мировой литературы им. М. Горького, прежде всего в многотомном издании «История всемирной литературы»[139 - История всемирной литературы: В 9 т. М., 1985–1989.]. Тот же подход обозначен и в коллективной монографии «Историческая поэтика»[140 - Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.]. В последней из названных работ не только представлены статьи по отдельным проблемам и периодам литературного развития Запада и Востока, но и предпринята успешная попытка выявления общих закономерностей смены литературных эпох и типов художественного сознания в масштабе мировой литературы. Аналогичное направление исследования было заявлено в коллективном труде «Лирика: генезис и эволюция», выпущенном объединенными усилиями специалистов по западным и восточным литературам Российского государственного гуманитарного университета[141 - Лирика: генезис и эволюция. М., 2007.].
Приведенный перечень работ[142 - Автор настоящего раздела не ставил своей задачей дать полный обзор трудов соответствующего направления, а только намеревался показать основные линии исследований, подводящих к проблематике «истории всемирной литературы».], включающий как историко-литературные, так и теоретические исследования, свидетельствует о том, что в отечественном литературоведении создан достаточный фундамент для разработки лекционных курсов по «Истории всемирной литературы» в качестве самостоятельной филологической дисциплины. Продуктивность данного направления в преподавании подтверждена многолетним опытом чтения курса «Истории всемирной литературы» в стенах Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Естественно, что содержание подобного курса должно быть структурировано особым образом, чтобы не превратиться в «братскую могилу имен и фактов» или в «телефонный справочник». В названных выше трудах отечественных историков литературы выделены узловые моменты и силовые линии, в соответствии с которыми должен быть представлен в таком курсе конкретный историко-литературный материал. Для каждой эпохи литературного развития можно выделить круг наиболее общих форм художественного сознания, продуктивных жанров и эстетических концепций. Часто не совпадающие хронологически, но сопоставимые в силу своего типологического сходства, определенные параметры литературного процесса могут быть выделены, классифицированы и сопоставлены. Именно сопоставительный анализ и позволяет реально представить соотношение общего и особенного в каждом конкретном литературном явлении, выявить его специфически национальные черты на фоне более или менее общей типологической модели.
Данный подход можно продемонстрировать на таком понятии, как «возврат к древности», которое зафиксировано во многих национальных традициях словесности в разные периоды. При сильном хронологическом разбросе и внешних различиях «возвраты к древности» обнаруживают и принципиальное сходство, состоящее в резком неприятии литературного опыта непосредственных предшественников, порицании их стиля как «порчи классики» и настоятельных попытках вернуться к признанным образцам «древности». При всей искусственности применения к восточному материалу европейской терминологии, обозначающей великие стили эпох, аналогии в закономерностях стилистического развития литературы не могут быть проигнорированы внимательным наблюдателем. Наиболее известным феноменом такого рода, своеобразным эталоном может служить эпоха Ренессанса в Европе с ее отношением к предшествующему периоду как к «темным векам» и откровенным восхищением античностью как эстетическим идеалом. Универсальная теоретическая модель, позволяющая не только проследить, но и сопоставить этапы стилистической эволюции в разных литературах, развивавшихся в русле традиционалистского типа художественного сознания, была предложена в свое время Д. С. Лихачевым. Ученый ввел понятия стилей первого и второго порядка[143 - Лихачев Д. С. Развитие русской литературы в X–XVIII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.] и сформулировал наиболее общую закономерность их развития и смены, отметив, что «каждому стилю первого порядка соответствует свой поздний “эллинистический” период». Для стилей первого порядка характерны более длительные периоды развития, тяготение к простоте и правдоподобию, тогда как стили второго порядка более кратковременны, им свойственна декоративность, формализованность, условность. Стиль первого порядка всегда ассоциируется с понятием «классика», идет ли речь об эпохе Древности или эпохе Средних веков, а его носители, идущие на резкий разрыв с непосредственными предшественниками, ищут идеал в аналогичном стиле, декларируя свою стилистическую платформу как «возврат к древности». Достаточно обратиться к материалу китайской классической литературы, чтобы обнаружить в ее истории две эпохи «возврата к древности», выраженные не только в литературных произведениях, но и осознанных теоретически. Первый такой «возврат» наблюдался в первой половине VIII в., когда стремление к простоте и ясности языка стало средством борьбы со стилем непосредственных предшественников, чья ритмическая проза с обязательными синтаксическими параллелизмами и обязательным чередованием строк по четыре и шесть знаков-слогов была названа «пышными надуманными безделушками». Аналогичную тенденцию «возврата к древности» В. М. Алексеев отметил в период XIV–XVI вв., сравнив представления двух китайских авторов о поэтическом мастерстве с художественными установками XVII в. «Поэтического искусства» классициста Буало. Статья В. М. Алексеева знаменательно названа «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве»[144 - Алексеев В. М. Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве // Алексеев В. М. Китайская литература. М., 1978. С. 273–281.]. Формулируя основную задачу своего сравнения, ученый-китаист писал: «Думаю, что сравнительные этюды такого рода следует продолжить во имя дальнейшего приобщения истории китайской литературы к истории литературы мировой»[145 - Указ. соч., С. 273.]. Комментируя сходство взглядов китайцев и француза, В. М. Алексеев замечает: «Идеал поэта – древний дух (разрядка автора. – М. Р.), сообщающий поэта живым порядком с ушедшими тысячелетиями. Полное совпадение! Гомер для Буало “закон, предел, его же не прейдеши”. Для китайцев “Шицзин” точно такой же абсолют. <…> На обоих фронтах – подражание древним, религиозное, сосредоточенное – вот основной идеал!»[146 - Указ. соч. С. 278.] Характерно, что и китайские поэты-критики, и Буало считают поэзию своей эпохи деградацией, декадансом, порицая ее за излишества, слишком тонкую отделку, нарочитую красочность, красивость. Именно эти черты и объединяют стили второго порядка. К примеру, в Иране в XVI–XVII вв. господствовал стиль второго порядка, который по традиции исследователи – сами иранцы, и европейские иранисты – называют «индийским». Показательно, что наиболее общей его характеристикой в самой поэзии этого периода становится слово «красочный», «цветистый» (рангин), в отличие от предшествующего периода, когда господствующим критериям совершенства стиля отвечало определение «сладкий», «сладостный» (ширин)[147 - См. об этом подробно: Рейснер М. Л. Мотивы авторского самосознания в персидской газели XI – начала XVIII века // Памятники литературной мысли Востока. М., 2004. С. 256–259.]. В XVIII в. появилась плеяда поэтов, чьим идеалом вновь стала поэзия «древних». Выдающийся иранский поэт и филолог рубежа XIX и XX вв. М. Т. Бахар назвал это движение Базгашт-е адаби («Литературное возвращение»), имея в виду тот же «возврат к древности».
Под знаком «возврата к древности», т. е. возрождения традиций доисламской бедуинской поэзии, творили такие корифеи арабской классической поэзии, как Абу Таммам (804/806–845/846) и ал-Бухтури (821–897). Этот период европейские ориенталисты часто именовали неоклассицизмом[148 - Фильштинский И. М. Арабская литература в Средние века. Арабская литература VIII–IX веков. М., 1978. С. 110.].
Универсальность понятия «возврата к древности» для литературного развития разных народов в эпоху господства нормативной поэтики не вызывает сомнений. Дальнейшее изучение и сопоставление выделяемых самой национальной традицией этапов стилистической эволюции классических литератур Запада и Востока, т. е. выделение «стилей эпох», может способствовать формированию более полной картины развития всемирной литературы именно в те периоды, которые до последнего времени практически не воспринимались с точки зрения единства закономерностей мирового литературного процесса. В связи с обозначенной темой особую актуальность приобретает изучение элементов авторской рефлексии в художественном произведении. Прежде всего, это важно для тех литературных традиций, в которых отсутствуют или слабо представлены нормативные трактаты по поэтике.
В данном разделе обозначена лишь одна из узловых проблем построения фундамента «истории всемирной литературы» как самостоятельной филологической дисциплины, преподаваемой в историко-типологическом, компаративном и историко-функциональном ключе. Пока опыт чтения этого лекционного курса небогат, его дальнейшая разработка требует совместных усилий специалистов-литературоведов самого широкого профиля. Пусть настоящая публикация послужит первым шагом на пути к плодотворному научному диалогу и совместной работе исследователей и преподавателей разных направлений, объединенных общей идеей.
М. Л. Рейснер
Востоковедение в антропологическом дискурсе
Социально-культурной антропологией как «сравнительным народоведением» наработаны различные концепции и методологические подходы, которые имеют непосредственное отношение к востоковедению – дисциплине, занимающейся изучением народов Востока. Действительно, все они так или иначе связаны с осмыслением «другого», прежде всего неевропейцев. В ретроспективе именно азиатские народы первоначально привлекли внимание древних мыслителей, пытавшихся обнаружить причины отличий их общественного уклада и образа жизни от Запада (греков и римлян). Таким образом, антропология фактически всегда была методологическим стержнем востоковедения, а поэтому ознакомление с антропологическим инструментарием, теоретическим и методологическим, в рамках курса «Концепции современного востоковедения» должно способствовать формированию у начинающего исследователя-востоковеда научно-мировоззренческой позиции при выборе адекватного подхода для изучения соответствующей афро-азиатской культуры.
Здесь надо упомянуть также особую логику развития гуманитарного знания, когда каждому исследователю приходится, образно говоря, все «начинать сначала» – в отличие от естественных наук, где прогресс носит поступательный характер, т. е. от предыдущего достижения к следующему. И в антропологии, как можно наблюдать, каждая новая концепция являлась в той или иной мере «возвращением к истокам», конечно, с привлечением новых эмпирических данных, достижений в сфере естественных наук и т. д. Подобное развитие напоминает механизм пульсации, когда доминирование одних идей временно угасает, чтобы в будущем, на новом витке осмысления социокультурных реалий, возродиться вновь. Историки науки устанавливают корреляцию между планетарной общественно-политической динамикой (войнами, революциями, появлением новых государств и т. д.), достижениями в области естествознания, технологического прогресса и доминированием (популярностью) той или иной концепции. Опять же уход антропологической теории с авансцены обществоведческой мысли никогда не означал ее полного забвения; оставались научные институты (университеты, кафедры и т. д.), которые продолжали следовать традиции, утратившей, казалось бы, свою актуальность.
Порой же в истории европейской гуманитарной мысли были в одинаковой степени востребованы разнонаправленные теории. Например, сосуществовали идеи Э. Дюркгейма, отрицавшие роль личности в обществе, равно как и использование психологических подходов для исследования социальных процессов, и идеи Г. Тарда, наоборот, отвергавшие дюркгеймовское понимание общества как самостоятельную субстанцию, не сводимую «к сумме индивидов», а придававшие решающее значение именно личностям. Как раз отдельный поведенческий акт, по Г. Тарду, превращается в общественную норму посредством феномена «подражания»[149 - Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892.]. Концепция Г. Тарда была, правда, популярна прежде всего в США, где социальной индивидуализм получил наибольшее развитие.
Конкурентная борьба в истории антропологической мысли отчетливо прослеживается между двумя взглядами на социальную материю: с одной стороны, как на универсалию, развивающуюся в пространстве и времени по общим законам, с другой же – как на уникальное образование, сводимое к конкретному социуму, функционирование и развитие которого не подвластно каким-либо общим законам.
Первый подход представлен в антропологии социологизмом (Э. Дюркгейм и др.) и эволюционизмом (Л. Морган и др.). Здесь была выработана универсальная схема человеческого прогресса «Дикость – Варварство – Цивилизация», которая доминировала в обществоведческом дискурсе до начала ХХ столетия.
Второй подход уходит своими корнями в немецкий романтизм XVIII в., отстаивавший уникальность «народного духа» (Й. Г. Гердер). Если взгляды первого подхода соотносятся с категорией общество, то второго – с культурой. С начала ХХ в. возникали научные школы, продолжившие немецкую традицию. Они отвергали идею существования мировой культуры в пользу отдельных разнородных культур, функционирующих по своим законам. Здесь отчетливо проявилась тенденция к мистификации Культуры, отождествления ее с «живым организмом, имеющим душу». Своеобразие культур объяснялось природными условиями и хозяйственной деятельностью (Л. Фробениус, Ф. Гребнер). Культура противопоставлялась цивилизации, наступление которой обусловливало «смерть» культуры (О. Шпенглер). Этот подход порой вообще отрицал понятие прогресс, за исключением области техники (Ф. Боас)[150 - См. об этом: Бочаров В. В. Антропология, социология и востоковедение // Введение в востоковедение: Общий курс / Под ред. Е. И. Зеленева, В. Б. Касевича. СПб., 2011.].
В 60-х гг. ХХ столетия наблюдался новый всплеск интереса к эволюционной идее (в работах Дж. Стюарта, Л. Уайта, Р. Нэролла и др.). Неоэволюционизм, в частности, воплотился в теории модернизации, предполагавшей неизбежное развитие стран, освобождавшихся от колониальной зависимости, их продвижение от «традиционного общества» к обществу «индустриальному». Это предусматривало переход к производству, основанному на современных наукоемких технологиях, а в области политической – к демократии, в сфере юридической – к универсалистской системе юридических законов (вместо обычного права) и т. д.
Однако уже к 70–80-м гг. общественно-политическая практика продемонстрировала несостоятельность надежд, основанных на упрощенных схемах. Если в технологическом плане в соответствующих странах и наметился некоторый прогресс, то в общественно-политической и правовой сфере западные институты показали свою неработоспособность. Особенно это стало очевидно после краха СССР, когда вновь возникшие государства, обретя независимость и искренне намереваясь идти по пути цивилизации, вернулись на привычные для них рельсы авторитаризма.
Поэтому эпоха постмодернизма (конец 80-х – начало 90-х) вновь выдвинула на первый план понятие «культура». Представители соответствующих течений полностью отрицают «прогресс», равно как и понятие «традиционное общество», во многом определявшие объект научного интереса социально-культурной антропологии. Абсолютизация «культуры» привела и к пониманию мирового процесса не как эволюции в направлении к цивилизации, а как «вражды цивилизаций» (С. Хантингтон), где под цивилизацией, по сути, понимается культура. Исследования западных ученых-востоковедов объявлены европоцентричными, описывающими не «другого» (Восток), а самого себя (т. е. Запад)[151 - Там же.]. Антропология же воспринимается сегодня «как дисциплина, являющаяся ядром наук о культуре»[152 - Адамопулос Д., Лоннер У. Дж. Культура и психология на распутье: историческая перспектива и теоретический анализ // Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. СПб., 2003. С. 47 (Ориг.: Culture and Psychology ed. D. Matsumoto. Oxford, Univ. press, 2001).].
Появление концепций, рассматривающих социальную материю и законы ее развития как универсалию, связано прежде всего со странами классического развития капитализма (Англия, Франция, США). Здесь образованные слои населения верили в постоянный и постепенный прогресс общества, в успехи реформирования общественных устоев, в то, что их страны находятся во главе всего человечества на этом пути и показывают всем пример жизни по общечеловеческим нормам. Этот дух повлиял на сложение научных воззрений, связанных с развитием общества. Отметим, что и сегодня, несмотря на, казалось бы, «периферийность» данных идей, исследования в рамках теории модернизации также ведутся, давая порой весьма интересные результаты.
Возвращаясь к разговору о теории культуры, замечаем, что изучению данного феномена мы обязаны преимущественно Германии (И. Г. Гердер, Ф. Ратцель, Р. Вирхов, Л. Фробениус, В. Шубарт, О. Шпенглер). Именно для данной страны этнический момент (при преимущественно «почвенном» понимании этноса) всегда был первостепенным из-за ее запоздалого объединения в национальное государство, а также из-за претензий на лидерство в Европе и на владение соседними землями. Это, в свою очередь, было связано со слабым развитием капитализма. По-видимому, по той же причине подобные идеи получили развитие и в России (Н. Я. Данилевский, евразийцы, Л. Н. Гумилев). Постмодернистский интерес к культуре обусловлен, как отмечалось, не оправдавшимися надеждами, возлагавшимися на теорию модернизации.
Сегодня наряду с концепцией культуры существует теория этноса, которая в отечественной науке занимает привилегированное место. У нас термин «этнос» обозначает и народ, и даже нацию, подчеркивая их уникальность. Этнос, по мнению многих исследователей, обладает гомогенными функциональными и общеразделяемыми характеристиками (язык, культура, самосознание, психический склад), отличающими его от других групп, имеющих иной набор подобных характеристик (С. А. Арутюнов, Ю. В. Бромлей, С. И. Брук, В. И. Козлов и др.) или, как конфигурации, одних и тех же признаков, но с разными «весовыми коэффициентами»[153 - Касевич В. Б. Язык, этнос и самосознание // Язык и речевая деятельность. СПб., 1999. Т. 2.].
Иногда этнос определяется и вовсе как биосоциальный организм, который рождается и умирает подобно человеку (Л. Н. Гумилев). Предполагается, что он первоначально возникает на ранних стадиях социогенеза в виде рода (племени), затем эволюционирует в народность, что связывается с рабовладельческой и феодальной формацией, или даже обозначает этнические общности и группы, населяющие страну и имеющие те или иные формы национально-территориальной экономики. Третий тип этноса – нация – возникает с развитием капитализма и всемерной интенсификацией связей при единстве территории, языка, культуры, черт национальной психики, а также с очень тесными связями экономическими[154 - Крысько В. Г. Этническая психология. М., 2002. С. 74.]. По существу, данный взгляд воспроизводит сталинскую парадигму этногенеза: племя – народность – Нация.
В современной западной антропологии понятие «этнос» почти не употребляется, но существует концепция этничности. Она исходит из мультикультурности большинства современных обществ, из практического отсутствия гомогенных групп с «характером», «волей» и «интересом», а тем более культурных изолятов[155 - Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. С. 60.]. Этничность складывается на основе групп, которые определяются прежде всего по характеристикам, значимым для их членов и конструирующих их самосознание[156 - Barth F. Ethnic Groups and Boundaries. Boston, 1969.]. Таким образом, этничность – это форма социальной организации культурных различий[157 - Тишков В. А. Указ. соч. С. 60.].
Существуют различные подходы к пониманию феномена этничности: примордиалистский, инструменталистский и конструктивистский. Первый, примордиалистский подход видит в этничности объективную данность, своего рода изначальную (примордиальную) характеристику человечества.
Считается, что индивид изначально принадлежит к некой конкретной группе с определенными культурными характеристиками, обладает чувством общего происхождения, культурной или физической схожести или просто близости к «своим». Таким образом, осознание групповой идентичности как бы заложено в генетическом коде и является продуктом ранней человеческой эволюции, когда способность распознавать членов родственной группы была необходима для выживания[158 - АрутюнянЮ. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология. М., 1999. С. 32–33.]. Теория этноса, несомненно, относится к примордиалистскому направлению. На Западе также есть сторонники примордиализма, правда, в основном не биосоциальной, а культурно-психологической разновидности, в которой этничность – это прежде всего разделяемая членами группы культурная общность с объективными характеристиками принадлежности: территория, язык, экономика, расовый тип, религия, мировоззрение и даже психический склад. Примордиалистский взгляд на этничность легче всего принимается обыденным сознанием, обладая огромной мобилизующей силой[159 - Тишков В. А. Указ. соч. С. 101, 104–105.]. Порой даже люди, профессионально занимающиеся изучением других культур, в обыденной жизни стоят на позициях вульгарного примордиализма, закрепляя за всеми представителями этнической группы (этноса) соответствующие морально-этические, волевые и прочие характеристики.
При инструменталистском подходе этничность выступает в качестве инструмента, с помощью которого индивиды и политики достигают своих целей (Д. Хоровиц, Дж. Ротшильд и др.). Утверждается, что этничность, как бы пребывая в спящем состоянии, «вызывается к жизни» и используется в целях социальной мобильности, установления/преодоления доминирования или подчинения, социального контроля, осуществления взаимных услуг и солидарного поведения. Таким образом, она выступает в качестве символического и реального капитала, который может быть использован заинтересованными лицами в самых различных целях. Считается, что этническую идентичность следует рассматривать больше как форму социальной организации, чем выражение определенного культурного комплекса. Процесс рекрутирования в состав группы, определения и сохранения ее границ свидетельствует, что этнические группы и их характеристики являются результатом исторических, экономических и политических обстоятельств и ситуативных воздействий[160 - Тишков В. А. Указ. соч. С. 105.].
Конструктивизм предполагает, что существующие на основе историко-культурных различий общности представляют собой социальные конструкции, возникающие в результате целенаправленных усилий со стороны людей и создаваемых ими институтов, особенно со стороны государства. Суть этих общностей, или социально конструируемых коалиций, составляет разделяемое индивидами представление о принадлежности к общности, или идентичность, а также возникающая на основе этой общей идентичности солидарность. Границы таких общностей являются подвижными и изменяющимися понятиями не только в историко-временном, но и в ситуативном плане, что делает существование этнической общности реальностью отношений, а не реальностью набора объективных признаков.
В результате можно выделить следующие расхождения с теорией этноса:
– этничность – это не «исторически сложившиеся устойчивые общности людей»;
– признак этнической общности – не общее происхождение, а представление или миф об общей исторической судьбе членов этой общности;
– вера в то, что это – «наша культура», и есть этот признак, а не сам по себе очерченный культурный облик, который без этой веры ни о чем не говорит, т. е. культура сама по себе «молчалива».
Элиты в стремлении мобилизовать этническую группу против своих противников или против центральной государственной власти стремятся увеличить сумму групповых черт и символов, чтобы доказать, что члены группы отличаются не только какой-то одной чертой (например, диалектом), а многими чертами[161 - Тишков В. А. Указ. соч. С. 116–118.].
Действительно, африканский материал отчетливо свидетельствует о том, что «туземцы» не имели представления об этничности до тех пор, пока не появилась европеизированная интеллигенция, возглавившая политическую борьбу сначала против колонизаторов, а потом между собой. Именно они стали конструировать этнические сообщества, апеллируя к мифологизированной истории, которую подчас сами и создавали.