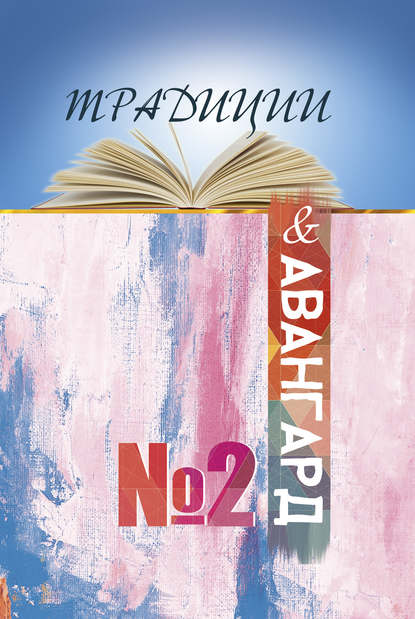По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Традиции & авангард. Выпуск № 2
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не останавливайся.
Он лежал, закрыв глаза и раскинув руки, вспоминая радость этих блаженных взрывов. Когда вот так – сама, пожирая, вжимаясь до боли. Когда не выуживаешь из интонаций, не дорисовываешь – мясом чувствуешь, как она тебя хочет. «Ни с кем, ни с кем, ни с одной».
– Сильно? Покажи. Кровоточит?
– В самый раз.
– Извини, я… тоже очень соскучилась.
– Я, знаешь, пожалел, что согласился на Третьяковку.
Выпрямилась, скользнув пальцами по его животу. Уселась сверху и смотрит насмешливо.
– Чего это? Такой там Серов замечательный. И твой любимый Верещагин.
– Промаялся весь день. Какой, к бесам, Верещагин? Чуть не лопнул от либидо.
– Ох… И я. Раздразнил бедную женщину. То за плечо, то за бедро…
– Там ещё эти дети кругом, экскурсии. И эти…
Накрыла его рот своим.
– Эти, как их… блюстительницы… смотрительницы… бабушки…
Оторвалась, погладила его по щеке.
– Кто же знал, что мы так встретимся… так легко… А? Так же не бывает? Боялась. Думала, как всё будет, как он меня встретит. Поэтому и Третьяковка. Время потянуть.
– Конечно, не бывает.
Подумалось зачем-то в эту секунду, весьма витиевато: доведись погибать вдвоём в какой-нибудь катастрофе, он бы, пожалуй, держался героически… потому что – она ведь смотрит.
– Всё, я в душ.
Роман, конечно, пунктирный. Только сшил он суровой ниткой всю его нескладную жизнь.
Не развёлся бы, если бы не Ева. Если бы не было Евы. Да, не ради неё: жизнь совместная не предусматривалась ни в каком виде. Не обсуждалась.
Сначала с мужем сошлась: «Попробую ещё раз. Прости, Москвы у нас не будет». Потом развелась – осенью, а в декабре: «Я беременна. Не от тебя».
Теперь-то он всё себе высказал: «А ты думал, она как любимая книжка. Открыл, почитал и на полку до следующего раза».
Но тогда, в декабре, он притих и искал убежища в том, что казалось самым крепким убежищем. Собрался быть трезвым и твёрдым. Дескать, этим всё сказано, кончен бал.
И – не кончилось ничего.
Но уже не сможет начаться.
Так, как стоило бы начать.
Пока он лежит, глядя в гостиничный потолок, в оглушительной вселенской пустоте с журчащим душем и сохнущими на блюдце оливками – в оглушительной вселенской пустоте, для которой только и существуют гостиничные номера, чистенькие и одинаковые контейнеры человеко-часов – пока он лежит, сорокалетний голый мужик под яркими лампами, ему не страшно сознаваться в том, что, возможно, чуть позже он попытается смягчить и раскрасить. Ева осталась. Но осталась так, как не остаётся то, что может быть твоим. Как речка подо льдом. Как пожар в терриконе. И самое плохое – он не знает, что с этим делать. Он не умеет.
– Говорила же, недолго. Это уже неизлечимо. Даже если можно сделать что-нибудь не спеша, потянуть… всё равно как солдат по тревоге.
Ложится рядом.
– Что же ты со мной сделал, Андрюша. До сих пор всё дрожит.
Когда брак с Викой, полный привычных неловкостей и умолчаний вроде раздельных друзей и отпусков, завершился – пока ещё только внутри, освобождая от последних привязанностей, – оставаясь дома один, он безвольно слонялся по квартире. «Что это? Зачем?» Принюхивался, бывало: всё ему мерещились запахи посторонние; застывал перед открытыми дверцами шкафов, не сразу припоминая, где там что лежит. Возвращаясь же с парковки, невольно замедлял шаг: возвращение в ненастоящее настоящее требовало усилий. Усмехался желчно: пока изменял Зое с Евой, запросто перебегал из мира в мир, скользил вдохновенно и весело, как танцор по паркету, – а стоило закончиться забавам адюльтера, принялся давать жертву совести. Вспомнит при Вике про Еву – и покраснеет. И любая будничная семейная мелочь требовала теперь специальных напряжённых усилий. Будто на суде, где решается чья-то судьба, ему задан решающий вопрос, а он собрался лжесвидетельствовать.
Сарказм поначалу помогал, но, как водится, ненадолго.
Вика предпочла деловой подход: она всегда умела пройти по тонкому льду налегке, без эмоций.
– Квартиру будем делить?
Без жалких вступлений, на фуршете перед какой-то премьерой, подвинув к нему тарелку с канапе.
– Вот эти вкусные, с виноградинами. Там брю недурственный.
– Спасибо… Нет, квартира останется тебе. Я возьму ипотеку.
– Спасибо.
– Прости, что так…
– Ладно. С кем не бывает.
Он был благодарен ей за великодушную сдержанность. Но тем скорее от неё ушёл. Болтаться бесполезно промеж двух сильных женщин – таких разных, но одинаково умеющих обойтись без него – было невыносимо и глупо.
Восемь свиданий в гостиницах. И основательный брак, кропотливо выстроенный в обход всех острых углов, терпеливо обжитой, укреплённый взаимными уступками и точно выверенными компромиссами, умер.
– Только ни слова про любовь, ладно?
Лежали, разомлевшие, уткнувшись друг в друга – потрагивая, поглаживая, невозможно ведь остановиться сразу, отпустить краешек рая – и она сказала – так предупреждают о чём-то важном – голосом заранее тревожным: «Ни слова про любовь». Он кивнул – куда-то ей в плечо. И не сказал ни слова.
Потом она снова стояла у окна, разглядывая московские огни. Высокий этаж, видно далеко.
– Я это запомню, – обронила. – Этот вид из окон.
– Давай вместе, – ответил он и встал рядом.
И это всё. Он знает, почему сантименты – табу. У неё нет на это времени и жизненных соков. «Мне нельзя. Я должна быть стальной заводной собачкой. Утром завелась – побежала. Работа, ещё работа, дети. Вечером завод закончился. На автопилоте уроки, купание, обед на завтра, завела будильник, упала, уснула. Иначе я сломаюсь. Если позволю себе… даже немного… Сломаюсь, мне нельзя». Отделение кардиологии, подработка в поликлинике через дорогу. Старший заканчивает первый курс, младший готовится в школу. «Знаешь, в этом есть свои плюсы. «Должна» как ответ сразу на всё. Чтобы не заморачиваться каждый раз отдельно. Игра облегчается, когда в запасе самый высокий козырь – я должна». Возможно, это письмо её немного задело. По крайней мере, он на это рассчитывал – без особой надежды вывести её из равновесия и подтолкнуть поближе к себе – скорее раздражаясь из-за неприступности её островной империи и позволяя себе выплеснуть раздражение. Она отреагировала коротко, в тот раз оставив недосказанное без ответа: «Наверное, так проще. Но я и не искала, как сложней».
Незаметно он и сам научился отсекать сантименты. Отстранённо вспоминал, как умел когда-то и, чего уж там, даже любил растравить душу – и ей, и себе. То ли повзрослел, то ли заново научился чувствовать. Ему понравилось.
В этом небиблейском раю имена сущему раздавались по новым правилам. Здешний Адам перенял у здешней Евы её манеру предусмотрительно избегать называния самого большого – такого, в чём может скрываться опасность.