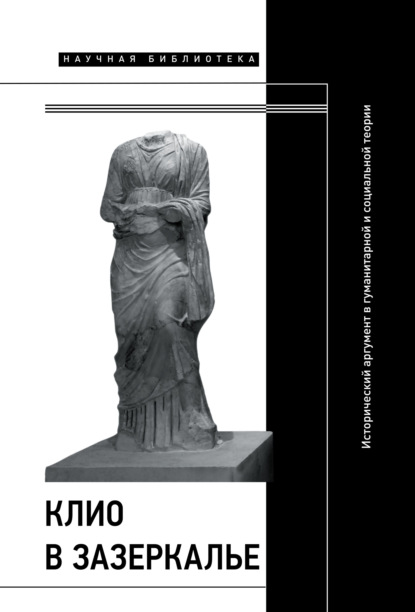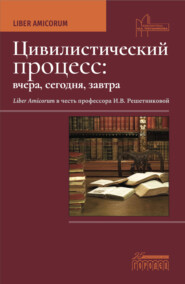По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клио в зазеркалье: Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории. Коллективная монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По существу, наследниками Дильтея в сообществе профессиональных историков остаются авторы биографий мыслителей и художников. Еще меньшим оказался для сообщества историков «вес» предложенного неокантианцами баденской школы метода «отнесения к ценности»: быстро обнаружилась искусственность противопоставления наук о природе и наук о культуре, в особенности когда речь идет о науках номотетических – экономике, социологии, демографии – и идиографических – истории, этнографии, филологии. К тому же факты «нагружены ценностями» и в случае естествознания, поскольку факт есть нечто, верить во что – рационально: «Не иметь ценностей значило бы также не иметь фактов»[113 - Патнэм Х. Разум, истины и история. М.: Праксис, 2002. С. 262.]. Науки о природе не лишены ценностного измерения, причем в случае некоторых дисциплин – экологии, климатологии – оно оказывается сегодня преобладающим.
Критики такого методологического дуализма не без оснований писали о том, что он является наследием теологического взгляда на особое положение человека в мироздании, каковое пытались сохранить, отвергая «натурализм» в том, что затрагивает «дух» и «культуру»[114 - Albert H. Kritische Vernunft und menschliche Praxis. Stuttgart: Reclam, 1977. S. 128.]. Однако это не отменяет того, что Historismus оказал огромное воздействие на несколько поколений историков, да и сегодня термин «историзм» не случайно обозначает некий общий принцип, отличающий историческое сознание.
Историческое мышление
Историческое сознание имеется у любого взрослого человека, более того, без памяти о своем прошлом человек лишен самого себя, своей идентичности или «Я». Любое определение сознания и самосознания предполагает память – и наоборот, о памяти мы осмысленно говорим только с учетом сознания. По существу, мы тождественны нашим воспоминаниям о прожитой жизни – только они нам безусловно принадлежат. Это воспоминания о том, чего уже нет, а образы памяти смешиваются с тем, что прибавило воображение: «мы сотканы из ткани наших снов». Поэт продолжал эту мысль так: «and our little life is rounded with a sleep»[115 - Цитата из пьесы У. Шекспира «Буря» (The Tempest, IV, 1). – Примеч. ред.] – наши собственные воспоминания пересекаются и сливаются с окружающими их фантазиями других. В этом потоке воспоминаний происходили перемены – мы менялись вместе с окружающими обстоятельствами. Так как мы были и остаемся «общественными животными», то одновременно с нами изменялись другие люди, передававшие нам память о предшествующих поколениях. Не вдаваясь в написанное по поводу сознания и памяти в сотнях трудов философов, психологов, нейрофизиологов и представителей еще ряда наук, мы можем сказать, что историческое сознание прирождено человеку. Можно назвать его вслед за рядом философов историчностью, проистекающей из временности и конечности. Различия между индивидами и группами в степени развития этого сознания определяются множеством социальных условий.
Понятно, что у живущих в природных циклах обитателей племен, а затем и деревень, это сознание было чаще всего неразвитым. Веками существовали великие цивилизации, в которых историческое измерение сводилось к мифам о первоначальном времени. Мы можем наблюдать сегодня, как высокотехнологичная цивилизация способствует атрофии исторического сознания, словно она выполняет программу из гимна: «du passе faisons table rase»[116 - «Из прошлого мы сделаем чистую доску» (фр.) – цитата из гимна «Интернационал» (L’International) Эжена Потье. – Примеч. ред.]. Причем делает это с завораживающей быстротой и эффективностью. «В уверенном движении марша, которое ради некоего неведомого будущего выхолащивает настоящее и обесценивает прошедшее, кроется нечто фантастическое»[117 - Юнгер Ф. Ницше. М.: Праксис, 2001. С. 171.]. Речь совсем не обязательно идет о малограмотных и обездоленных в рамках такой цивилизации.
Более того, если посмотреть на немалую часть книг по политической и военной истории на прилавках книжных магазинов, то окажется, что они написаны людьми не просто искажающими прошлое в силу идеологической зашоренности, но и не умеющими мыслить. К этим «письмам темных людей» на темы истории относится большая часть публикаций, нацеленных на пропагандистский эффект и делящих мир на «своих» и «чужих» по заранее предписанным признакам. Это естественно для мира политики, да и не ново; скажем, любому испанисту известно, что «черная легенда» по поводу Испании на протяжении трех столетий разворачивалась в протестантских странах, прежде всего англосаксонских, с навязчивыми образами «охоты за ведьмами» и «судов инквизиции», хотя в протестантских землях Германии ведьм сожгли в сотню раз больше, а в Англии число казненных католиков превосходило количество протестантов и марранов, прошедших через суды инквизиции в Испании. Такое сочинительство «легенд» существует и ныне. Прошлое нужно лишь для подкрепления политических целей. «Сегодня в большей степени, чем когда бы то ни было, – писал М. Оукшот, – прошлое представляет собой поле, на которое мы выпускаем наши моральные и политические мнения, словно гончих на луг в воскресный день»[118 - Оукшот М. Деятельность историка // Его же. Рационализм в политике. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 151.]. Исторически мыслить таким «гончим» не требуется.
Историческое мышление, как и любое другое мышление, подчинено законам логики. Мыслить – значит пользоваться понятиями и высказывать суждения. Мысль соотносится с мыслимым, мыслящий субъект нацеливает свои суждения на объект, ставит и решает проблемы, расчленяет и синтезирует данные опыта. Одно описание различных философских и психологических концепций мышления потребовало бы сотни страниц. Применительно к истории можно сказать, что используемый последователями С. Л. Рубинштейна термин «наглядно-образное мышление» характеризует по своей форме мышление историка – даже на уровне научного исследования оно всякий раз выходит за пределы логических операций с понятиями. Основанием теоретической науки является, как писал Кассирер, «чистый понятийный знак», к коему совершается переход от «словесного знака», который еще не оторвался от мира созерцания, от общих представлений. То, как У. Джеймс понимал соотношение «перцептов» и «концептов», вряд ли вдохновит физика, поскольку лишенные чувственной стороны концепты истолковываются им исключительно инструментально, а понятийная схема мира надстраивается над перцептивной, и есть лишь набор «что», помогающих топографически расположить «это»[119 - Джеймс У. Введение в философию. М.: Республика, 2000. C. 44–46.], но подобное смешение понятий с представлениями характерно для историка.
Применение количественных методов в историографии ограничено, даже включаемые в повествование термины номологических наук чаще всего не утрачивают связи с естественным языком. Такие термины, как «формация» или «цивилизация», «сословие» или «город», не обладают строгостью естественно-научных понятий. В отличие от физика, однозначно определяющего свои термины («масса», «пи-мезон» и т. п.), историк говорит не о «городе вообще», а об античном полисе, отличающемся от Александрии и Антиохии времен диадохов, не говоря уж о древнем Уре или Лондоне времен Диккенса. Достаточно вспомнить начальные страницы очерка М. Вебера «Город», чтобы оценить это многообразие[120 - Вебер М. Город // Его же. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. С. 333–486.].
Использование повседневного языка, обращение к мыслям и страстям людей роднят историка с литератором. Иные историки были замечательными стилистами, читать их не только полезно, но и приятно. А среди писателей мы легко найдем тех, кто обладал способностью передавать ход времени, причем речь идет не обязательно об авторах исторических романов. Историческое сознание Набокова или Бунина, возвращающихся к переживаниям детства и юности в «Других берегах» и «Жизни Арсеньева», воссоздает и картину России конца XIX – начала XX в. Отличие историка в том, что он занят познанием прошлого, желает получить неопровержимую его картину и соблюдает конвенции, принятые в его дисциплине.
Историческое мышление есть необходимая предпосылка познания, целью которого является точное знание. Только мыслить мы можем все, что угодно, от «золотой горы» до писавших «Велесову книгу» ариев или «русских» этрусков. Повествование должно быть внутренне непротиворечивым, связным, но оно может быть чистой фантазией (скажем, «Сильмариллион» Толкиена) или иметь лишь отдаленное отношение к истории. Возьмем для примера литературное произведение, в котором явственны как историческое сознание, так и историческое мышление – «Искендер-наме» Низами. Поэт XII в. был одним из наиболее образованных людей своего времени, он обращался к давнему прошлому, сознавая, что говорил об ушедшей эпохе, то есть мыслил он исторически. Но он воспроизводил обрывки сведений об Александре Македонском и дополнял их своей фантазией, а потому возглавлял его герой «румийцев» (то есть «ромеев», известных ему византийцев), а сражался он в том числе и с Русами, причем в союзе с Хазарами. Будучи образованным арабо-мусульманским философом, Низами помнил, что учителем царя был Аристотель, споривший с Платоном, а потому повествовал в своих стихах, как по итогу публичного диспута Александр отдает первенство Платону, а потом царь беседует еще и с «отшельником Сократом» (до нас все же дошел образ спорщика на улицах и площадях Афин). Эта замечательная поэма может служить для нас источником, позволяющим судить не об Александре или древнегреческих философах, а об уровне исторических знаний в тогдашнем исламском мире. Равно как и о том, что познанием прошлого тогда не занимались.
Способность исторически мыслить воспитывается. Она не сводится к «вчувствованию», хотя эмпатия является важным аспектом отношения к истории. «Умение понимать характер людей, знание того, как они обычно реагируют друг на друга, способность “проникать” в их мотивы, принципы, ход мыслей и чувств (а это не в меньшей степени применимо и к поведению масс, и к развитию культур) – это таланты, необходимые историкам, они не нужны ученым-естественникам (или нужны им не в такой степени). Способность познания, чем-то похожая на способность познания чужого характера или способность узнавать лицо, столь же важна для историков, как знание фактов»[121 - Берлин И. Понятие научной истории // Его же. Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. C. 68.]. Такое мышление предполагает реализм, учет природы людей, которые требуются не только деятелю, но и тому, кто исследует прошлое. Начиная писать «Государя», Макиавелли говорил об огромности дистанции между тем, как люди живут и как они должны были бы жить, а потому тот, кто отвергает действительное ради должного, действует во вред себе и погибнет, сталкиваясь с множеством преследующих свои интересы лиц; склонный к идеализации того или иного периода, народа, класса и даже героя историк утрачивает ту ясность видения, которая служит объективности рассказа. Но вырабатывается такая объективность опытом понимания не исторических персонажей, а окружающих людей, его современников. Немцы называют ее Menschenkenntniss[122 - Знание человеческой природы (нем.). – Примеч. ред.], но можно именовать ее и рассудительностью, здравомыслием, каковые полагались в Античности одной из основополагающих добродетелей – ????????, та «практическая мудрость», которую Цицерон определял как «знание того, к чему надо стремиться, и того, чего надо избегать». Другой, не менее важной чертой исторического взгляда на мир является скептицизм, рождающийся из того же здравого смысла: почти все доступные нам источники (исключим данные археологии) созданы людьми с их интересами, страстями и предрассудками, которые отличаются от наших собственных – не менее сомнительных.
Наконец, есть еще одна особенность деятельности историка, отличающая его не только от естествоиспытателя, но и от представителя социальных наук. Как заметил Кассирер, «именно богатство и разнообразие, глубина и интенсивность своего собственного личного опыта – отличительная черта большого историка. Без этого труды останутся бесцветными и безжизненными <…> Последовательно вытравляя из рассказа признаки своей индивидуальной жизни, историк не может таким путем достичь высшей объективности. Наоборот, таким образом он может лишь уничтожить в себе лучшее орудие исторической мысли. Притушив свет своего собственного личного опыта, я перестаю замечать опыт других и не могу судить о нем»[123 - Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Его же. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. C. 661.]. Без опыта политики в своем времени историк мало что поймет в борьбе Мария и Суллы или в гражданской войне в Испании. Не имевшему опыта философствования не стоит заниматься историей философии. Однако все это относится к предпосылкам исторического познания, но не к нему самому.
Познание прошлого
Познание есть отношение нашего сознания к миру, это деятельность, результатом которой является знание. Познавая, мы движемся от данных опыта к тому, что способно их объяснить, от evidence к inference[124 - От фактического доказательства к логическому следованию (англ.). – Примеч. ред.]. Такая деятельность ума свойственна уже первобытному человеку, решавшему практические задачи. Знания требовались и строителю пирамид, и навигатору, и торговцу. Практические цели направляли и то знание, которое касалось других людей: чтобы общаться с иноплеменником, нужно знать чужой язык, чтобы управлять поселением, требуется знание о потребностях и верованиях его обитателей и т. д. Над практически ориентированной познавательной деятельностью возвышается знание о мире в целом. Человеческий ум всякий раз обнаруживает, что он сталкивается с внешней для него реальностью, и с детства учится различать только кажущееся и действительное. Вопрос об истине ставится и в мифологии, и в искусстве, опыт священного в религии отделяет наделенную подлинным смыслом реальность от преходящего и лишенного такого смысла. Философское умозрение ставит эти вопросы уже на уровне абстрактных понятий и порождает ряд частных наук. Вопрос о методе возникает вместе с разграничением «пути истины» и «пути мнения».
Хотя возникновение историографии в Древней Греции в меньшей мере связано с философией, чем у прочих наук, вопрос об обоснованности знания ставил уже Фукидид, испытавший несомненное влияние тогдашних софистов. Рассказ историка о прошлом притязает на истинность, а это предполагает опору на факты, полученные посредством интерпретации источников. Сами документы и артефакты еще не являются фактами для историка, подобно тому как вещи и процессы не представляют собой фактов для физика. Можно сказать, что наличие берестяной грамоты есть факт для обнаружившего ее археолога, но прочитанный текст этой грамоты указывает на автора, адресат, социальные отношения, религиозные верования, повседневную жизнь в Новгороде. Вся совокупность источников образует сеть или комплекс сведений, позволяющих судить о жизни в XI–XII вв. Суждение относительно совмещения язычества с православием в сознании словен новгородских будет фактом, если оно подкрепляется этими сведениями.
Факты суть не предметы, а установленные истины по поводу предметов, высказывания, которые нашли (и все еще находят) подтверждение. Вещи и отношения между ними воздействуют на нас, входят в поле нашего сознания – факты всегда являются данными сознания. Эмпирическим базисом науки их делает то, что они интерсубъективны, возобновляются и воспроизводятся при смене наблюдателя или истолкователя, подтверждаются и выступают как нечто не менее «упрямое», чем гравитация или невидимые нами социальные институты, побуждающие, например, одеваться определенным образом или переходить дорогу в положенном месте. Наука начинается не с фактов, а с проблем, с выдвижения гипотез, с перехода от незнания о нашем незнании к знанию о незнании и только потом – к уверенному знанию о знании. Историк задает вопросы по поводу источника, на которые он желает получить ответ, ищет связь содержащихся в нем сведений с тем, что скрыто, что не осознавалось самим автором и т. д. Каждый отдельный источник увязывается с другими, проверяется посредством сопоставления – факты устанавливаются через эту работу истолкования и реконструкции.
Правда, в случае истории, да и большинства наук о человеке, под «фактами» подразумевается нечто иное, чем в науках о природе. Инструменты и оружие, дворцы и хижины, деньги и украшения отсылают нас не к физическим свойствам предметов, но к представлениям и ценностям людей. Наши сегодняшние знания о звездах, болезнях или экономике не помогут нам в понимании мотивов поведения людей прошлого, вкладывавших в них иной смысл. Мы сталкиваемся со сходной ситуацией, имея дело с представителями малознакомой нам культуры – не только антрополог в первобытном племени, но и турист в Китае или Саудовской Аравии обнаруживают смысловые различия. Но их ему могут растолковать современники, тогда как историк должен сам открыть эти скрытые значения. Редуцировать смыслы к наблюдаемому поведению не удается, акты сознания неустранимы в историческом повествовании. Объяснения в нем всегда предполагают интенциональность сознания и служат ему, причем сами объяснения часто имеют телеологический характер[125 - Обсуждение логических проблем в исторических науках дано в работе: Вригт Г. Х. фон. Объяснение и понимание // Его же. Логико-философские исследования. Избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 35–242.]. Казалось бы, тем самым находит подтверждение тезис представителей историзма о понимании как господствующем в историографии методе, что отличает ее от прочих наук.
Однако, если мы посмотрим на сегодняшние социальные науки, то обнаружим, что повсюду, где уровень квантификации невысок, мы имеем дело со сходными процедурами. Это очевидно в случае этнографии, где, словами К. Гирца, «теоретические обобщения столь невысоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смысл и лишаются всякого интереса»[126 - Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 194.], в психологии и социологии сохраняются границы применения количественных методов, поскольку они имеют дело с осмысленным поведением людей; даже в экономике раздаются голоса тех, кто ставит под сомнение и лежащую в основе economics антропологию, и подмену социальной реальности игрой математических моделей[127 - Сошлюсь для примера на резкую критику такого рода игр Т. Пикетти: Пикетти Т. Капитал в XXI в. М.: Ad Marginem, 2015.]. Обособление истории на том основании, что она занята прошлым, а не настоящим, неверно уже потому, что все социальные науки имеют дело с изменяющейся во времени действительностью, да и создавались они мыслителями, которые постоянно обращались к истории – достаточно вспомнить Маркса и Вебера, Дюркгейма и Парето. То, что сегодняшний средний социолог или экономист игнорирует историю, еще не является свидетельством того, что сами эти науки стоят вне истории. На стыке ряда социальных наук возникают синтетические концепции («стадии роста», «догоняющая модернизация», «мир-системный анализ» и т. д.), которые нацелены именно на постижение истории.
Пока историки остаются членами научной корпорации, они принимают ту картину мира, которую дают другие науки. Разумеется, сегодня трудно говорить о единой «научной картине мира» или о «научном мировоззрении», как в XIX в. В условиях все растущей специализации такой синтез всего со всем вряд ли по силам даже для самого эрудированного теоретика. Учеными нас делает принятие ряда аксиом и установок, характерных для научной рациональности как таковой. Каждая наука вычленяет свой слой или «отрезок» действительности, по-своему «кодирует» его своим языком, что нередко ведет к взаимонепониманию и даже к «конфликту интерпретаций». К тому же одна картина сменяется другой и в пределах каждой из дисциплин, причем историк не может быть одновременно знатоком во всех этих областях. Он вынужден просто считаться с теми теориями, которые разрабатываются его коллегами – прежде всего специалистами в области социальных наук.
Тотальная история
XX век был временем необычайно быстрого развития наук о человеке. Одни раньше, другие позже, они отделялись от философии, становились университетскими дисциплинами, образовывали научные сообщества со своими авторитетами, ассоциациями и журналами. Большинству этих наук был свойствен своего рода «империализм», претензия на то, что они главенствуют в этом открывающемся пространстве знания. Можно вспомнить о том, какими были претензии психоанализа и даже бихевиоризма (Уотсон!) в психологии, как структурализм из лингвистики стремился выйти на простор всей культуры, не говоря уж об экономике и социологии. Марксизм был просто самой притязательной доктриной, да и отличался в лучшую сторону от поделок его оппонентов.
Причины такого «империализма» лишь отчасти связаны со стремлением к мирской славе; в куда большей мере сказывалось то, что открытия и свершения отдельной науки о человеке превращались в аксиоматику для всех остальных. Если все наши мысли и чувства принадлежат психике, то наука о ней приобретала гипертрофированный вид, становилась основанием и математики («психологизм»), и права, и религиоведения. Так как мы являемся «общественными животными», а «социальное нужно объяснять социальным», социология представала как «наука наук», проясняющая в том числе и то, как в социальном взаимодействии возникали и развивались науки о природе. Самые любопытные результаты такого сорта генеалогий относятся к социальной психологии, которая перенимала амбиции обеих ее составляющих дисциплин. 1000-страничный труд Р. Коллинза об эволюции философских учений является ярким примером удивительного сплава амбиций и невежества. Впрочем, автору этих строк доводилось рецензировать международный проект социальных психологов, желающих применить к истокам астрофизики методики символического интеракционизма – звезды ведь тоже присутствуют в нашей душе, а теории о них порождаются воображением в социальном взаимодействии. Экономисты видят в своей дисциплине «самую научную» общественную науку на том основании, что она в большей степени математизирована. Даже этнографы одно время притязали на то, что методы наблюдения за поведением в микронезийских племенах универсальны и пригодны для анализа жизни в мегаполисах («антропология в метро»).
Не избежала такого «империализма» и история, причем для этого оснований у нее было даже больше, чем у прочих наук. Во второй половине ХХ столетия произошли огромные перемены в работе историков, которые нередко называли революционными. Конечно, речь идет о профессиональном сообществе исследователей, а не о школьных учебниках, популяризациях, идеологически «правильных» сочинениях приверженцев тех или иных стран и партий. В них мало что изменилось: люди по-прежнему делятся на good guys и bad guys, причем первые либо уже одержали победу, продвинув прогресс к новым вершинам, либо его когда-нибудь достигнут. Даже если академические историки участвуют в спорах, затрагивающих острые политические темы, критерии их профессионализма сделались значительно более строгими. Необычайно расширилась тематика, поменялись методы – историки стали задавать иные вопросы и находить иные источники.
Начало этому еще в 1930?е гг. положила социальная история, развивавшаяся прежде всего во Франции (школа «Анналов»), затем последовали экономическая история и связанная с нею клиометрия, история повседневности, история детства, верований, вкусов и т. д. Даже самая общая характеристика развития социальной истории в Германии, Великобритании или Франции потребовала бы отдельной обширной статьи. Несомненным было влияние марксизма, но наряду с ним историки обращались кто к Дюркгейму и Симиану, кто к Веберу; «история ментальностей» создавалась с учетом доктрин современной психологии – от психоанализа до когнитивной психологии. Переход от «событийной истории» и всей прежней histoire historisante[128 - «Историзирующая история» (фр.) – термин историка и философа Анри Берра, издателя «Журнала синтеза» – одного из важнейших периодических изданий, в первой трети XX в. освещавших дискуссии о природе гуманитарного и, в частности, исторического знания. По выражению Люсьена Февра, круг занятий «историзирующего историка», по сути, органичен лишь двумя операциями: «сначала установить факты, потом пустить их в дело». Л. Февр резко критикует такое понимание задач истории и настаивает на теоретическом осмыслении: по его мнению, «без предварительной, заранее разработанной теории невозможна никакая научная работа», само понятие факта нуждается в критике и уточнении, а «историк, отказывающийся осмыслить тот или иной человеческий факт, историк, проповедующий слепое и безоговорочное подчинение этим фактам, словно они не были сфабрикованы им самим, не были заранее избраны во всех значениях этого слова (а он не может не избирать их), – такой историк может считаться разве что подмастерьем, пусть даже превосходным. Но звания историка он не заслуживает» (Февр Л. Историзирующая история. О чуждой для нас форме истории // Его же. Бои за историю / Пер. с фр. А. Л. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова / А. Я. Гуревич (отв. ред.), Д. Э. Харитонович (коммент.). М.: Наука, 1991. С. 68, 69, 70) – Примеч. ред..] с ее сосредоточенностью на политической, дипломатической и военной истории, осуществленный основоположниками школы «Анналов» (Л. Февр, Ф. Бродель и др.), не был, конечно, разрывом со всей предшествующей историографией, как это нередко утверждали ее представители. Они сами многое переняли у Вебера и Зомбарта, да и нелепо настаивать на том, что историей институтов ранее никто не занимался – достаточно вспомнить наших В. О. Ключевского или М. И. Ростовцева. Тем не менее изменения были существенными, они поменяли само представление членов этого научного цеха о своей работе. Прошлому стали задавать вопросы, которые были навеяны проблематикой других социальных наук. Ф. Бродель призывал историков научиться говорить языками всех остальных наук о человеке[129 - Braudel F. Еcrits sur l’histoire. P.: Flammarion, 1969. P. 78–83.].
Экономические циклы, повторяющиеся серии, групповые конфликты, институционализированные верования, мемориальные празднества, воображаемые миры давних эпох – все это сделалось полем исследований. Переход к так называемой «новой истории» во Франции еще более расширил круг вопросов. Поменялись даже представления об историческом времени. Историки не обязательно следовали за Броделем с его longue durеe[130 - См. примеч. 61 к главе «Отцы кентавров и Клио in partibus infidelium», с. 7–36 наст. изд. – Примеч. ред.], но, говоря о средневековой цивилизации (Ж. Ле Гофф) или, скажем, о «цивилизации барокко» (П. Шоню), они отходили и от прежней историографии, сконцентрированной на великих личностях и государственных актах, и от историософских грандиозных фантазий по поводу цивилизаций на манер Шпенглера и Тойнби. Своего рода метатеорией сделалась «историческая антропология», которая соприкасается как с философией, так и с рядом наук о человеке. Ею обосновывается методический плюрализм историографии. При этом сама история становилась своего рода метанаукой для всех наук о человеке. Разве социальные науки не изучают исторически существовавшие общества и само сегодняшнее общество не изменяется каждый год и каждый день? Если «умственный инструментарий», как первоначально называл Л. Февр «ментальности», у людей прошлого был иным, то не является ли и психология частью истории? Предложенный в начале ХХ в. А. Берром термин тотальная история был принят как программа школой «Анналов»[131 - Иногда со ссылкой на Мишле с его знаменитым предисловием к многотомной французской истории 1869 г.]. Так как наше настоящее также принадлежит истории и содержит в себе следы прошлого, то и к ней подход должен быть историческим. Бродель ссылается на те слова, которые Февр раз за разом повторял в последние годы жизни относительно истории: «наука о прошлом, наука о настоящем».
Тем самым поменялись методы, причем преобладал импорт их из других дисциплин. Необходимость таких заимствований очевидна: имея дело с экономическими или демографическими процессами в прошлом, нужно ознакомиться с существующими ныне научными теориями. Как уже было сказано выше, историк принадлежит научному сообществу, а потому должен учитывать те сведения, которые дают нам науки о природе, идет ли речь о космологии или химии. Более того, сегодня вспомогательные исторические дисциплины развивались не без участия естествознания (дендрохронология, радиоизотопное датирование, аэрофотосъемка и т. п.), а геология, география и биология издавна входили в повествование историков – полезные ископаемые, морские торговые пути, климат, растения и животный мир учитывались историками и в древности.
Только в случае социальных наук мы имеем дело с набором весьма неопределенных полей знания. Во-первых, существуют несовпадения между разными дисциплинами: социолог и экономист часто расходятся в видении одних и тех же процессов, словосочетание «когнитивные науки» служит «шапкой» для ряда дисциплин, говорящих на непонятных друг для друга языках. Во-вторых, в рамках самих этих дисциплин не было и нет единства. Причем речь идет совсем не обязательно о расхождениях, проистекающих из привнесенной извне идеологии, как это представляется многим марксистам, видящим в противостоящих им доктринах «буржуазную идеологию». Представители кейнсианства спорят с монетаристами, вполне «буржуазный» mainstream экономической науки («неоклассика») расходится с «австрийской школой», причем эпитеты, которыми награждают представителей последней, бывают даже более резкими, чем на истматовском жаргоне. О социологии и психологии еще труднее говорить как о «нормальных науках» в терминах Т. Куна, поскольку в социологии даже самые общие понятия по-разному определяются сторонниками Р. Дарендорфа, Н. Лумана и П. Бурдьё (а немалое число сегодняшних социологов вообще не считают общество объектом социологии – эта дисциплина «кодирует» социологически все, что угодно). В психологии бихевиористы, когнитивисты и психоаналитики просто не имеют общего языка, а иногда и прямо называют друг друга шарлатанами и невеждами. Само прилагательное «социальный», применяемое представителями всех этих наук, понимается совершенно по-разному, да и где в человеческом мире провести границу между «социальным» и «не-социальным»?
Наконец, применимость методов, разработанных для познания современного общества, к далеким от него социумам и культурам часто вызывала сомнения. Ориентация на новейшие наработки и применение «последнего слова науки» для объяснения давних обществ в терминах дисциплин, разработанных для общества нынешнего, была метко названа П. Бурдьё «этноцентризмом». Да и видение самой истории представителями таких наук далеко от признания ее метатеоретического статуса, поскольку история для них есть некий банк данных. «Историк раскапывает эти данные и затем предоставляет их своим более теоретически мыслящим коллегам, которые затем производят научные обобщения и теории, устанавливая связи между различными видами социальных ситуаций. Эти теории могут затем применяться к самой истории для того, чтобы улучшить наше понимание тех способов, которыми взаимно соединяются ее эпизоды»[132 - Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. C. 99.]. Только нацелены эти обобщения на сети отношений, не просто осмыслявшихся людьми в иных терминах, но и существовавших лишь посредством иных смыслов, актуальных только для той эпохи. А потому историческое объяснение куда больше напоминает применение знания иностранного языка для понимания разговора, нежели знания законов физики для понимания работы паровой машины. Никакая умозрительная «мир-система бронзового века» или «политэкономия феодализма» не помогут историкам, занятым хоть древним Шумером, хоть трудным периодом Московского княжества в середине XV в. (борьба Василия Темного и Шемяки).
Не будучи специалистами во всех этих дисциплинах, историки заимствовали кажущиеся им наиболее пригодными ad hoc методы. Случайность такого рода импорта хорошо видна уже по «классикам»; когда Бродель сочувственно ссылается на Ф. Симиана и Ж. Гурвича, то подавляющее большинство сегодняшних социологов, прослушавших подробный курс по истории своей науки, зададут вопрос: «Кто это такие?» Конечно, историк русской эмиграции вспомнит, что меньшевик Гурвич, писавший в Германии начала ХХ в. диссертацию о Фихте, потом преподавал социологию в Сорбонне, но сегодня редко кто открывает его заполненные искусственными классификациями многостраничные труды. В силу моды на психоанализ к нему нередко обращались историки, но они брали только то, что им более или менее подходило, причем чаще всего из популярных изложений. Доныне секта свидетелей «травмы исторической памяти» ссылается на Фрейда, хотя о травме, ведущей к истерическому неврозу, он писал только в самых ранних своих трудах, а затем от такого упрощенного взгляда отказался. Занимаясь социологией Н. Элиаса, автор этих строк обнаружил, что во Франции его активно использовал и пропагандировал такой выдающийся историк, как Р. Шартье, тогда как другой, не менее выдающийся – Э. Ле Руа Ладюри, – посвятил сотню страниц уничижительной критике этого социолога. В рамках самой социологии у Элиаса имеется небольшое число последователей в Голландии и немецкоязычных странах, но и в них былая мода уже прошла. Следует ли из этого, что историку нельзя использовать подходы Элиаса к «процессу цивилизации» или к придворному обществу? Разумеется, никак не следует. Но стоит ли тогда ссылаться на авторитет социологии как науки? Или видеть в том, как этот социолог обосновывал свою теорию с помощью психоанализа, образец для подражания?
Таких примеров можно было бы привести изрядное число. Заимствования следовали и за интеллектуальными модами, теми доктринами comme il faut, которые отвечали веяниям в «левой» университетской среде. Когда в ней совершается переход от Сартра и Адорно к Фуко и Деррида, то можно ожидать появление сочинений историков, в которых какую-то роль начинают играть то «авторитарная личность», то «микрофизика власти».
Конечно, далеко не все заимствования были бесплодными. Если нынешний политолог использует математическую теорию игр, применяя ее к выборам сегодняшних президентов и сенаторов в США, то почему не использовать ее для выборов тех же персонажей в XIX столетии? Если так называемая «теорема Томаса» работает при осмыслении массового поведения в наше время, то она потенциально применима и при изучении биржевого краха 1929 г., и гонений на христиан во II в. н. э. Историческая наука обогатилась новыми инструментами. Методологический плюрализм сам по себе совсем не обязательно плох и не сводится к болтовне о «мультидисциплинарности», но он никак не может сделаться основанием тотальной истории. А именно такая разносторонность, даже всеядность, предлагалась в качестве фундамента – на место Провидения или Разума в качестве такого базиса пришла деятельность коллективного субъекта, цеха академических историков с их дистинкциями и синтезами по чужим прописям.
Разница с прежней философией истории заключается именно в том, что тотальность обеспечивается не умозрением, не априорным принятием того, что человеческая природа определяется стремлением к разуму и свободе (Кант, Фихте) или направляется абсолютным духом (Гегель). Идея всемирной истории доныне несет на себе след такого умозрения, хотя на практике она выступает как некое предельное понятие, горизонт, на котором видимы очертания тех или иных действующих субъектов. Более приземленные версии, будь то либеральная Whig history или исторический материализм, сохраняли целостное видение истории и задавали рамки, горизонт эмпирических исследований. Более того, марксизм оказал немалое влияние на историографию ХХ в., причем он никак не сводится к набору self-fulfilling prophecies[133 - «Самосбывающиеся пророчества» (англ.) – термин Карла Поппера, подразумевающий, что вероятность исполнения прогноза зависит от целенаправленных действий людей, владеющих информацией, содержащейся в прогнозе, и заинтересованных (или, напротив, незаинтересованных) в воплощении предсказанных событий в действительность. – Примеч. ред.], как утверждал К. Поппер. Кстати, сам термин «тотальная история» принадлежит и Г. Лукачу, обосновывавшему ее возможность в своей ранней работе «История и классовое сознание». От нее идет прямая линия сначала к «эмансипативной теории» Ю. Хабермаса в «Познании и интересе», а затем к множеству сегодняшних «освободительных» сочинений. Поменялся лишь субъект такой тотальности: от рабочего класса, превращающегося из «класса-в-себе» в «класс-для-себя», произошел переход к всякого рода меньшинствам, свобода коих должна означать свободу для всех. Пока под диалектикой подразумевается гегелевское движение от абстрактного к конкретному, а учение об экономических интересах социальных групп не перетекает в спасительное для человечества знание, марксизм вполне приемлем и для лишенного веры в доктрину историка. Если же «невидимая рука рынка» или «классовая борьба» ведут человечество к некой цели, то мы имеем дело с лежащей за пределами науки телеологией. Есть закономерности, которые наблюдаемы в истории, но нет законов Истории, пока мы остаемся в пределах эмпирического знания.
Ни прежняя историософия, ни безбрежный плюрализм, переходящий в «этноцентризм», не могут выступать в качестве основания исторической науки. Историку полезно познакомиться с философскими учениями прошлого и настоящего – и Гегеля, и П. Рикёра читать стоит; он обязан знакомиться с нынешними теориями социологов и экономистов, разбираясь с социальными структурами и институтами обществ прошлого. Даже наработки генетиков могут оказаться небесполезными (хотя вступать в секту поклонников какой-нибудь гаплогруппы совсем не обязательно). Однако все это не дает нам тотальной науки – об этих притязаниях можно забыть. Да и о какой тотальности может идти речь, если вид homo sapiens существует примерно 100–150 тысяч лет, а границей истории по-прежнему остаются бесписьменные общества? Гадательные суждения относительно племен, которым принадлежали глиняные черепки, конечно, имеют свою цену (даже если иной раз порождают химеры, вроде «скифов-пахарей»).
Если историю от прочих наук отличает не предмет (все социальные науки обращены на него) и не метод – понимание, интерпретация мотивов и мыслей важны для всех изучающих человеческую реальность, – то что же является специфичным для историков? Это не нарративность – социолог, психотерапевт и этнограф также рассказывают о полученных ими результатах исследований. Таковым не может быть и внимание к процессам, возникновению и развитию во времени, поскольку экономические циклы, демографические изменения, конфликты социальных групп протекают во времени.
Мы возвращаемся тем самым к историзму, который является основным принципом историографии как таковой, но обретает теоретическое воплощение в трудах представителей Historismus как интеллектуального течения европейской мысли конца XIX – начала ХХ в. У истории нет монополии на герменевтику или «отнесение к ценности», методологический дуализм безусловно принадлежит прошлому, равно как и свойственная тому времени оппозиция «духа» и «природы». Обоснована критика «романтической герменевтики» Х. Г. Гадамером: в качестве основного метода эмпатия ведет не к проникновению в прошлое, а к его искажению. Кстати, это относится и к другим наукам о человеке – склонность подменять методологическими изысками вдумчивое проникновение в социальные и политические процессы ведет к слепоте как ученых, так и непрестанно разрастающегося племени экспертов. У истории имеется множество методов, разработанных прежде всего вспомогательными дисциплинами, но нет только ей присущего Метода.
Наследием историзма сегодня является не утверждение особого метода, но указанные выше скептицизм и реализм, понятые не как метафизические доктрины (тогда они находились бы в оппозиции друг к другу). Скептицизм отличается от релятивизма, утверждающего, что все точки зрения равно возможны и приемлемы – anything goes, как говорят ныне. Исходным является стремление к научной истине, а наука неизбежно придерживается корреспондентной теории истины. То, что наши суждения об изменениях климата, неандертальцах или социальной структуре древнего Вавилона гипотетичны, не отменяет того, что мы стремимся к искомому соответствию с реальностью, wie es eigentlich gewesen[134 - Как это было на самом деле (нем.). – Примеч. ред.]. Критическая оценка нашего знания характерна для любой науки, для историков же свойствен скептицизм обостренный, близкий пробабилизму не в современных его версиях (вероятностный взгляд на физические процессы), а самому раннему его варианту Аркесилая и Карнеада скептического периода платоновской Академии. Этот взгляд был характерен для ведущих представителей исторической науки XIX в., вроде Л. фон Ранке и К. Бурхардта в их полемике с Гегелем – «великие повествования» начали критиковать не со времени Ж.-Ф. Лиотара.
Но такой скептицизм уравновешивается реализмом, который также имеет свои особенности. Если подбирать термин из метафизики, то можно окрестить его «гипотетическим реализмом». Уверенность в том, что мы изучаем саму природу, присуща любому ученому, но в современной науке на предмет исследования налагаются теоретические схемы, модели, теоретические конструкции. Они поверяются путем контролируемого экспериментального вмешательства, гипотеза должна быть «оправдана» (justification) и подтверждена наблюдением. Особенностью истории является то, что ни наблюдать, ни вмешиваться, ни контролировать опыт мы не в состоянии – у нас есть только следы, свидетельства, «улики». Историк имеет дело с требующими истолкования знаками. Реализм здесь определяется «фактичностью» в ином, чем в естествознании, смысле – сегодня для нее употребляется слово «контингентность». Бывшее некогда с людьми в известном смысле случайно и даже иррационально – в существовании именно такого спартанского илота, китайского даоса, созданного усилиями строителей акведука или собора, нет никакого предзаданного смысла. Как и закона, согласно которому молодой граф Роккасекка сбежал из замка, стал монахом-доминиканцем, проучился у Альберта Великого, а затем прославился как автор «Суммы теологии» и умер в Тулузе. Фр. Ницше случайно покупает в лавке потрепанный том А. Шопенгауэра – без чтения «Мира как воли и представления» он не создал бы свое учение (или создал бы какое-то совсем другое). Был Константин Великий, которому однажды перед битвой привиделось in hoc signo vinces[135 - «Под этим знаком ты победишь» (славянский вариант фразы: «Сим победиши») – слова, которые, согласно преданию, будущий римский император Константин I увидел в небе рядом со знаком креста накануне битвы с императором Максенцием. – Примеч. ред.], – и он изменил империю, в которой на тот момент не было и десятой части христиан, а тем самым и ход истории. Викинги и йомены, феодальные бароны и придворные времен Людовика XIV не служили логике всемирной истории в качестве пешек для достижения такой странной цели, как приуготовление нынешнего мира (а в особенности тех статей и диссертаций, которые мы о них пишем). Лишь задним числом мы выясняем, каковы их «классовые интересы» или «групповая динамика» – сами они осмысляли мир иначе и действовали в соответствии с такими мыслями. Если возвратиться к языку основоположников социологии, еще принимавших во внимание историю, существуют «сообщества судьбы» (Schiksalsgemeinschaften), вроде общин, гильдий, провинций и даже кружков каких-нибудь «юношей архивных», почему-то начинающих читать Шеллинга и Гегеля в Москве 1820?х гг. Вряд ли можно назвать наше обращение к ним «диалогом», поскольку они не могут прочитать нам лекцию о том, как их изучать и стоит ли переходить от «социологии ролей» к «фреймам». История остается описательной наукой и после того, как историки научились говорить на языках статистики и когнитивных наук.
Так что формула Ранке, согласно которой каждая эпоха на свой манер соотносится с Богом и ценность ее заключается не в том, что из нее произойдет, но в самом ее неповторимом существовании, является самым кратким определением такого реализма. Конечно, историка интересует и то, что переходит из одной эпохи в другую, как развиваются институты, нравы, идеи, ритуалы. Однако он смотрит на то, как одно прошлое перетекает в другое – а оценивать, как оно доныне воздействует на настоящее, хвалить и хулить его есть кому и без него. Он не ставит перед собой и задачи изменить настоящее, рассказывая о прошлом, пока остается историком. Именно инаковость прошлого делает его объектом созерцания и описания. Хотя они сами принадлежат истории, историки куда менее социологов склонны заниматься рефлексией по поводу того, что взгляд ученого детерминирован принадлежностью к какой-то социальной группе, вроде WASP или «белого представителя среднего класса». «Классики» социологии – Вебер и Дюркгейм, Теннис и Зиммель – такого сорта идеологическим самокопанием не занимались и считали общества прошлого реально существовавшими; вероятно, потому, что их исследования опирались на огромный исторический материал, они и доныне интересны для историков, тогда как последующий конструктивизм в социологической теории к историческим штудиям не прививается[136 - Эта утрата исторического измерения социологической теории произошла достаточно давно. Как писал в конце 1960?х гг. Н. Элиас, произошла утрата видения долговременных процессов, каковой были наделены «классики», тогда как «социальные системы» послевоенной социологии таким видением уже не обладали. См. его предисловие 1968 г. к работе «О процессе цивилизации»: Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 1. С. 19–29.]. Если мы имеем дело с иным, то оно конституируется как независимый от нас объект созерцания и описания. «Оптика» историографии такова, что фиксирует общности, игнорируемые социальными науками. Например, для социологии такая общность, как «народ», чаще всего незаметна, а экономисты, говорящие доныне о «народном хозяйстве», эту реальность вообще игнорируют, равно как реальность «храмового хозяйства» в Шумере или средневековой гильдии. Историк изначально видит сообщества (Gemeinschaften) и лишь затем применяет методы, разработанные для видения Gesellschaften[137 - Обществ (нем.). – Примеч. ред.].
Тем самым мы возвращаемся к историзму в его самом раннем воплощении в ткань научных исследований. Как ни странно, реализм историографии опирается на романтизм с его «индивидуальными тотальностями». Для постижения этих некогда бывших, но унесенных ветрами времени людей и форм их сосуществования приемлемы и даже иной раз необходимы формулы и открытия куда более строгих, чем история, дисциплин. Но все эти формулы служат цели понимания иных, нежели наши собственные, обществ и культур. История является, наверное, самой «а-теоретичной» наукой, если только не вспомнить о том, что исходно «теория» означала созерцание. Даже если не принимать учение Гегеля об абсолютном духе, он писал о таком созерцании последовательного ряда, «в котором один дух сменялся другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего»[138 - Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Его же. Сочинения: В 14 т. М.: Политиздат, 1959. Т. IV. C. 434.]. Гегель называл эти духи «гештальтами», толкуемыми как проявления сознания и самосознания.
Если выйти за пределы идеалистической «философии духа», то мы обнаруживаем меняющиеся формы взаимодействия. Индивиды всегда включены в те или иные из них, «человек вообще» является абстракцией, удобной для конституций и деклараций прав, но вряд ли пригодной для историка. Одни формы чрезвычайно стабильны: возникнув в неолите, землепашество мало изменялось тысячелетиями, равно как формы семьи, религиозных обрядов и т. п. Другие приходят на короткое время, куда более связаны с творческими усилиями индивидов. Поэтому одни историки сосредотачивают свое внимание на долговременных процессах, перенимают языки экономики, географии и даже геологии (Бродель), тогда как другие остаются верными романтической герменевтике, имея дело с великими личностями или группами, вроде поэтов и мыслителей (Sturm und Drang[139 - «Буря и натиск» (нем.) – литературное движение в Германии 1770?х гг., получившее название по одноименной драме Ф. М. Клингера, отрицающее принципы классицизма и рококо и поставившее в центр своей эстетической программы изображение ярких характеров и сильных страстей. – Примеч. ред.] в Германии, Серебряный век в России). Различаются и их теоретизирования: в «клиометрии» индивиды почти взаимозаменяемы, тогда как для других подходов в исторической науке сословия и народы обретают личностные черты. Например, у Карсавина личности более широкого объема «стягивают» личности более узкого, но репрезентируются через них: ремесленника мы отличаем от купца или дворянина, русского от немца, но сословие и народ всегда опознается нами по отдельному представителю.
Иначе говоря, мы имеем континуум подходов и отвечающих им методов. В любом случае историк имеет дело с социальными существами, вступающими в связи, которые образуют долговременные или кратковременные структуры. Основанием всей работы историка по-прежнему остаются поиск, отбор, интерпретация и систематизация источников. Взгляд историка иначе «вырезает» объекты исследования, иначе их располагает и изучает. Его труд нередко сравнивали с деятельностью следователя – он идет по оставленным следам, чтобы найти «преступника», то есть того, кто замысливал и совершал действие. Хотя к диахронии обращаются все науки о человеке, для историка – даже если он в рамках своей «микроистории» обращается к кратковременной сцене – исходным пунктом и целью постижения являются происходящие во времени изменения, потоки, напоминающие длительность
Критики такого методологического дуализма не без оснований писали о том, что он является наследием теологического взгляда на особое положение человека в мироздании, каковое пытались сохранить, отвергая «натурализм» в том, что затрагивает «дух» и «культуру»[114 - Albert H. Kritische Vernunft und menschliche Praxis. Stuttgart: Reclam, 1977. S. 128.]. Однако это не отменяет того, что Historismus оказал огромное воздействие на несколько поколений историков, да и сегодня термин «историзм» не случайно обозначает некий общий принцип, отличающий историческое сознание.
Историческое мышление
Историческое сознание имеется у любого взрослого человека, более того, без памяти о своем прошлом человек лишен самого себя, своей идентичности или «Я». Любое определение сознания и самосознания предполагает память – и наоборот, о памяти мы осмысленно говорим только с учетом сознания. По существу, мы тождественны нашим воспоминаниям о прожитой жизни – только они нам безусловно принадлежат. Это воспоминания о том, чего уже нет, а образы памяти смешиваются с тем, что прибавило воображение: «мы сотканы из ткани наших снов». Поэт продолжал эту мысль так: «and our little life is rounded with a sleep»[115 - Цитата из пьесы У. Шекспира «Буря» (The Tempest, IV, 1). – Примеч. ред.] – наши собственные воспоминания пересекаются и сливаются с окружающими их фантазиями других. В этом потоке воспоминаний происходили перемены – мы менялись вместе с окружающими обстоятельствами. Так как мы были и остаемся «общественными животными», то одновременно с нами изменялись другие люди, передававшие нам память о предшествующих поколениях. Не вдаваясь в написанное по поводу сознания и памяти в сотнях трудов философов, психологов, нейрофизиологов и представителей еще ряда наук, мы можем сказать, что историческое сознание прирождено человеку. Можно назвать его вслед за рядом философов историчностью, проистекающей из временности и конечности. Различия между индивидами и группами в степени развития этого сознания определяются множеством социальных условий.
Понятно, что у живущих в природных циклах обитателей племен, а затем и деревень, это сознание было чаще всего неразвитым. Веками существовали великие цивилизации, в которых историческое измерение сводилось к мифам о первоначальном времени. Мы можем наблюдать сегодня, как высокотехнологичная цивилизация способствует атрофии исторического сознания, словно она выполняет программу из гимна: «du passе faisons table rase»[116 - «Из прошлого мы сделаем чистую доску» (фр.) – цитата из гимна «Интернационал» (L’International) Эжена Потье. – Примеч. ред.]. Причем делает это с завораживающей быстротой и эффективностью. «В уверенном движении марша, которое ради некоего неведомого будущего выхолащивает настоящее и обесценивает прошедшее, кроется нечто фантастическое»[117 - Юнгер Ф. Ницше. М.: Праксис, 2001. С. 171.]. Речь совсем не обязательно идет о малограмотных и обездоленных в рамках такой цивилизации.
Более того, если посмотреть на немалую часть книг по политической и военной истории на прилавках книжных магазинов, то окажется, что они написаны людьми не просто искажающими прошлое в силу идеологической зашоренности, но и не умеющими мыслить. К этим «письмам темных людей» на темы истории относится большая часть публикаций, нацеленных на пропагандистский эффект и делящих мир на «своих» и «чужих» по заранее предписанным признакам. Это естественно для мира политики, да и не ново; скажем, любому испанисту известно, что «черная легенда» по поводу Испании на протяжении трех столетий разворачивалась в протестантских странах, прежде всего англосаксонских, с навязчивыми образами «охоты за ведьмами» и «судов инквизиции», хотя в протестантских землях Германии ведьм сожгли в сотню раз больше, а в Англии число казненных католиков превосходило количество протестантов и марранов, прошедших через суды инквизиции в Испании. Такое сочинительство «легенд» существует и ныне. Прошлое нужно лишь для подкрепления политических целей. «Сегодня в большей степени, чем когда бы то ни было, – писал М. Оукшот, – прошлое представляет собой поле, на которое мы выпускаем наши моральные и политические мнения, словно гончих на луг в воскресный день»[118 - Оукшот М. Деятельность историка // Его же. Рационализм в политике. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 151.]. Исторически мыслить таким «гончим» не требуется.
Историческое мышление, как и любое другое мышление, подчинено законам логики. Мыслить – значит пользоваться понятиями и высказывать суждения. Мысль соотносится с мыслимым, мыслящий субъект нацеливает свои суждения на объект, ставит и решает проблемы, расчленяет и синтезирует данные опыта. Одно описание различных философских и психологических концепций мышления потребовало бы сотни страниц. Применительно к истории можно сказать, что используемый последователями С. Л. Рубинштейна термин «наглядно-образное мышление» характеризует по своей форме мышление историка – даже на уровне научного исследования оно всякий раз выходит за пределы логических операций с понятиями. Основанием теоретической науки является, как писал Кассирер, «чистый понятийный знак», к коему совершается переход от «словесного знака», который еще не оторвался от мира созерцания, от общих представлений. То, как У. Джеймс понимал соотношение «перцептов» и «концептов», вряд ли вдохновит физика, поскольку лишенные чувственной стороны концепты истолковываются им исключительно инструментально, а понятийная схема мира надстраивается над перцептивной, и есть лишь набор «что», помогающих топографически расположить «это»[119 - Джеймс У. Введение в философию. М.: Республика, 2000. C. 44–46.], но подобное смешение понятий с представлениями характерно для историка.
Применение количественных методов в историографии ограничено, даже включаемые в повествование термины номологических наук чаще всего не утрачивают связи с естественным языком. Такие термины, как «формация» или «цивилизация», «сословие» или «город», не обладают строгостью естественно-научных понятий. В отличие от физика, однозначно определяющего свои термины («масса», «пи-мезон» и т. п.), историк говорит не о «городе вообще», а об античном полисе, отличающемся от Александрии и Антиохии времен диадохов, не говоря уж о древнем Уре или Лондоне времен Диккенса. Достаточно вспомнить начальные страницы очерка М. Вебера «Город», чтобы оценить это многообразие[120 - Вебер М. Город // Его же. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. С. 333–486.].
Использование повседневного языка, обращение к мыслям и страстям людей роднят историка с литератором. Иные историки были замечательными стилистами, читать их не только полезно, но и приятно. А среди писателей мы легко найдем тех, кто обладал способностью передавать ход времени, причем речь идет не обязательно об авторах исторических романов. Историческое сознание Набокова или Бунина, возвращающихся к переживаниям детства и юности в «Других берегах» и «Жизни Арсеньева», воссоздает и картину России конца XIX – начала XX в. Отличие историка в том, что он занят познанием прошлого, желает получить неопровержимую его картину и соблюдает конвенции, принятые в его дисциплине.
Историческое мышление есть необходимая предпосылка познания, целью которого является точное знание. Только мыслить мы можем все, что угодно, от «золотой горы» до писавших «Велесову книгу» ариев или «русских» этрусков. Повествование должно быть внутренне непротиворечивым, связным, но оно может быть чистой фантазией (скажем, «Сильмариллион» Толкиена) или иметь лишь отдаленное отношение к истории. Возьмем для примера литературное произведение, в котором явственны как историческое сознание, так и историческое мышление – «Искендер-наме» Низами. Поэт XII в. был одним из наиболее образованных людей своего времени, он обращался к давнему прошлому, сознавая, что говорил об ушедшей эпохе, то есть мыслил он исторически. Но он воспроизводил обрывки сведений об Александре Македонском и дополнял их своей фантазией, а потому возглавлял его герой «румийцев» (то есть «ромеев», известных ему византийцев), а сражался он в том числе и с Русами, причем в союзе с Хазарами. Будучи образованным арабо-мусульманским философом, Низами помнил, что учителем царя был Аристотель, споривший с Платоном, а потому повествовал в своих стихах, как по итогу публичного диспута Александр отдает первенство Платону, а потом царь беседует еще и с «отшельником Сократом» (до нас все же дошел образ спорщика на улицах и площадях Афин). Эта замечательная поэма может служить для нас источником, позволяющим судить не об Александре или древнегреческих философах, а об уровне исторических знаний в тогдашнем исламском мире. Равно как и о том, что познанием прошлого тогда не занимались.
Способность исторически мыслить воспитывается. Она не сводится к «вчувствованию», хотя эмпатия является важным аспектом отношения к истории. «Умение понимать характер людей, знание того, как они обычно реагируют друг на друга, способность “проникать” в их мотивы, принципы, ход мыслей и чувств (а это не в меньшей степени применимо и к поведению масс, и к развитию культур) – это таланты, необходимые историкам, они не нужны ученым-естественникам (или нужны им не в такой степени). Способность познания, чем-то похожая на способность познания чужого характера или способность узнавать лицо, столь же важна для историков, как знание фактов»[121 - Берлин И. Понятие научной истории // Его же. Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. C. 68.]. Такое мышление предполагает реализм, учет природы людей, которые требуются не только деятелю, но и тому, кто исследует прошлое. Начиная писать «Государя», Макиавелли говорил об огромности дистанции между тем, как люди живут и как они должны были бы жить, а потому тот, кто отвергает действительное ради должного, действует во вред себе и погибнет, сталкиваясь с множеством преследующих свои интересы лиц; склонный к идеализации того или иного периода, народа, класса и даже героя историк утрачивает ту ясность видения, которая служит объективности рассказа. Но вырабатывается такая объективность опытом понимания не исторических персонажей, а окружающих людей, его современников. Немцы называют ее Menschenkenntniss[122 - Знание человеческой природы (нем.). – Примеч. ред.], но можно именовать ее и рассудительностью, здравомыслием, каковые полагались в Античности одной из основополагающих добродетелей – ????????, та «практическая мудрость», которую Цицерон определял как «знание того, к чему надо стремиться, и того, чего надо избегать». Другой, не менее важной чертой исторического взгляда на мир является скептицизм, рождающийся из того же здравого смысла: почти все доступные нам источники (исключим данные археологии) созданы людьми с их интересами, страстями и предрассудками, которые отличаются от наших собственных – не менее сомнительных.
Наконец, есть еще одна особенность деятельности историка, отличающая его не только от естествоиспытателя, но и от представителя социальных наук. Как заметил Кассирер, «именно богатство и разнообразие, глубина и интенсивность своего собственного личного опыта – отличительная черта большого историка. Без этого труды останутся бесцветными и безжизненными <…> Последовательно вытравляя из рассказа признаки своей индивидуальной жизни, историк не может таким путем достичь высшей объективности. Наоборот, таким образом он может лишь уничтожить в себе лучшее орудие исторической мысли. Притушив свет своего собственного личного опыта, я перестаю замечать опыт других и не могу судить о нем»[123 - Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Его же. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. C. 661.]. Без опыта политики в своем времени историк мало что поймет в борьбе Мария и Суллы или в гражданской войне в Испании. Не имевшему опыта философствования не стоит заниматься историей философии. Однако все это относится к предпосылкам исторического познания, но не к нему самому.
Познание прошлого
Познание есть отношение нашего сознания к миру, это деятельность, результатом которой является знание. Познавая, мы движемся от данных опыта к тому, что способно их объяснить, от evidence к inference[124 - От фактического доказательства к логическому следованию (англ.). – Примеч. ред.]. Такая деятельность ума свойственна уже первобытному человеку, решавшему практические задачи. Знания требовались и строителю пирамид, и навигатору, и торговцу. Практические цели направляли и то знание, которое касалось других людей: чтобы общаться с иноплеменником, нужно знать чужой язык, чтобы управлять поселением, требуется знание о потребностях и верованиях его обитателей и т. д. Над практически ориентированной познавательной деятельностью возвышается знание о мире в целом. Человеческий ум всякий раз обнаруживает, что он сталкивается с внешней для него реальностью, и с детства учится различать только кажущееся и действительное. Вопрос об истине ставится и в мифологии, и в искусстве, опыт священного в религии отделяет наделенную подлинным смыслом реальность от преходящего и лишенного такого смысла. Философское умозрение ставит эти вопросы уже на уровне абстрактных понятий и порождает ряд частных наук. Вопрос о методе возникает вместе с разграничением «пути истины» и «пути мнения».
Хотя возникновение историографии в Древней Греции в меньшей мере связано с философией, чем у прочих наук, вопрос об обоснованности знания ставил уже Фукидид, испытавший несомненное влияние тогдашних софистов. Рассказ историка о прошлом притязает на истинность, а это предполагает опору на факты, полученные посредством интерпретации источников. Сами документы и артефакты еще не являются фактами для историка, подобно тому как вещи и процессы не представляют собой фактов для физика. Можно сказать, что наличие берестяной грамоты есть факт для обнаружившего ее археолога, но прочитанный текст этой грамоты указывает на автора, адресат, социальные отношения, религиозные верования, повседневную жизнь в Новгороде. Вся совокупность источников образует сеть или комплекс сведений, позволяющих судить о жизни в XI–XII вв. Суждение относительно совмещения язычества с православием в сознании словен новгородских будет фактом, если оно подкрепляется этими сведениями.
Факты суть не предметы, а установленные истины по поводу предметов, высказывания, которые нашли (и все еще находят) подтверждение. Вещи и отношения между ними воздействуют на нас, входят в поле нашего сознания – факты всегда являются данными сознания. Эмпирическим базисом науки их делает то, что они интерсубъективны, возобновляются и воспроизводятся при смене наблюдателя или истолкователя, подтверждаются и выступают как нечто не менее «упрямое», чем гравитация или невидимые нами социальные институты, побуждающие, например, одеваться определенным образом или переходить дорогу в положенном месте. Наука начинается не с фактов, а с проблем, с выдвижения гипотез, с перехода от незнания о нашем незнании к знанию о незнании и только потом – к уверенному знанию о знании. Историк задает вопросы по поводу источника, на которые он желает получить ответ, ищет связь содержащихся в нем сведений с тем, что скрыто, что не осознавалось самим автором и т. д. Каждый отдельный источник увязывается с другими, проверяется посредством сопоставления – факты устанавливаются через эту работу истолкования и реконструкции.
Правда, в случае истории, да и большинства наук о человеке, под «фактами» подразумевается нечто иное, чем в науках о природе. Инструменты и оружие, дворцы и хижины, деньги и украшения отсылают нас не к физическим свойствам предметов, но к представлениям и ценностям людей. Наши сегодняшние знания о звездах, болезнях или экономике не помогут нам в понимании мотивов поведения людей прошлого, вкладывавших в них иной смысл. Мы сталкиваемся со сходной ситуацией, имея дело с представителями малознакомой нам культуры – не только антрополог в первобытном племени, но и турист в Китае или Саудовской Аравии обнаруживают смысловые различия. Но их ему могут растолковать современники, тогда как историк должен сам открыть эти скрытые значения. Редуцировать смыслы к наблюдаемому поведению не удается, акты сознания неустранимы в историческом повествовании. Объяснения в нем всегда предполагают интенциональность сознания и служат ему, причем сами объяснения часто имеют телеологический характер[125 - Обсуждение логических проблем в исторических науках дано в работе: Вригт Г. Х. фон. Объяснение и понимание // Его же. Логико-философские исследования. Избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 35–242.]. Казалось бы, тем самым находит подтверждение тезис представителей историзма о понимании как господствующем в историографии методе, что отличает ее от прочих наук.
Однако, если мы посмотрим на сегодняшние социальные науки, то обнаружим, что повсюду, где уровень квантификации невысок, мы имеем дело со сходными процедурами. Это очевидно в случае этнографии, где, словами К. Гирца, «теоретические обобщения столь невысоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смысл и лишаются всякого интереса»[126 - Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 194.], в психологии и социологии сохраняются границы применения количественных методов, поскольку они имеют дело с осмысленным поведением людей; даже в экономике раздаются голоса тех, кто ставит под сомнение и лежащую в основе economics антропологию, и подмену социальной реальности игрой математических моделей[127 - Сошлюсь для примера на резкую критику такого рода игр Т. Пикетти: Пикетти Т. Капитал в XXI в. М.: Ad Marginem, 2015.]. Обособление истории на том основании, что она занята прошлым, а не настоящим, неверно уже потому, что все социальные науки имеют дело с изменяющейся во времени действительностью, да и создавались они мыслителями, которые постоянно обращались к истории – достаточно вспомнить Маркса и Вебера, Дюркгейма и Парето. То, что сегодняшний средний социолог или экономист игнорирует историю, еще не является свидетельством того, что сами эти науки стоят вне истории. На стыке ряда социальных наук возникают синтетические концепции («стадии роста», «догоняющая модернизация», «мир-системный анализ» и т. д.), которые нацелены именно на постижение истории.
Пока историки остаются членами научной корпорации, они принимают ту картину мира, которую дают другие науки. Разумеется, сегодня трудно говорить о единой «научной картине мира» или о «научном мировоззрении», как в XIX в. В условиях все растущей специализации такой синтез всего со всем вряд ли по силам даже для самого эрудированного теоретика. Учеными нас делает принятие ряда аксиом и установок, характерных для научной рациональности как таковой. Каждая наука вычленяет свой слой или «отрезок» действительности, по-своему «кодирует» его своим языком, что нередко ведет к взаимонепониманию и даже к «конфликту интерпретаций». К тому же одна картина сменяется другой и в пределах каждой из дисциплин, причем историк не может быть одновременно знатоком во всех этих областях. Он вынужден просто считаться с теми теориями, которые разрабатываются его коллегами – прежде всего специалистами в области социальных наук.
Тотальная история
XX век был временем необычайно быстрого развития наук о человеке. Одни раньше, другие позже, они отделялись от философии, становились университетскими дисциплинами, образовывали научные сообщества со своими авторитетами, ассоциациями и журналами. Большинству этих наук был свойствен своего рода «империализм», претензия на то, что они главенствуют в этом открывающемся пространстве знания. Можно вспомнить о том, какими были претензии психоанализа и даже бихевиоризма (Уотсон!) в психологии, как структурализм из лингвистики стремился выйти на простор всей культуры, не говоря уж об экономике и социологии. Марксизм был просто самой притязательной доктриной, да и отличался в лучшую сторону от поделок его оппонентов.
Причины такого «империализма» лишь отчасти связаны со стремлением к мирской славе; в куда большей мере сказывалось то, что открытия и свершения отдельной науки о человеке превращались в аксиоматику для всех остальных. Если все наши мысли и чувства принадлежат психике, то наука о ней приобретала гипертрофированный вид, становилась основанием и математики («психологизм»), и права, и религиоведения. Так как мы являемся «общественными животными», а «социальное нужно объяснять социальным», социология представала как «наука наук», проясняющая в том числе и то, как в социальном взаимодействии возникали и развивались науки о природе. Самые любопытные результаты такого сорта генеалогий относятся к социальной психологии, которая перенимала амбиции обеих ее составляющих дисциплин. 1000-страничный труд Р. Коллинза об эволюции философских учений является ярким примером удивительного сплава амбиций и невежества. Впрочем, автору этих строк доводилось рецензировать международный проект социальных психологов, желающих применить к истокам астрофизики методики символического интеракционизма – звезды ведь тоже присутствуют в нашей душе, а теории о них порождаются воображением в социальном взаимодействии. Экономисты видят в своей дисциплине «самую научную» общественную науку на том основании, что она в большей степени математизирована. Даже этнографы одно время притязали на то, что методы наблюдения за поведением в микронезийских племенах универсальны и пригодны для анализа жизни в мегаполисах («антропология в метро»).
Не избежала такого «империализма» и история, причем для этого оснований у нее было даже больше, чем у прочих наук. Во второй половине ХХ столетия произошли огромные перемены в работе историков, которые нередко называли революционными. Конечно, речь идет о профессиональном сообществе исследователей, а не о школьных учебниках, популяризациях, идеологически «правильных» сочинениях приверженцев тех или иных стран и партий. В них мало что изменилось: люди по-прежнему делятся на good guys и bad guys, причем первые либо уже одержали победу, продвинув прогресс к новым вершинам, либо его когда-нибудь достигнут. Даже если академические историки участвуют в спорах, затрагивающих острые политические темы, критерии их профессионализма сделались значительно более строгими. Необычайно расширилась тематика, поменялись методы – историки стали задавать иные вопросы и находить иные источники.
Начало этому еще в 1930?е гг. положила социальная история, развивавшаяся прежде всего во Франции (школа «Анналов»), затем последовали экономическая история и связанная с нею клиометрия, история повседневности, история детства, верований, вкусов и т. д. Даже самая общая характеристика развития социальной истории в Германии, Великобритании или Франции потребовала бы отдельной обширной статьи. Несомненным было влияние марксизма, но наряду с ним историки обращались кто к Дюркгейму и Симиану, кто к Веберу; «история ментальностей» создавалась с учетом доктрин современной психологии – от психоанализа до когнитивной психологии. Переход от «событийной истории» и всей прежней histoire historisante[128 - «Историзирующая история» (фр.) – термин историка и философа Анри Берра, издателя «Журнала синтеза» – одного из важнейших периодических изданий, в первой трети XX в. освещавших дискуссии о природе гуманитарного и, в частности, исторического знания. По выражению Люсьена Февра, круг занятий «историзирующего историка», по сути, органичен лишь двумя операциями: «сначала установить факты, потом пустить их в дело». Л. Февр резко критикует такое понимание задач истории и настаивает на теоретическом осмыслении: по его мнению, «без предварительной, заранее разработанной теории невозможна никакая научная работа», само понятие факта нуждается в критике и уточнении, а «историк, отказывающийся осмыслить тот или иной человеческий факт, историк, проповедующий слепое и безоговорочное подчинение этим фактам, словно они не были сфабрикованы им самим, не были заранее избраны во всех значениях этого слова (а он не может не избирать их), – такой историк может считаться разве что подмастерьем, пусть даже превосходным. Но звания историка он не заслуживает» (Февр Л. Историзирующая история. О чуждой для нас форме истории // Его же. Бои за историю / Пер. с фр. А. Л. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова / А. Я. Гуревич (отв. ред.), Д. Э. Харитонович (коммент.). М.: Наука, 1991. С. 68, 69, 70) – Примеч. ред..] с ее сосредоточенностью на политической, дипломатической и военной истории, осуществленный основоположниками школы «Анналов» (Л. Февр, Ф. Бродель и др.), не был, конечно, разрывом со всей предшествующей историографией, как это нередко утверждали ее представители. Они сами многое переняли у Вебера и Зомбарта, да и нелепо настаивать на том, что историей институтов ранее никто не занимался – достаточно вспомнить наших В. О. Ключевского или М. И. Ростовцева. Тем не менее изменения были существенными, они поменяли само представление членов этого научного цеха о своей работе. Прошлому стали задавать вопросы, которые были навеяны проблематикой других социальных наук. Ф. Бродель призывал историков научиться говорить языками всех остальных наук о человеке[129 - Braudel F. Еcrits sur l’histoire. P.: Flammarion, 1969. P. 78–83.].
Экономические циклы, повторяющиеся серии, групповые конфликты, институционализированные верования, мемориальные празднества, воображаемые миры давних эпох – все это сделалось полем исследований. Переход к так называемой «новой истории» во Франции еще более расширил круг вопросов. Поменялись даже представления об историческом времени. Историки не обязательно следовали за Броделем с его longue durеe[130 - См. примеч. 61 к главе «Отцы кентавров и Клио in partibus infidelium», с. 7–36 наст. изд. – Примеч. ред.], но, говоря о средневековой цивилизации (Ж. Ле Гофф) или, скажем, о «цивилизации барокко» (П. Шоню), они отходили и от прежней историографии, сконцентрированной на великих личностях и государственных актах, и от историософских грандиозных фантазий по поводу цивилизаций на манер Шпенглера и Тойнби. Своего рода метатеорией сделалась «историческая антропология», которая соприкасается как с философией, так и с рядом наук о человеке. Ею обосновывается методический плюрализм историографии. При этом сама история становилась своего рода метанаукой для всех наук о человеке. Разве социальные науки не изучают исторически существовавшие общества и само сегодняшнее общество не изменяется каждый год и каждый день? Если «умственный инструментарий», как первоначально называл Л. Февр «ментальности», у людей прошлого был иным, то не является ли и психология частью истории? Предложенный в начале ХХ в. А. Берром термин тотальная история был принят как программа школой «Анналов»[131 - Иногда со ссылкой на Мишле с его знаменитым предисловием к многотомной французской истории 1869 г.]. Так как наше настоящее также принадлежит истории и содержит в себе следы прошлого, то и к ней подход должен быть историческим. Бродель ссылается на те слова, которые Февр раз за разом повторял в последние годы жизни относительно истории: «наука о прошлом, наука о настоящем».
Тем самым поменялись методы, причем преобладал импорт их из других дисциплин. Необходимость таких заимствований очевидна: имея дело с экономическими или демографическими процессами в прошлом, нужно ознакомиться с существующими ныне научными теориями. Как уже было сказано выше, историк принадлежит научному сообществу, а потому должен учитывать те сведения, которые дают нам науки о природе, идет ли речь о космологии или химии. Более того, сегодня вспомогательные исторические дисциплины развивались не без участия естествознания (дендрохронология, радиоизотопное датирование, аэрофотосъемка и т. п.), а геология, география и биология издавна входили в повествование историков – полезные ископаемые, морские торговые пути, климат, растения и животный мир учитывались историками и в древности.
Только в случае социальных наук мы имеем дело с набором весьма неопределенных полей знания. Во-первых, существуют несовпадения между разными дисциплинами: социолог и экономист часто расходятся в видении одних и тех же процессов, словосочетание «когнитивные науки» служит «шапкой» для ряда дисциплин, говорящих на непонятных друг для друга языках. Во-вторых, в рамках самих этих дисциплин не было и нет единства. Причем речь идет совсем не обязательно о расхождениях, проистекающих из привнесенной извне идеологии, как это представляется многим марксистам, видящим в противостоящих им доктринах «буржуазную идеологию». Представители кейнсианства спорят с монетаристами, вполне «буржуазный» mainstream экономической науки («неоклассика») расходится с «австрийской школой», причем эпитеты, которыми награждают представителей последней, бывают даже более резкими, чем на истматовском жаргоне. О социологии и психологии еще труднее говорить как о «нормальных науках» в терминах Т. Куна, поскольку в социологии даже самые общие понятия по-разному определяются сторонниками Р. Дарендорфа, Н. Лумана и П. Бурдьё (а немалое число сегодняшних социологов вообще не считают общество объектом социологии – эта дисциплина «кодирует» социологически все, что угодно). В психологии бихевиористы, когнитивисты и психоаналитики просто не имеют общего языка, а иногда и прямо называют друг друга шарлатанами и невеждами. Само прилагательное «социальный», применяемое представителями всех этих наук, понимается совершенно по-разному, да и где в человеческом мире провести границу между «социальным» и «не-социальным»?
Наконец, применимость методов, разработанных для познания современного общества, к далеким от него социумам и культурам часто вызывала сомнения. Ориентация на новейшие наработки и применение «последнего слова науки» для объяснения давних обществ в терминах дисциплин, разработанных для общества нынешнего, была метко названа П. Бурдьё «этноцентризмом». Да и видение самой истории представителями таких наук далеко от признания ее метатеоретического статуса, поскольку история для них есть некий банк данных. «Историк раскапывает эти данные и затем предоставляет их своим более теоретически мыслящим коллегам, которые затем производят научные обобщения и теории, устанавливая связи между различными видами социальных ситуаций. Эти теории могут затем применяться к самой истории для того, чтобы улучшить наше понимание тех способов, которыми взаимно соединяются ее эпизоды»[132 - Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. C. 99.]. Только нацелены эти обобщения на сети отношений, не просто осмыслявшихся людьми в иных терминах, но и существовавших лишь посредством иных смыслов, актуальных только для той эпохи. А потому историческое объяснение куда больше напоминает применение знания иностранного языка для понимания разговора, нежели знания законов физики для понимания работы паровой машины. Никакая умозрительная «мир-система бронзового века» или «политэкономия феодализма» не помогут историкам, занятым хоть древним Шумером, хоть трудным периодом Московского княжества в середине XV в. (борьба Василия Темного и Шемяки).
Не будучи специалистами во всех этих дисциплинах, историки заимствовали кажущиеся им наиболее пригодными ad hoc методы. Случайность такого рода импорта хорошо видна уже по «классикам»; когда Бродель сочувственно ссылается на Ф. Симиана и Ж. Гурвича, то подавляющее большинство сегодняшних социологов, прослушавших подробный курс по истории своей науки, зададут вопрос: «Кто это такие?» Конечно, историк русской эмиграции вспомнит, что меньшевик Гурвич, писавший в Германии начала ХХ в. диссертацию о Фихте, потом преподавал социологию в Сорбонне, но сегодня редко кто открывает его заполненные искусственными классификациями многостраничные труды. В силу моды на психоанализ к нему нередко обращались историки, но они брали только то, что им более или менее подходило, причем чаще всего из популярных изложений. Доныне секта свидетелей «травмы исторической памяти» ссылается на Фрейда, хотя о травме, ведущей к истерическому неврозу, он писал только в самых ранних своих трудах, а затем от такого упрощенного взгляда отказался. Занимаясь социологией Н. Элиаса, автор этих строк обнаружил, что во Франции его активно использовал и пропагандировал такой выдающийся историк, как Р. Шартье, тогда как другой, не менее выдающийся – Э. Ле Руа Ладюри, – посвятил сотню страниц уничижительной критике этого социолога. В рамках самой социологии у Элиаса имеется небольшое число последователей в Голландии и немецкоязычных странах, но и в них былая мода уже прошла. Следует ли из этого, что историку нельзя использовать подходы Элиаса к «процессу цивилизации» или к придворному обществу? Разумеется, никак не следует. Но стоит ли тогда ссылаться на авторитет социологии как науки? Или видеть в том, как этот социолог обосновывал свою теорию с помощью психоанализа, образец для подражания?
Таких примеров можно было бы привести изрядное число. Заимствования следовали и за интеллектуальными модами, теми доктринами comme il faut, которые отвечали веяниям в «левой» университетской среде. Когда в ней совершается переход от Сартра и Адорно к Фуко и Деррида, то можно ожидать появление сочинений историков, в которых какую-то роль начинают играть то «авторитарная личность», то «микрофизика власти».
Конечно, далеко не все заимствования были бесплодными. Если нынешний политолог использует математическую теорию игр, применяя ее к выборам сегодняшних президентов и сенаторов в США, то почему не использовать ее для выборов тех же персонажей в XIX столетии? Если так называемая «теорема Томаса» работает при осмыслении массового поведения в наше время, то она потенциально применима и при изучении биржевого краха 1929 г., и гонений на христиан во II в. н. э. Историческая наука обогатилась новыми инструментами. Методологический плюрализм сам по себе совсем не обязательно плох и не сводится к болтовне о «мультидисциплинарности», но он никак не может сделаться основанием тотальной истории. А именно такая разносторонность, даже всеядность, предлагалась в качестве фундамента – на место Провидения или Разума в качестве такого базиса пришла деятельность коллективного субъекта, цеха академических историков с их дистинкциями и синтезами по чужим прописям.
Разница с прежней философией истории заключается именно в том, что тотальность обеспечивается не умозрением, не априорным принятием того, что человеческая природа определяется стремлением к разуму и свободе (Кант, Фихте) или направляется абсолютным духом (Гегель). Идея всемирной истории доныне несет на себе след такого умозрения, хотя на практике она выступает как некое предельное понятие, горизонт, на котором видимы очертания тех или иных действующих субъектов. Более приземленные версии, будь то либеральная Whig history или исторический материализм, сохраняли целостное видение истории и задавали рамки, горизонт эмпирических исследований. Более того, марксизм оказал немалое влияние на историографию ХХ в., причем он никак не сводится к набору self-fulfilling prophecies[133 - «Самосбывающиеся пророчества» (англ.) – термин Карла Поппера, подразумевающий, что вероятность исполнения прогноза зависит от целенаправленных действий людей, владеющих информацией, содержащейся в прогнозе, и заинтересованных (или, напротив, незаинтересованных) в воплощении предсказанных событий в действительность. – Примеч. ред.], как утверждал К. Поппер. Кстати, сам термин «тотальная история» принадлежит и Г. Лукачу, обосновывавшему ее возможность в своей ранней работе «История и классовое сознание». От нее идет прямая линия сначала к «эмансипативной теории» Ю. Хабермаса в «Познании и интересе», а затем к множеству сегодняшних «освободительных» сочинений. Поменялся лишь субъект такой тотальности: от рабочего класса, превращающегося из «класса-в-себе» в «класс-для-себя», произошел переход к всякого рода меньшинствам, свобода коих должна означать свободу для всех. Пока под диалектикой подразумевается гегелевское движение от абстрактного к конкретному, а учение об экономических интересах социальных групп не перетекает в спасительное для человечества знание, марксизм вполне приемлем и для лишенного веры в доктрину историка. Если же «невидимая рука рынка» или «классовая борьба» ведут человечество к некой цели, то мы имеем дело с лежащей за пределами науки телеологией. Есть закономерности, которые наблюдаемы в истории, но нет законов Истории, пока мы остаемся в пределах эмпирического знания.
Ни прежняя историософия, ни безбрежный плюрализм, переходящий в «этноцентризм», не могут выступать в качестве основания исторической науки. Историку полезно познакомиться с философскими учениями прошлого и настоящего – и Гегеля, и П. Рикёра читать стоит; он обязан знакомиться с нынешними теориями социологов и экономистов, разбираясь с социальными структурами и институтами обществ прошлого. Даже наработки генетиков могут оказаться небесполезными (хотя вступать в секту поклонников какой-нибудь гаплогруппы совсем не обязательно). Однако все это не дает нам тотальной науки – об этих притязаниях можно забыть. Да и о какой тотальности может идти речь, если вид homo sapiens существует примерно 100–150 тысяч лет, а границей истории по-прежнему остаются бесписьменные общества? Гадательные суждения относительно племен, которым принадлежали глиняные черепки, конечно, имеют свою цену (даже если иной раз порождают химеры, вроде «скифов-пахарей»).
Если историю от прочих наук отличает не предмет (все социальные науки обращены на него) и не метод – понимание, интерпретация мотивов и мыслей важны для всех изучающих человеческую реальность, – то что же является специфичным для историков? Это не нарративность – социолог, психотерапевт и этнограф также рассказывают о полученных ими результатах исследований. Таковым не может быть и внимание к процессам, возникновению и развитию во времени, поскольку экономические циклы, демографические изменения, конфликты социальных групп протекают во времени.
Мы возвращаемся тем самым к историзму, который является основным принципом историографии как таковой, но обретает теоретическое воплощение в трудах представителей Historismus как интеллектуального течения европейской мысли конца XIX – начала ХХ в. У истории нет монополии на герменевтику или «отнесение к ценности», методологический дуализм безусловно принадлежит прошлому, равно как и свойственная тому времени оппозиция «духа» и «природы». Обоснована критика «романтической герменевтики» Х. Г. Гадамером: в качестве основного метода эмпатия ведет не к проникновению в прошлое, а к его искажению. Кстати, это относится и к другим наукам о человеке – склонность подменять методологическими изысками вдумчивое проникновение в социальные и политические процессы ведет к слепоте как ученых, так и непрестанно разрастающегося племени экспертов. У истории имеется множество методов, разработанных прежде всего вспомогательными дисциплинами, но нет только ей присущего Метода.
Наследием историзма сегодня является не утверждение особого метода, но указанные выше скептицизм и реализм, понятые не как метафизические доктрины (тогда они находились бы в оппозиции друг к другу). Скептицизм отличается от релятивизма, утверждающего, что все точки зрения равно возможны и приемлемы – anything goes, как говорят ныне. Исходным является стремление к научной истине, а наука неизбежно придерживается корреспондентной теории истины. То, что наши суждения об изменениях климата, неандертальцах или социальной структуре древнего Вавилона гипотетичны, не отменяет того, что мы стремимся к искомому соответствию с реальностью, wie es eigentlich gewesen[134 - Как это было на самом деле (нем.). – Примеч. ред.]. Критическая оценка нашего знания характерна для любой науки, для историков же свойствен скептицизм обостренный, близкий пробабилизму не в современных его версиях (вероятностный взгляд на физические процессы), а самому раннему его варианту Аркесилая и Карнеада скептического периода платоновской Академии. Этот взгляд был характерен для ведущих представителей исторической науки XIX в., вроде Л. фон Ранке и К. Бурхардта в их полемике с Гегелем – «великие повествования» начали критиковать не со времени Ж.-Ф. Лиотара.
Но такой скептицизм уравновешивается реализмом, который также имеет свои особенности. Если подбирать термин из метафизики, то можно окрестить его «гипотетическим реализмом». Уверенность в том, что мы изучаем саму природу, присуща любому ученому, но в современной науке на предмет исследования налагаются теоретические схемы, модели, теоретические конструкции. Они поверяются путем контролируемого экспериментального вмешательства, гипотеза должна быть «оправдана» (justification) и подтверждена наблюдением. Особенностью истории является то, что ни наблюдать, ни вмешиваться, ни контролировать опыт мы не в состоянии – у нас есть только следы, свидетельства, «улики». Историк имеет дело с требующими истолкования знаками. Реализм здесь определяется «фактичностью» в ином, чем в естествознании, смысле – сегодня для нее употребляется слово «контингентность». Бывшее некогда с людьми в известном смысле случайно и даже иррационально – в существовании именно такого спартанского илота, китайского даоса, созданного усилиями строителей акведука или собора, нет никакого предзаданного смысла. Как и закона, согласно которому молодой граф Роккасекка сбежал из замка, стал монахом-доминиканцем, проучился у Альберта Великого, а затем прославился как автор «Суммы теологии» и умер в Тулузе. Фр. Ницше случайно покупает в лавке потрепанный том А. Шопенгауэра – без чтения «Мира как воли и представления» он не создал бы свое учение (или создал бы какое-то совсем другое). Был Константин Великий, которому однажды перед битвой привиделось in hoc signo vinces[135 - «Под этим знаком ты победишь» (славянский вариант фразы: «Сим победиши») – слова, которые, согласно преданию, будущий римский император Константин I увидел в небе рядом со знаком креста накануне битвы с императором Максенцием. – Примеч. ред.], – и он изменил империю, в которой на тот момент не было и десятой части христиан, а тем самым и ход истории. Викинги и йомены, феодальные бароны и придворные времен Людовика XIV не служили логике всемирной истории в качестве пешек для достижения такой странной цели, как приуготовление нынешнего мира (а в особенности тех статей и диссертаций, которые мы о них пишем). Лишь задним числом мы выясняем, каковы их «классовые интересы» или «групповая динамика» – сами они осмысляли мир иначе и действовали в соответствии с такими мыслями. Если возвратиться к языку основоположников социологии, еще принимавших во внимание историю, существуют «сообщества судьбы» (Schiksalsgemeinschaften), вроде общин, гильдий, провинций и даже кружков каких-нибудь «юношей архивных», почему-то начинающих читать Шеллинга и Гегеля в Москве 1820?х гг. Вряд ли можно назвать наше обращение к ним «диалогом», поскольку они не могут прочитать нам лекцию о том, как их изучать и стоит ли переходить от «социологии ролей» к «фреймам». История остается описательной наукой и после того, как историки научились говорить на языках статистики и когнитивных наук.
Так что формула Ранке, согласно которой каждая эпоха на свой манер соотносится с Богом и ценность ее заключается не в том, что из нее произойдет, но в самом ее неповторимом существовании, является самым кратким определением такого реализма. Конечно, историка интересует и то, что переходит из одной эпохи в другую, как развиваются институты, нравы, идеи, ритуалы. Однако он смотрит на то, как одно прошлое перетекает в другое – а оценивать, как оно доныне воздействует на настоящее, хвалить и хулить его есть кому и без него. Он не ставит перед собой и задачи изменить настоящее, рассказывая о прошлом, пока остается историком. Именно инаковость прошлого делает его объектом созерцания и описания. Хотя они сами принадлежат истории, историки куда менее социологов склонны заниматься рефлексией по поводу того, что взгляд ученого детерминирован принадлежностью к какой-то социальной группе, вроде WASP или «белого представителя среднего класса». «Классики» социологии – Вебер и Дюркгейм, Теннис и Зиммель – такого сорта идеологическим самокопанием не занимались и считали общества прошлого реально существовавшими; вероятно, потому, что их исследования опирались на огромный исторический материал, они и доныне интересны для историков, тогда как последующий конструктивизм в социологической теории к историческим штудиям не прививается[136 - Эта утрата исторического измерения социологической теории произошла достаточно давно. Как писал в конце 1960?х гг. Н. Элиас, произошла утрата видения долговременных процессов, каковой были наделены «классики», тогда как «социальные системы» послевоенной социологии таким видением уже не обладали. См. его предисловие 1968 г. к работе «О процессе цивилизации»: Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 1. С. 19–29.]. Если мы имеем дело с иным, то оно конституируется как независимый от нас объект созерцания и описания. «Оптика» историографии такова, что фиксирует общности, игнорируемые социальными науками. Например, для социологии такая общность, как «народ», чаще всего незаметна, а экономисты, говорящие доныне о «народном хозяйстве», эту реальность вообще игнорируют, равно как реальность «храмового хозяйства» в Шумере или средневековой гильдии. Историк изначально видит сообщества (Gemeinschaften) и лишь затем применяет методы, разработанные для видения Gesellschaften[137 - Обществ (нем.). – Примеч. ред.].
Тем самым мы возвращаемся к историзму в его самом раннем воплощении в ткань научных исследований. Как ни странно, реализм историографии опирается на романтизм с его «индивидуальными тотальностями». Для постижения этих некогда бывших, но унесенных ветрами времени людей и форм их сосуществования приемлемы и даже иной раз необходимы формулы и открытия куда более строгих, чем история, дисциплин. Но все эти формулы служат цели понимания иных, нежели наши собственные, обществ и культур. История является, наверное, самой «а-теоретичной» наукой, если только не вспомнить о том, что исходно «теория» означала созерцание. Даже если не принимать учение Гегеля об абсолютном духе, он писал о таком созерцании последовательного ряда, «в котором один дух сменялся другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего»[138 - Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Его же. Сочинения: В 14 т. М.: Политиздат, 1959. Т. IV. C. 434.]. Гегель называл эти духи «гештальтами», толкуемыми как проявления сознания и самосознания.
Если выйти за пределы идеалистической «философии духа», то мы обнаруживаем меняющиеся формы взаимодействия. Индивиды всегда включены в те или иные из них, «человек вообще» является абстракцией, удобной для конституций и деклараций прав, но вряд ли пригодной для историка. Одни формы чрезвычайно стабильны: возникнув в неолите, землепашество мало изменялось тысячелетиями, равно как формы семьи, религиозных обрядов и т. п. Другие приходят на короткое время, куда более связаны с творческими усилиями индивидов. Поэтому одни историки сосредотачивают свое внимание на долговременных процессах, перенимают языки экономики, географии и даже геологии (Бродель), тогда как другие остаются верными романтической герменевтике, имея дело с великими личностями или группами, вроде поэтов и мыслителей (Sturm und Drang[139 - «Буря и натиск» (нем.) – литературное движение в Германии 1770?х гг., получившее название по одноименной драме Ф. М. Клингера, отрицающее принципы классицизма и рококо и поставившее в центр своей эстетической программы изображение ярких характеров и сильных страстей. – Примеч. ред.] в Германии, Серебряный век в России). Различаются и их теоретизирования: в «клиометрии» индивиды почти взаимозаменяемы, тогда как для других подходов в исторической науке сословия и народы обретают личностные черты. Например, у Карсавина личности более широкого объема «стягивают» личности более узкого, но репрезентируются через них: ремесленника мы отличаем от купца или дворянина, русского от немца, но сословие и народ всегда опознается нами по отдельному представителю.
Иначе говоря, мы имеем континуум подходов и отвечающих им методов. В любом случае историк имеет дело с социальными существами, вступающими в связи, которые образуют долговременные или кратковременные структуры. Основанием всей работы историка по-прежнему остаются поиск, отбор, интерпретация и систематизация источников. Взгляд историка иначе «вырезает» объекты исследования, иначе их располагает и изучает. Его труд нередко сравнивали с деятельностью следователя – он идет по оставленным следам, чтобы найти «преступника», то есть того, кто замысливал и совершал действие. Хотя к диахронии обращаются все науки о человеке, для историка – даже если он в рамках своей «микроистории» обращается к кратковременной сцене – исходным пунктом и целью постижения являются происходящие во времени изменения, потоки, напоминающие длительность
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: