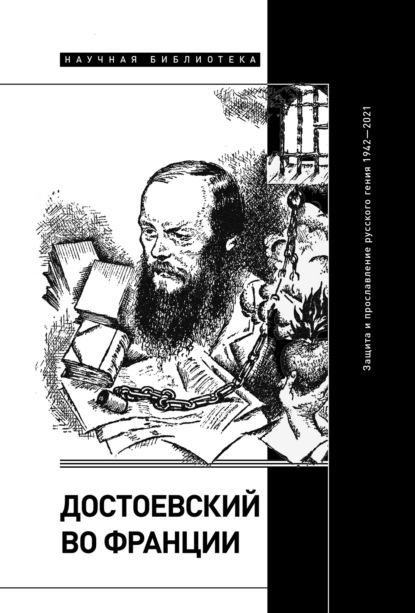По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения. 1942–2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, Сатанодицея Ивана, на которую Алеша отвечает скорее молчанием, ибо Бог, равно как Добро, не нуждаются в оправдании, подразумевает страдание, Сатана и есть страдание, боль и болезнь Ивана. Но болезнь Ивана не в силе веры, которая ведет по жизни Кириллова, а в силе идеи, в силе разума, которой, в свою очередь, бравирует черт, Иванов двойник. Не случайно, что именно в уста черта Достоевский вкладывает афоризм Декарта: «Je pense donc je suis». Собственно говоря, философия черта – это философия победившей Французской революции: показательно, что одна из глав третьей части работы Евдокимова, посвященная Злу как фактору исторического прогресса, называется, как уже упоминалось, «Свобода-Равенство-Братство или …Смерть».
Таким образом, зло не есть свидетельство несовершенства мира, созданного Богом, это – испытание, ниспосланное человеку, чтобы отвратить его от безмятежной жизни, проникнутой убеждением, что все, что ни делается, к лучшему.
Необходимо углубить идею зла как судьбы человека. Вселенная зиждется не на слезах бедных людей, но на иррациональной тайне страдания невинного добра. Этого Иван понять не может. Слезы суть символ, знак трагического характера страдающего добра. Зло вершится дурным бытием, дите страдает, но слезы не суть лишь знак дурной свободы злых людей; это – знак свободы, которой обладает добро, свободы страдать, принимая зло. В дите страдают добро человеческое и добро божественное; но это не то страдание, посредством которого покупается гармония; это – страдание, внутри которого переплавляется извращенная свобода человека.
Зло пронизывает бытие силой отрицания; слезы суть знак встречи добра и зла, особой формы борьбы и в конечном счете суверенного могущества добра, которое обрушивает свою силу на бытие, но дает ему себя ограничивать во имя любви и свободы[14 - Evdokimov P. Dosto?evski et le probl?me du mal. P. 192.].
В завершение этого небольшого этюда о работе «Достоевский и проблема зла» подчеркнем, что именно глубокое знание текстов русского писателя и литературы о нем как на русском, так и на основных европейских языках, невероятная книжная культура автора, с одной стороны, свободно ориентирующегося в наследии русских богословов, литературоведов и философов, с другой – освоившего множество трудов по новейшей и классической европейской философии, активно задействованных в размышлениях о природе зла, позволяют нам считать его труд истинным знамением новой линии в рецепции творчества русского писателя во Франции: речь идет уже не о писательских толкованиях тех или иных идей, мотивов или персонажей, а о собственно научном исследовании, задающем предельно высокую интеллектуальную планку, превзойти которую удалось единичным работам французской науки о Достоевском за прошедшие с момента появления этой книги 80 лет.
Глава вторая
ДОМИНИК АРБАН
Наверное, ирония показана литературоведению историей: как еще объяснить тот поворот, что реконструкцию генеалогии научной рецепции творчества Достоевского во Франции 1968–2018 годов следует начинать с этюда об авторе монографии «Достоевский и проблема зла» П. Н. Евдокимове, а продолжать – очерком зигзагообразного интеллектуального маршрута видной деятельницы французской литературной жизни Доминик Арбан (1903–1990), появившейся на свет в Первопрестольной в респектабельном еврейском семействе Хюттнер и названной родителями Наташей[15 - Основные биографические линии этой главы восходят к мемуарам Доминик Арбан: Arban D. Je me retournerai souvent. Paris: Flammarion, 1990.]. Наверное, судьбе было угодно, чтобы в августе 1914 года Наташа вместе с родными, имевшими обыкновение проводить летние месяцы на европейских курортах, оказалась во Франции, где с началом мировой войны осело все бывшее московское семейство, сумев дать дочери достойное образование, благодаря которому она непокорным вихрем ворвалась в культурную жизнь Парижа рубежа 1920–1930?х годов, где со временем стала играть если не главную, то весьма заметные роли, оставив по себе добрую память благодаря целому ряду замечательных книг, среди которых особняком стоят три монографических исследования о молодом Достоевском[16 - Arban D. Dosto?evski «le coupable». Paris: Julliard, 1950; Arban D. Dostoievski par lui-m?me. Paris: Seuil, 1961; Arban D. Les Annеes d’ apprentissage de Fiodor Dosto?evski. Paris: Payot, 1968.]. Правда, та же судьба явно посмеялась над Наташей, когда в 1971 году в некогда родной Москве вышла в свет издевательская статья начинающего советского литературоведа, впоследствии модного писателя, сейчас, правда, полузабытого, в которой она была названа – со злой иронией – одним из «ведущих современных французских специалистов по Достоевскому», к чему автор прибавил, с афишируемым сарказмом, что речь идет, возможно, о «самом» «ведущем» специалисте[17 - Ерофеев В. Странная любовь Доминики Арбан к Достоевскому // Вопросы литературы. 1971. № 1. C. 118. Если принять во внимание то обстоятельство, что с первой атакой на работу исследовательницы несколькими годами ранее выступил не кто-нибудь, а сам директор Института мировой литературы РАН (Анисимов И. Достоевский и его «исследователи» [Ф. Миллер «Достоевский – ясновидец, верующий поэт», Д. Арбан «Достоевский – виновный»…] // Литературная газета. 1956. 9 февр.), то приходится думать, что идея «единственно верного учения» о Достоевском, которое в настоящее время отстаивается некоторыми приверженцами исповедально-религиозной филологии, восходит не столько к историческому православию, сколько к советскому литературоведению. Как это ни парадоксально, но через некоторое время советская академическая наука о Достоевском пошла на попятную в отношении Доминик Арбан, напечатав в авторитетном периодическом издании Пушкинского Дома ее статью о «пороге» в творчестве русского писателя: Арбан Д. «Порог» у Достоевского (тема, мотив и понятие) // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 2. Л.: Наука, 1976. С. 19–29. Правда, публикация, размещенная в самом начале тома между работами Г. К. Щенникова и Д. С. Лихачева, могла показаться скорее анонимной: никаких сведений об авторе широкому советскому читателю не сообщалось. Международное признание французской исследовательницы дошло до России через другую публикацию в авторитетном научном издании: Арбан Д. Состояние безумия в первых повестях Достоевского // Записки Русской академической группы в США. Vol. XIV. [Сб. ст. о Ф. М. Достоевском]. New York: Association of Russian American scholars in the U. S. A., 1981. С. 26–43.].
Оставим на совести советского литературоведа иронию, сарказм и перлы полузнания, которыми блистает его памфлет, особенно если взглянуть на него с точки зрения истории идей, исходя из которой рассказ о том, как это было, всецело определяется настоящим временем. Нам важнее понять, что за страшная крамола содержалась в книгах Доминик Арбан о Достоевском, столь возмутившая иных деятелей советской науки о русском писателе, что последняя спустила на французскую исследовательницу, когда-то москвичку, одного из цепных псов тогдашней официальной культуры.
Итак, в середине 1920?х годов, поработав сначала на одной из парижских киностудий, а затем – секретарем редакции в литературно-политическом еженедельнике правого толка «L’ Ecole de la vie», Наташа Хюттнер вступила на сцену французской культуры, завязав «опасные связи» с главным редактором издания Анри Массисом, видным литературоведом, критиком и публицистом, одним из наиболее авторитетных идеологов консервативной революции ? la fran?aise, автором нашумевшей книги «Защита Запада» (1927), направленной против американского империализма и русского большевизма[18 - О французском варианте «консервативной революции» см.: Kessler N. Histoire politique de la Jeune Droite (1929–1942). Une rеvolution conservatrice ? la fran?aise. Paris: l’ Harmattan, 2001.]. Ни головокружительный подъем немецкого национал-социализма, сопровождавшийся умопомрачительным ростом антисемитских настроений по всей Европе, в том числе во Франции, ни собственно литературно-политические выступления авторов из ближайшего окружения Наташи середины 30?х годов, где блистали такие горячие головы французского литературного национализма, как Морис Бланшо, Робер Бразийак, Тьери Мольнье[19 - О французском литературном национализме, в частности о довоенных маршрутах М. Бланшо и Р. Бразийака, см.: Фокин С. Л. Морис Бланшо и хронический антисемитизм французской словесности // EINAI: Философия. Религия. Культура. 2015. Том 4. № 1/2 (7/8). https://einai.ru/ru/archives/738; Фокин С. Л. Гражданская война в Испании глазами французских писателей правого толка: Пьер Дриё Ла Рошель и Робер Бразийак // Романский коллегиум: Междисциплинарный сб. научных трудов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 126–145.], не омрачали той интеллектуальной эйфории, которой жила молодая женщина вместе со всем Парижем вплоть до осени 1939 года, правда перейдя на литературную работу в более нейтральную столичную газету «Marianne»: отрезвление пришло лишь со «странным поражением» 1940 года, оставившим Францию на пороге гражданской войны. В годы оккупации, ознаменованные антисемитскими законами правительства Виши, с которым стал активно сотрудничать бывший французский любовник, Наташе, отказавшейся к ужасу родителей получить в мэрии желтую звезду, пришлось скрываться; по счастью, надежный приют она нашла в окружении известного католического священника отца Карре, который ее покрестил и связал с писательскими кругами, близкими к движению Сопротивления.
По окончании войны она вела литературную страницу в газете «Combat», главным редактором которой был Альбер Камю, параллельно сотрудничала с более консервативным изданием «Figaro littеraire», где в контексте холодной войны независимость литературы отстаивали такие авторы, как Андре Жид, Поль Клодель, Франсуа Мориак. Вхожая в целый ряд парижских издательств, тесно связанная с видными писателями своего времени, Доминик Арбан, упрочила свое литературное имя публикацией романа «Град несправедливости» (1945). Именно тогда, в эти бурные послевоенные годы, вняв настоятельным увещеваниям своих литературных друзей, она взялась за перевод переписки Достоевского. Сцена судьбоносного решения представлена в мемуарах Доминик Арбан в лучших традициях русского романа:
Я заходила то к одному приятелю, то к другому, возглашая: «Я сейчас читаю самый сильный роман Достоевского – его переписку!» И все как один отзывались: «Надо ее для нас перевести!» Я смеялась в ответ: «Это невозможно!» Клоссовски с раздражением стал стучать своим худым пальцем по столу: «Вы нам это должны!» И это – крича и стуча пальцем по столу: Клоссовски, шептун, человек-невидимка[20 - Arban D. Je me retournerai souvent. Р. 200.].
Для литературной Франции того времени это было и совершенно авантюрное, и поистине героическое интеллектуальное начинание, поскольку оно предполагало первый полный французский перевод писем русского писателя. Доминик Арбан отважно приступила к этому труду, следуя первому тому издания переписки под редакцией А. С. Долинина, которое в действительности еще не было завершено в Советском Союзе[21 - Достоевский Ф. М. Письма. Т. 1–4 / Под ред. с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928–1959.]. Первый том переписки Достоевского на французском языке вышел в свет в 1949 году, книга стала настоящим культурным событием и принесла переводчице, которая выступила и автором предисловия, примечаний и комментариев, премию Французской академии и широкую известность в литературных кругах Парижа[22 - Dostoievski F. Correspondance / Traduction, introduction, notes, commentaires de D. Arban. T. 1. Paris: Calman-Levy, 1949.].
Подготовка следующего тома затянулась на целое десятилетие, но переводчица не теряла времени даром: погрузившись в эпистолярные драмы писательского становления молодого Достоевского, Доминик Арбан, опять же не без влияния ближайшего литературного окружения, решилась на опыт создания новой биографии русского писателя, основанной исключительно на переписке и литературных сочинениях Достоевского. Следует думать, что к этому времени литературная Франции вынашивала другой образ автора «Братьев Карамазовых», отличный от того, что был создан в талантливых, но далеких от литературной действительности России XIX века работах французских писателей довоенной эпохи (Э. М. де Вогюэ, А. Сюареса, А. Жида, Ж. Мадоля). Можно сказать, что идея «нового французского Достоевского» витала в самом воздухе послевоенного Парижа, приходившего в себя после нескольких лет подпольного существования в условиях немецкой оккупации. В определенном смысле Достоевский стал ближе французам, более понятен и вместе с тем более необходим: литературная Франция испытывала потребность в более человечном, но и более противоречивом образе создателя «Записок из подполья», который был бы ближе к тем условиям существования, в которых жили французы в течение Черных лет немецкой оккупации, когда на собственном опыте могли убедиться, сколь сложен человек, сколь подвижен он в своем психологическом самовосприятии, явно не укладывающемся в слишком статичные схемы классического психоанализа, обусловленные домашним мирком тихой Вены. Собственно о важности создания нового, более динамичного образа Достоевского писал в военные годы Ж.?П. Сартр, противопоставляя экзистенциальный психоанализ кабинетному фрейдизму:
Существует и другая тревога – тревога перед прошлым. Это тревога игрока, который свободно и искренне решил больше не играть, но, приблизившись к «зеленому сукну», внезапно видит, как рушатся все его решения. Часто описывают этот феномен таким образом, как если бы вид игорного стола пробуждал в нас склонность, которая вступает в конфликт с нашим предшествующим решением и вовлекает нас в игру вопреки ему. Мало того что подобное описание дается в вещественных понятиях и наполняет ум силами-антагонистами (это и есть слишком известная «борьба разума со страстями» моралистов), – оно не учитывает факты. Между тем об этом свидетельствуют письма Достоевского. В действительности нет ничего в нас, что походило бы на внутренний спор, как если бы мы должны были взвешивать мотивы и побуждения, перед тем как решиться. Предшествующее решение «больше не играть» всегда здесь, и в большинстве случаев игрок, находясь перед игорным столом, обращается к нему с просьбой о помощи: так как он не хочет играть или, скорее, принял свое решение накануне, он думает о себе еще как о не желающем больше играть, он верит в действенность этого решения. Но то, что он постиг тогда в тревоге, и есть как раз полная недейственность прошлого решения. Оно несомненно здесь, но застывшее, недейственное, превзойденное самим фактом, что я имею сознание о нем. Оно является еще моим в той степени, в которой я постоянно реализую мое тождество с самим собой сквозь временной поток. Но оно уже больше не мое, поскольку предстает перед моим сознанием[23 - Сартр Ж.?П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. М.: Республика, 2000. С. 42.].
И еще одно место, в духе обещания экзистенциального психоанализа писателя Достоевского:
Изучаемыми этим психоанализом действиями будут не только мечты, несостоявшиеся акты, навязчивые идеи и неврозы, но также, и особенно, мысли в период бодрствования, успешные и обычные действия, стиль и т. д. Этот психоанализ еще не нашел своего Фрейда; можно обнаружить лишь его предчувствие в некоторых отдельных удачных биографиях. Мы надеемся, что в другом месте сумеем дать два примера психоанализа относительно Флобера и Достоевского. Но для нас здесь неважно, чтобы он существовал, важно, чтобы он был возможен[24 - Сартр Ж.?П. Бытие и ничто. С. 364.].
Биография Достоевского, которую задумала создать Доминик Арбан, должна была следовать методу экзистенциального психоанализа Сартра, где статичные психические константы («эдипов комплекс» и т. п.) уступают место более динамичным мотивам и движущим силам человеческой реальности, разворачивающейся свободным проектом в столь же чуждой покою всеобщей истории, как будто самопроизвольно устремленной к трагическому финалу. Экзистенциально-психокритическая биография подразумевает не искание абсолютной исторической истины, установленной собиранием документальных источников, впрочем, заведомо обреченным на то, чтобы остаться неполным, а ставку на саму нехватку как условие возможности разворачивания человеческой реальности. Такое жизнеописание нацелено не столько на бытие человека в истории, все время рискующее оказаться в плену тех или иных форм коллективных иллюзий и индивидуального криводушия, лжеверия, нечистой совести («mauvaise foi»), сколько на постижение ничто как основной движущей силы человеческого существования[25 - Об обусловленности идеи экзистенциального психоанализа военной ситуацией см.: Фокин С. Л. Автопортрет философа на фоне войны: Жан-Поль Сартр и его дневники // Сартр Ж.?П. Дневники странной войны (сентябрь 1939 – март 1940). СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 758–813.]. В данной перспективе важнее представить то, что писатель ничтожил, прятал, скрывал, утаивал, как от других, так и от самого себя, нежели то, что он открыто исповедовал и проповедовал. Именно на этой направленности биографического метода сделал упор Б. Ф. де Шлёцер, один из самых авторитетных знатоков, переводчиков и проводников русской литературы во Франции того времени, написавший предисловие к первой книге Доминик Арбан об авторе «Бедных людей», эффектно озаглавленной «Достоевский „виновный“» (1950):
Новизна и интерес книги M-me Доминик Арбан обусловлены тем, думается мне, что образ действия, к которому обязывает постоянное присутствие романиста при своем творении, это столкновение созданий ума Достоевского с персональной драмой их создателя, впервые принимает здесь очертания строгого метода, примененного с точным намерением: речь о том, чтобы постичь Достоевского сквозь его творчество, которое, с точки зрения, которую сознательно занимает М-me Доминик Арбан, в конечном счете есть не что иное, как человеческий документ. В такой перспективе, последовательно психологической, это творчество приобретает вид интимного дневника, который охватывает несколько десятилетий – от первых повестей и рассказов, от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых» – и в котором писатель непрестанно что-то открывает и в то же время что-то прячет от себя (от собственных глаз ничуть не меньше, чем от взгляда других людей)[26 - Schloezer B. de. Prеface // Arban D. Dosto?evski «le coupable». Paris: Julliard, 1950. P. 8–9.].
Таким образом, если чуть развить мысль Шлёцера, метод Доминик Арбан не сводится ни к классическому биографизму (в духе Сент-Бёва), в соответствии с которым плоды (творчество) познаются через древо (личность писателя), почву, в которой оно произрастало (ближайшее окружение, родители, семья, школа, друзья, недруги и т. п.), геопоэтическую атмосферу (национальная культурная традиция), ни к модной в то время психокритике (в духе Фрейда), где упор делается на конструировании психопатологической «истории болезни» писателя, бессознательные константы которой сказываются в более или менее рекуррентных мотивах и темах творчества. Речь идет скорее о проникновенном чтении собственно литературных текстов, исходя из той элементарной гипотезы, что писатель в литературе не только что-то открывает – в себе, в других, в мире, но в то же время что-то скрывает – от себя, от других, от мира. Это утаивание не обязательно связано с патологическими, перверсивными, предосудительными или трансгрессивными моментами, имевшими место в действительном существовании автора; речь идет скорее о работе, с одной стороны, индивидуального воображения, памяти, фантазии, но и забвения, с другой – самой литературы, логики письма, в которой биографическое, личное, субъективное как будто отходят на задний план, уступая место представлению некоей коллективной или, если угодно, всечеловеческой фигуры, обусловленной больше непроизвольной памятью языка, чем сознательным забвением или криводушием писателя.
В этой связи заметим, что Достоевский был писателем, который доверял языку: прежде всего в том смысле, что никогда не доходил до признания того, что мысль изреченная есть ложь; вместе с тем временами полностью отдавался стихии языка, полагаясь на его культурную память и самопроизвольную силу, способные сказать свое слово как будто помимо воли автора. Более того, ему случалось сознательно искать такого рода личную безответственность, когда в письме как будто говорит сам язык. Один из наиболее ярких примеров представляет собой известный пассаж из послания начинающего писателя к брату Михаилу, в котором он отчитывается в том, как в личном письме отчитал опекуна за то, что тот пытается удержать его от писательской стези:
Свинья-Карепин глуп как сивый мерин. Эти москвичи невыносимо самолюбивы, глупы и резонеры. В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром. Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь все равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир? Я ему такое письмо написал! Одним словом, образец полемики. Как я его отделал. Мои письма chef-d’ Cuvre летристики[27 - Достоевский Ф. М. М. М. Достоевскому. 30 сентября 1844. Петербург // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. Письма 1832–1859. Л.: Наука, 1985. С. 100–101. О самом письме Карепину см. новейший комментарий одного из самых авторитетных достоеведов России: Баршт К. А. Письмо П. А. Карепина к Ф. М. Достоевскому от 5 сентября 1844 г.: исправленный текст // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 22. СПб.: Наука, 2019. С. 339–357.].
Сказанное о личном письме, в котором Достоевский полностью отдался своеволию языка и произволу литературного воображения, может быть отнесено и к собственно литературе: понятие «небрежение языком», через которое когда-то Д. С. Лихачев определял писательский стиль автора «Бедных людей»[28 - Лихачев Д. С. Небрежение словом у Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 2. Л., 1976. С. 30–41.], может соответствовать и своего рода небрежению авторской волей, точнее забвению неких волевых, сознательных авторских интенций, в силу которого в текст прорывается то, о чем в другой ситуации автор лучше промолчал бы.
Возвращаясь к работе Доминик Арбан, следует указать, что в соответствии с ее представлением в сознании и бессознательном Достоевского постоянно работало переживание вины за смерть отца, которое искало выход с особенной силой в раннем творчестве, в меньшей степени подвластном владению словом, искусству композиции, писательскому мастерству. В этой перспективе Достоевский предстает как автор, претворивший со временем собственную сокровенную вину в виновность всех и каждого перед всеми и каждым.
Когда Достоевскому в восемнадцать лет пришлось лицом к лицу столкнуться […] с убийством отца, некому было успокоить его совесть, некому было сказать ему: «Это не ты убил, не ты. Я говорю тебе эти слова на всю твою жизнь.
«Всю свою жизнь» Достоевский непрестанно страдал и винил себя[29 - Arban D. Dosto?evski «le coupable». P. 37.].
Это утверждение восходит, с одной стороны, к тем словам Алеши Карамазова, с которыми он обратился к брату Ивану:
Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня бог послал тебе это сказать[30 - Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1 Письма 1832–1859. Л.: Наука, 1985. С. 100–101.].
С другой стороны, оно подкрепляется признанием Катерины, героини повести «Хозяйка», с метафразы которой Доминик Арбан начинает свою книгу:
А то мне горько и рвет мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне люб, что любо жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье, – в том мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою![31 - Достоевский Ф. М. Хозяйка // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 1. С. 299.]
В своей книге Доминик Арбан проводит ту мысль, что, подобно Катерине, героине «Хозяйки», Достоевский-писатель жил виной за страшное преступление – отцеубийство, – на которое мысленно пошел, точнее мог подумать, что пошел, пусть даже в самых потаенных уголках мятущегося сознания. Именно это переживание будет вложено в признания и полупризнания различных персонажей целого ряда произведений писателя, именно оно образует ту нехватку, то ничто, что будет движущей силой мысли писателя и образа действий его ключевых героев, устремленных к полноте бытия и волей-неволей прибегающих, чтобы ее достичь, к жертве, искуплению, самоказнению.
Разумеется, реконструируя замысел первой книги Доминик Арбан о Достоевском, мы представляем здесь некую идеальную интеллектуальную модель, как она дает о себе знать в работе, написанной, напомним, более семидесяти лет тому назад. Нам важно было дать представление о методе, на который обращал внимание Шлёцер: может быть, главное достоинство этой книги обусловлено именно настойчивостью, с которой исследовательница вновь и вновь делает ставку на то, чтобы воссоздать портрет писателя, исходя исключительно из биографических деталей, представленных в переписке и прорывающихся в произведениях. В современной научной литературе о Достоевском эту склонность писателя оставлять следы или сигналы присутствия своего мироощущения и самого своего существования в тексте называют «криптографическим автобиографизмом»[32 - Баршт К. А. Криптографический автобиографизм и миф, созданный для С. Д. Яновского // Баршт К. А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор-История, 2019. С. 22–37.]; Доминик Арбан, не столь искушенная в теориях литературоведения, полагала, что речь идет о своего рода «биографическом заряде», содержащемся в повествовании:
Мне на надо давать волю воображению. Достаточно будет очевидностей. Не приходится даже комментировать. Достаточно лишь уточнять, что в повествовании идет от биографического заряда[33 - Arban D. Dosto?evski «le coupable». P. 37.].
Но такого рода настойчивость криптобиографа, что сродни маниакальности, с которой игрок, следуя какому-то изобретенному алгоритму, вновь и вновь ставит на одну и ту же цифру, чревата крахом: исключительное внимание к автобиографическим крохам, разбросанным по отдельным текстам писателя, способствует редукции как самой проблематики текста, так и творческой личности писателя.
Таким образом, неприятие вызывает не столько основной тезис первой книги Доминик Арбан, который сводится к утверждению «виновности» в виде главной движущей силы жизни и творчества Достоевского, сколько сам опыт сведения необычайно насыщенного, разнообразного, разнохарактерного внутреннего мира писателя к одному принципу. Сколь бы сильной ни была вина, какую мог ощутить молодой Достоевский, узнав о смерти отца, отношения с которым у него в те трудные месяцы, что предшествовали его гибели, действительно были далеко не идеальными, эта вина не могла быть единственной силой, что двигала сознанием писателя, как в существовании, так и в творчестве.
Несомненным достоинством работы Доминик Арбан было то, что в своей книге она открывала французскому читателю по-настоящему неизвестного Достоевского: подробные парафразы «Хозяйки», «Господина Прохарчина», «Неточки Незвановой» и других ранних произведений писателя, хотя и приправленные навязчивыми биографическими гипотезами и реконструкциями, зачастую безосновательными, вводили во французскую культуру более живой, подвижный, противоречивый образ Достоевского, существенно отличавшийся от общепринятых представлений об авторе «Братьев Карамазовых», которые сложились во французском культурном сознании благодаря работам А. Жида, А. Сюареса, Л. Шестова. Вместе с тем, правда не особенно к этому стремясь, Доминик Арбан содействовала упрочению пресловутого «мифа отцеубийства», начало которому положила статья З. Фрейда, в то время не слишком известная во Франции: вопрос Ивана Карамазова «Кто не желает смерти отца?» звучит рефреном в комментариях даже к далеким от последнего романа текстам.
Например, биограф приводит известный пассаж из «Дневника писателя» за 1873 год, где Достоевский утверждает, что сострадание к преступникам, свойственное русскому народу, не сводится к оправданию понятия «среды», через которое может облегчаться бремя вины:
Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ[34 - Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 1873 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21; Статьи и заметки, 1873–1878. Л.: Наука, 1980. С. 18.].
К этому полемическому фрагменту, оплетенному сетью прихотливых аргументов и контраргументов в пользу или против строгого наказания преступников, которые приводит Достоевский в своей статье, Доминик Арбан приобщает толкование, работающее только на основный тезис книги:
Эти страницы из «Дневника писателя» также относятся к 1873 году. В это время в творчестве свершается Достоевский-человек. Триумф экзорцизма над обсессией. Достоевский по-настоящему овладевает собой. На сей раз он взаправду покончит со старым призраком с хитрым взором, Гарпагоном его детства. Возможно, в глубине души он уже знает, что если четыре брата Карамазовых станут в различной мере убийцами того, кто дал им жизнь, то не только потому, что Достоевских тоже было четыре брата… «Кто не желает смерти отца?» – напишет он вскоре. Он столько раз совершал это «сошествие в ад самопознания», о котором говорит Ницше; столько раз сталкивался с собственной ненавистью, преступлением, страхом; ему не впервой не ошибаться, когда личную драму он возводит в ранг всеобщей драматургии, когда самый сокровенный свой страх превращает в краеугольный камень тайного мира всех и каждого. На этом закладном камне здания, которое в каждом из нас имеет свое подобие, он собирает Трибунал, где вершит правосудие, выносит себе приговор, искупает вину и отпускает себе грехи. […] Достоевский навязывает собственные муки всем и каждому по той именно причине, что он признает за собой такое право. Он не дожидался Фрейда, чтобы узнать отгадку своей собственной загадки. В очередной раз Подпольный Человек, чей голос писатель слышит внутри себя, обращается этим Атласом, на лбу которого выведена тайна всех людей[35 - Arban D. Dosto?evski «le coupable». P. 145–147.].
Не приходится сомневаться, что свое биографическое здание Доминик Арбан выстраивает на довольно глубоком знании текстов русского писателя, поворотов его личного существования, сложных отношений, что связывали его с близкими, друзьями, женщинами, соперниками, литературными, правительственными, религиозными кругами и т. п. Тем не менее сама ставка на биографическую конструкцию, основанную исключительно на литературном материале, не могла быть беспроигрышной: слишком многое из жизни писателя, России, Европы осталось за рамками этого своеобразного исследования, в котором филология – как любовь к слову, к букве, к истине текста, к перипетиям контекста – передает право решающего голоса литературе как торжеству вымысла.
Как уже было сказано, работа над переводом следующего тома переписки затянулась на целое десятилетие: второй том вышел в свет лишь в 1959 году, после чего Доминик Арбан отошла от этого начинания, передав дело в руки своей близкой знакомой Нины Гарфункель, другой выдающейся подвижницы французской литературной жизни русско-еврейского происхождения, которая не только в скором времени перевела два следующих тома переписки русского писателя, но и выпустила в 1961 году весьма своеобразную книгу «Достоевский – наш современник», предварявшую целый ряд столь же оригинальных работ о деятелях русской культуры («Горький», 1963; «Антон Чехов», 1966; «Ленин», 1970)[36 - См. подробнее: Schatzman R. Nina Gourf?nkel (1898–1984) // Revue des еtudes slaves. 1991. T. 63. № 3. Р. 705–710. www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_1991_num_63_3_6005.].
В те же годы Доминик Арбан продолжала работу над биографией Достоевского: в 1962?м в популярной биографической серии издательства «Seuil» «Писатели вечности» вышла в свет ее вторая книга «Достоевский о самом себе», которая также имела большой успех и несколько раз переиздавалась вплоть до конца XX века[37 - Arban D. Dostoievski par lui-m?me. Paris: Seuil, 1962.]. Строго говоря, подход исследовательницы-переводчицы не изменился: книга построена, согласно издательской формуле, на критическом представлении как скрытых, так и открытых «автобиографизмов» русского писателя. Несмотря на то что охват описания жизни и творчества писателя был существенно расширен, научная база работы оставалась условной, если не сказать проблематичной, в повествовании главенствует воображение писательницы, работающее, исходя из исповедальных или квазиисповедальных фрагментов литературных текстов и переписки Достоевского.
В середине 60?х годов положение Доминик Арбан в литературной жизни Франции оставалось довольно неопределенным: в читательских кругах она снискала себе славу знатока жизни и творчества Достоевского, но университетские слависты довольно скептически относились к ее книгам, сводя ее интеллектуальное начинание к анахроничному подражанию Фрейду. К этому времени группа переводчиков во главе со знаменитым профессором Сорбонны Пьером Паскалем завершила грандиозное предприятие по изданию в престижной книжной серии «Плеяда» издательского дома «Галлимар» полного собрания основных литературных сочинений Достоевского, к которому в 1969 году добавился внушительный том под редакцией Гюстава Окутюрье, включавший в себя ранние сочинения и полемические тексты русского писателя: в обстоятельных предисловиях и развернутых комментариях к каждому тому утверждался иной, если не более академический, то более объемный образ русского писателя, нежели тот, что представал в книгах Доминик Арбан[38 - Dosto?evski F. Crime et ch?timent / Trad. du russe par Lucie Desormonts, Doussia Ergaz, Henri Mongault, Vladimir Pozner et Boris de SchlCzer. Еdition et introduction de Pierre Pascal. Paris: Gallimard, 1950 (Biblioth?que de la Plеiade, n° 83); Dosto?evski F. Les Fr?res Karamazov / Trad. du russe par Lucie Desormonts, Sylvie Luneau, Henri Mongault et Boris de SchlCzer. Еdition et introduction de Pierre Pascal. Paris: Gallimard, 1952 (Biblioth?que de la Plеiade, n° 91); Dosto?evski F. L’ Idiot / Trad. du russe par Sylvie Luneau, A. Mousset et Boris de SchlCzer. Еdition et introduction de Pierre Pascal. Paris: Gallimard, 1953 (Biblioth?que de la Plеiade, n° 94); Dosto?evski F. Les Dеmons – Les Pauvres gens / Trad. du russe par Sylvie Luneau et Boris de SchlCzer. Еdition et introduction de Pierre Pascal. Paris: Gallimard, 1955 (Biblioth?que de la Plеiade, n° 111); Dosto?evski F. L’ Adolescent / Trad. du russe par Sylvie Luneau, Pierre Pascal et Boris de SchlCzer. Еdition et introduction de Pierre Pascal. Paris: Gallimard, 1956 (Biblioth?que de la Plеiade, n° 119); Dosto?evski F. Rеcits, chroniques et polеmiques / Еdition et trad. du russe par Gustave Aucouturier. Paris: Gallimard, 1959 (Biblioth?que de la Plеiade, n° 211).]. Словом, вняв советам литературных друзей, она решила закрепить свою позицию знатока творчества Достоевского через научную подготовку в «Национальном институте научных исследований», где в скором времени под руководством легендарного философа Гастона Башляра написала и защитила докторскую диссертацию по раннему творчеству Достоевского. Монография «Годы учения Федора Достоевского», выпущенная в свет в связи с работой над диссертацией, решительно отличалась от двух предыдущих работ: внушительная библиография, завершавшая работу, включала даже раздел «Книги, прочитанные Достоевским»[39 - Arban D. Les Annеes d’ apprentissage de Fiodor Dosto?evski. Paris: Payot, 1968.]. Материал, на котором выстраивалось рассуждение, претерпел существенные изменения: в работе использовались воспоминания современников, исследования по истории русской литературы XIX века, монографии, посвященные как творчеству Достоевского в целом, так и отдельным его сторонам. Вместе с тем, хотя в архитектуре исследования продолжали доминировать биографические моменты, Доминик Арбан предприняла детальную реконструкцию самого литературного проекта, который вынашивал молодой Достоевский: в этом отношении показательна, например, та скрупулезность, с которой произведен в этой работе анализ перевода «Евгении Гранде» Бальзака, осуществленного начинающим петербургским литератором в преддверие визита знаменитого французского романиста в Россию. Исследовательница не только установила, какие именно издания романа использовал Достоевский для своего перевода, но и выделила те пассажи, который переводчик вписывал в текст перевода от себя. Так, описывая комнату папаши Гранде, Достоевский добавляет фразу, которой нет в тексте Бальзака: «Эта таинственная комната была кабинетом старого скряги». Эта вставка выражала, по замечанию Доминик Арбан, вкус начинающего литератора к «тайнам» в духе Эжена Сю, а словосочетание «старый скряга» удачно воссоздавало колорит[40 - Ibid. P. 233.]. Тем не менее даже в это наукообразное повествование исследовательница вставляла комментарии, направленность которых свидетельствует о ее верности методу, где главенствует установка на раскрытие присутствия фигуры автора в тексте литературного произведения. В этом отношении как нельзя более характерен пассаж, в котором она утверждала, что в сознании молодого Достоевского фигура «папаши Гранде» была тождественная фигуре отца, прижимистость которого, как известно, действительно порой выводила из себя кондуктора Инженерного училища:
Эта идентификация утверждалась сама по себе – возможно, она сказалась в самой идее переводить именно этот роман Бальзака. Действительно, мать Евгении умирает от туберкулеза, как и мать переводчика. Умирает она скорее от тех мучений, на которые ее обрекает муж, от тоски, которую испытывает перед лицом злосчастия дочери, вызванного тем же мужем. Сколько здесь пронзительных отголосков прошлого, обертоны, которые будут переливаться до бесконечности в будущих произведениях – в частности, в «Хозяйке»[41 - Ibid. P. 234.].
В поздних работах о жизни и творчестве русского писателя, в частности, в книге «Годы учения Федора Достоевского», а также в упоминавшихся в самом начале этой главы статьях «„Порог“ у Достоевского (тема, мотив и понятие)» и «Состояние безумия в первых повестях Достоевского», Доминик Арбан удается создать такой образ литературного существования русского писателя, в котором автор и текст жить не могут быть друг без друга: если вполне понятно, что именно автор созидает текст, то обратное воздействие литературы на жизнь автора не всегда осознается в должной мере. Мы в общем и целом знаем произведения, которые создал Достоевский, но лишь в самое последнее время начинаем понимать, что сам Достоевский был создан литературой, причем не только той, которую он читал – американской, английской, немецкой, русской, французской, – но и той, которую он сам писал. Возможно, истинный смысл и современное значение работ Доминик Арбан о Достоевском заключаются в том, что они дают нам понять – от противного – что литература Достоевского была создана не болезнями, не обсессиями, не психозами, с которыми писатель боролся в жизни, а самой литературой, где, несмотря ни на что, торжествует здоровье. Вместе с тем следует признать, что при всех, не скажем методологических или научных «недостатках», скорее исторических и культурных «недоразумениях», характерных для работ выдающейся французской исследовательницы, они безусловно содержат в себе своеобразный урок преданности русскому гению, русской литературе, русскому языку, который она так или иначе вложила в свои книги.
Глава третья
ПЬЕР ПАСКАЛЬ
Пьер Паскаль (1890–1982) является настоящей легендой французской науки о России, русской истории, литературе, религии, старине, запечатленных в многочисленных трудах ученого о переломных моментах развития русского мира – от Аввакума и начал раскола до Пугачевского бунта и революции 1917 года[42 - Полную библиографию трудов П. Паскаля можно посмотреть в посвященных ему специальных выпусках журнала «Revues des еtudes slaves»: Revue des еtudes slaves. Mеlanges Pi?rre Pascal. 1961. V. 38. № 1. Р. 241–252; Revue des еtudes slaves. Mеlanges Pi?rre Pascal. 1982. V. 52. № 1–2. Р. 255–270. За последние годы в России появилось несколько публикаций, в которых следует видеть своеобразное признание заслуг Пьера Паскаля перед русской культурой: Грачева А. М. Собинные друзья протопопа Аввакума (А. М. Ремизов – П. Паскаль – А. И. Малышев – А. М. Панченко) // А. М. Панченко и русская культура. СПб.: Пушкинский дом, 2008. С. 353–362; Паскаль П. Протопоп Аввакум и начала раскола / Пер. с фр. С. С. Толстого; предисл. Е. М. Юхименко. М.: Знак, 2010 (см. рецензию З. И. Кирнозе в «Вопросах литературы» № 2 за 2012 год); Паскаль П. Пугачевский бунт / Пер. с фр. Л. Схибгареевой под ред. и с коммент. И. Кучумо. Уфа: ИП Галиулин Д. А., 2010. Сводный библиографический обзор исследований о П. Паскале см.: Данилова О. А. Пьер Паскаль в историографии: обзор российских и французских исследований // Французский ежегодник / Под ред. А. В. Чудинова и В. С. Ржеуцкого. Екатеринбург: Изд-во ЕГУ, 2011. С. 393–411.]. Вместе с тем Паскаль снискал себе славу мастера французского литературного перевода, завоевав в многолетней творческой деятельности целые уделы классической русской литературы, живущие поныне в культуре Франции не иначе как под сенью его авторитетного имени. Перу Паскаля-переводчика принадлежат «Житие» Аввакума, ряд главных романов Достоевского, а также произведения Н. В. Гоголя, В. Г. Короленко, А. М. Ремизова, Л. Н. Толстого, Б. Л. Пастернака, чему, впрочем, в 1920?е годы предшествовали виртуозные переводы трех томов избранных сочинений В. И. Ленина, дополненных научными комментариями марксиста поневоле, коим довелось стать французскому католику и левому интеллектуалу в красной Москве середины 1920?х годов.
Особой статьей в многосторонней деятельности Паскаля-ученого по внедрению русской словесности во французскую культуру стали содержательные предисловия, примечания и послесловия к французским переводам шедевров русской классической литературы, где выстроена широкая панорама литературной жизни России – от «века Александра и Пушкина» до лихолетья Сталина и поэтов русской революции. Наконец, Паскаль – полноправный старейшина цеха французских славистов XX века, Учитель с большой буквы для нескольких поколений студентов Сорбонны: для некоторых из них благодаря интеллектуальному обаянию профессора русский язык и литература становились не просто любимыми университетскими дисциплинами, но подлинными жизненными страстями, своего рода русским делом. Среди тех, кто получил от него путевку в большую научную жизнь, достаточно вспомнить Ж. Абенсура, Ж. Катто, Ж. Нива. Знаменитый семинарий профессора Паскаля по древнерусской литературе, проводившийся в 1950?е годы в Сорбонне по пятницам с 16.00, также вошел в легенду: на занятиях мэтр неподражаемо комментировал «Новгородские летописи»» и «Повести временных лет», «Слово о полку Игореве» и «Житие» протопопа Аввакума, воссоздавая в амфитеатрах парижского университета напряженную духовную жизнь Древней Руси.