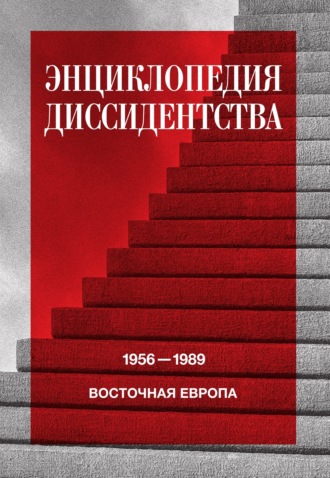
Энциклопедия диссидентства. Восточная Европа, 1956–1989. Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия
Új magyar önépítés. Politikai írások és előadások. Budapest, 1991.
Vasárnapi jegyzetek: a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság-jában 1987 és 1991 augusztusa között elhangzott jegyzetek. Budapest, 1991.
Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán. Budapest, 1992.
Néhány gondolat és nyolc társgondolat. Budapest, 1992.
Dagonyázás. Budapest, 1993.
Keserű hátország. Budapest, 1993.
Nemzeti összefogás. Budapest, 1996.
Tízből tíz. Néhány gondolat plazákról, szálláscsinálókról, Magyarország megszállásáró. Budapest, 2001.
Minden, ami van. Politikai írások és beszédek gyűjteménye. Budapest, 1998.
Az áldozat imperializmusa. Budapest, 2004.
Fesztiválkandúr. Budapest, 2005.
A rend programja a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai a 2006-os országgyűlési választásokra. Budapest, 2005.
A Lámpás program. Budapest, 2007.
II.Киш И. Уход Иштвана Чурки. Кто следующий? // РМ. 18.06.1993.
Végh A. István a király? Budapest, 1992.
Hartyányi I., Kovács Z. Csurka István írásainak bibliográ ája az 1954 és 1996 között megjelent művek. Budapest, 1997.
Оттилия Шольт (Ottilia Solt)
07.01.1944 – 01.02.1997
Социолог, редактор. Соучредитель Фонда помощи бедным.
Родилась в Будапеште. Отец ее был врачом, мать учительницей. В 1967 году получила диплом по философии и венгерской филологии в Будапештском университете им. Лоранда Этвеша. Работала социологом в Институте экономических исследований.
Принимала участие в проводимых Иштваном Кеменем исследованиях условий жизни самых бедных слоев венгерского общества, была одной из участниц и организаторов семинаров по социологии, общественным наукам и экономике, проводимых сначала в университетском Институте социологии, а затем в квартире Кеменя. В 1972 году перешла из Института экономических исследований в Будапештский педагогический институт. Там продолжила исследования, в которых нелегально, под чужой фамилией, принимал участие Кемень, уволенный с работы и подвергнутый запрету печататься. Эта деятельность оказала существенное влияние на будущие оппозиционные взгляды Шольт.
Летом 1977 года во время зарубежной поезлки навестила находившегося в эмиграции в Париже Кеменя. Получила от него текст недавно законченной им работы о машиностроительном заводе в Дьере. Венгерские таможенники изъяли у нее запрещенные в Венгрии книги, журналы, а также текст Кеменя. Против нее началось следствие, но дело завершилось *милицейским предупреждением и выговором по месту работы. Принимала участие в акции солидарности с членами чехословацкой *«Хартии-77», и только заступничество непосредственного начальника и сочувствие в связи с трудными жизненными обстоятельствами уберегли ее от увольнения. Была, однако, переведена из педагогического института в среднюю школу, где год проработала учительницей, затем стала социальным работником и, наконец, библиотекарем. В 1979 году вместе с друзьями из круга Кеменя основала *Фонд помощи бедным. В 1981 году окончательно потеряла работу, оказалась в исключительно трудном финансовом положении, постоянно подвергалась преследованиям.
Принимала Шольт участие и в работе редакции подпольного журнала венгерской демократической оппозиции *«Беселё». Была автором статей и важнейших программных документов демократической оппозиции, в частности четвертого раздела манифеста *«Общественный договор» (июнь 1987 года), касающегося социальной защиты и социальной политики. Подписывала протесты против ущемления прав человека и разрушения природной среды. Участвовала в важнейших оппозиционных акциях в годовщины *венгерской революции и в главный национальный праздник Венгрии – 15 марта, День революции 1848 года. Приняла участие во *встрече в Моноре (июнь 1985 года).
Постоянно находилась под наблюдением полиции, ее телефон прослушивали, в квартире неоднократно проводили обыски. 15 марта 1988 года была задержана и допрошена полицией.
В 1988 году сыграла важную роль в создании совместного координационного органа демократических групп оппозиции «Сеть свободных инициатив» и в дальнейшем преобразовании его в политическую партию *Союз свободных демократов. Была соавтором программного заявления Временного совета Сети свободных инициатив, известного под названием «Выход есть», опубликованного в 1988 году на страницах «Беселё». В первый год существования ССД была членом правления, затем членом центрального совета.
В 1989 году стала научным сотрудником Института социологии Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, приняла активное участие в преобразовании подпольного журнала «Беселё» в легальный еженедельник. Членом его редколлегии оставалась до 1995 года. В 1990 году избрана в парламент, была членом парламентской комиссии по социальным вопросам, а в 1991 году избрана ее вице-председателем. В 1994 году отказалась от мандата.
Фанни Хаваш (С. П.)I.Szakképzetlen családok. Egy általános iskolai osztály szociológiai viszgálata. Budapest, 1977.
A New Social Contract // From Stalinism to Pluralism. A Documentary History of Eastern Europe since 1945. New York; Oxford, 1991. (Соавт. J. Kis, F. Kőszeg).
A SZETA, a Szegényeket Támogató Alap szerveződése és munkája // Szociális segítő. Budapest, 1991.
Cigányok és cigány gyerekek Budapesten // Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / ősszeál. K. Kovalcsik. Budapest, 1998.
II.«Beszélő» 1992.
Országgyülési Almanach. Budapest, 1992.
Kőszeg F. A Demokratikus ellenzék rangja. Gondolatok Solt Ottilia halálának tizedik évfordulóján // Élet és Irodalom. 02.02.2007.
Восточная Германия
Исторический очерк
Сопротивление в ГДР возникло вскоре после войны и по преимуществу было реакцией на репрессии, предпринятые советскими оккупационными органами и их немецкими ставленниками. Проводившиеся радикальные изменения социальной структуры первоначально вызывали социальный протест, который, однако, был со временем эффективно подавлен. Коммунисты пытались создать в Германской Демократической Республике условия, исключающие наличие политических противников. Массовое движение, сравнимое с польской *«Солидарностью», в ГДР не могло сложиться.
*Народное восстание 17 июня 1953 года было последней попыткой массового протеста значительной части населения, прежде всего рабочих. Волнения охватили около 550 городов. Первоначальные требования социального характера быстро сменились политическими: требованием свободных выборов и объединения Германии. Восстание было жестоко подавлено советскими войсками,
Несмотря на многочисленные преследования, некоторые группы, например действовавший в 1953–1958 годах «Айзенбергский кружок» во главе с Томасом Аммером, активно противостояли режиму. Оппозиционеры ставили целью подрыв или свержение коммунистической власти и ее публичную дискредитацию, независимо от норм государственного права и без стремления к легитимности акций. Диапазон методов, преимущественно конспиративных, колебался от распространения листовок, с помощью которых пытались объяснить гражданам политическое положение или призвать их к активному либо пассивному сопротивлению, до акций малого саботажа. Движение сопротивления могло позволить себе не иметь формальной политической программы, так как уже в самом свержении власти СЕПГ содержалась демократическая альтернатива.
Группам сопротивления, преследуемым властями, редко удавалось установить между собой прочные контакты, поэтому восточногерманские немцы создавали базы своих антикоммунистических организаций в Западной Германии, где могли не столь сильно опасаться *Штази. Наиболее активны были «Боевая группа против жестокости» и Следственная комиссия свободных юристов, которые пользовались значительным влиянием в ГДР и оказывали движению сопротивления организационную и материальную помощь. Аналогично действовали западногерманские политические партии, организовавшие в западной части Берлина так называемые восточные бюро и поддерживавшие своих членов в конспиративной работе.
Такая форма политической оппозиции доминировала с 1945 года до сооружения Берлинской стены в августе 1961 года. Постройка Берлинской стены окончательно пресекла эту форму оппозиционной деятельности. На сопротивление решались уже только единицы. Среди них был пастор Оскар Брюзевиц, который в сентябре 1976 года в Цайце совершил публичное самосожжение в знак протеста против политики государства в отношении молодежи и религии. Его поступок вызвал огромный общественный отклик. К числу наиболее известных относится также акция Йозефа Кнайфеля, взорвавшего в марте 1980 года в Карл-Маркс-Штадте (ныне Хемниц) советский танк-памятник.
В 1960–1970‐е противники политики *СЕПГ происходили главным образом из групп, утверждавших такие ценности, как самореализация и самобытность. Складывались они в основном при религиозных объединениях разных конфессий, в художественных кругах и молодежных субкультурах. Примыкали к ним и деятели культуры различных политических взглядов.
До конца существования ГДР большое политическое значение имели массовые побеги и выезды на Запад. Многие из тех, кто подавал заявления на выезд, добивались разрешения властей дополнительными действиями: занимали посольства или устраивали демонстрации. Им отвечали преследованиями, а в 1980‐х многих арестовывали. Движение за выезд и оппозиционные группы имели разные стратегические цели, но были у них и точки соприкосновения, что в 1989 году нашло свою политическую форму и ускорило эрозию власти СЕПГ.
В 1960‐х, а еще более откровенно в следующем десятилетии сопротивление властям стало приобретать черты политической оппозиции. Властям не удалось ее подавить, несмотря на жестокие репрессии. В результате в 1989 году оппозиция перехватила инициативу во внутренней политике и в целом способствовала краху ГДР.
Понятие «легальной оппозиции», идущее из западной демократической традиции, лишь частично применимо к политической ситуации в ГДР: оппозиция, понимаемая как программная и персонифицированная альтернатива действующей власти, не имела здесь никаких конституционных гарантий. Однако от этого термина нельзя отказаться, так как он объединяет часть противников СЕПГ, опиравшихся в своей деятельности на тот законодательный фундамент, который создала сама система для сохранения фикции права. Несмотря на то что в Конституции 1968 года был пункт о руководящей роли СЕПГ и исключалась возможность существования легальной политической оппозиции, партия никогда не отказывалась от видимости главенства права и законности. Оппозиция пыталась контролировать и ограничивать власть, принуждая ее уважать собственные правовые нормы и акты.
Выше говорилось, что оппозиция находила поддержку в религиозных объединениях различных конфессий. Деятельность таких структур была гарантирована законом (основывалась на декларированной свободе совести и вероисповедания), что делало подобные общественные группы единственным исключением из идеологических притязаний СЕПГ на всевластие.
Кроме того, подписывая ряд международных соглашений, ГДР принимала на себя международные обязательства, что также помогало оппозиции. С 1975 года сильной международно-правовой поддержкой для оппозиции стал Хельсинкский процесс. Даже при том, что СЕПГ подчинила законы партийной политике и систематически эти законы нарушала, существовавшая законодательная база, хотя и весьма ограниченно, давала оппозиции определенную платформу и поле для маневра. В частности, предпринимались попытки использовать в политических целях систему так называемых петиций к властям, призванных защищать гражданские и административные права. Используя суррогатную законность, оппозиция стремилась себя легитимизировать. Власть была вынуждена всерьез относиться к этим устремлениям, ибо сама искала такой легитимизации для себя. Многие оппозиционеры считали недостаточной стратегию легитимизации и склонялись к более радикальным методам сопротивления, создавая, например, в 1986 году в Берлине станции подпольного радиовещания. До начала 1950‐х роль легальной оппозиции в определенной мере играли гражданские партии: ХДС (Христианско-демократический союз) и ЛДПГ (Либерально-демократическая партия Германии). В 1950–1960‐х роль оппозиции стали играть религиозные объединения, защищавшие как свои права, так и права жертв репрессий.
С приходом к власти Эриха Хонеккера (1971) оппозиция едва ли не полностью была вытеснена в церковную сферу, где сосредоточился почти весь оппозиционный потенциал общества. Хотя независимые оппозиционеры, не связывавшие себя с религией (например, марксисты), и действовали почти до 1980‐х, но главным пространством свободы, формой существования зачатков гражданского общества стали протестантские церкви. Именно там шел поиск путей преодоления политических конфликтов, который подавлялся в обществе. И это происходило несмотря на стремление церквей к достижению соглашения с государством.
Своеобразный договор, заключенный 6 марта 1978 года между Церковью и государством в результате переговоров Хонеккера с высшими церковными иерархами, не смог преодолеть острых политических противоречий между духовенством и частью прихожан. Церковь обладала отдельной организационной структурой, была независимым форумом общения, управлялась по собственным законам и имела собственный интеллектуальный потенциал. Таким образом, социализм и антифашизм, монополизированные СЕПГ в качестве идеологической базы ее власти, в своем беспартийном виде могли существовать в лоне Церкви и стать основой для политической критики режима.
Коммунистическое государство пробовало изолировать оппозиционные группы в церковных стенах. На жаргоне Штази это называлось «теологизацией» и «оцерковлением» и имело целью нейтрализовать оппозицию с помощью церковной дисциплины. В этом направлении работали и некоторые церковники, становившиеся сексотами Штази. Однако такая стратегия не могла быть успешной, поскольку во многих группах главную роль играли как раз богословы, которые обеспечивали религиозное и богословское обоснование деятельности оппозиции. Попытки подчинить группы оппозиции церковной дисциплине лишь усиливали их стремление к автономии, что в результате привело осенью 1989 года к полному отделению этих групп от церквей. Но до этого момента основной потенциал оппозиции концентрировался в религиозных конгрегациях.
С 1985 года число оппозиционных групп постоянно росло. Летом 1989 года Министерство государственной безопасности занесло в свои списки 120 групп, из них 10 внецерковных. Церковные данные свидетельствуют о существовании в 1988 году около 350 групп. Большинство из них отличалось невысокой политической ангажированностью, но их, однако, можно было мобилизовать на многие акции.
Легальность оппозиции не позволяла ей ставить под сомнение законность существования ГДР и ее государственной идеологии. Это порождало неразрешимую дилемму, ведь стремление к демократии невозможно было совместить с существованием ГДР. Расстановка сил, исключавшая надежды на перемены, обусловила направленность оппозиционеров прежде всего на расширение свободы в рамках социализма и требование соблюдать права человека. Следствием этого было обращение к демократическому социализму как путеводной идее.
Впервые это проявилось в период десталинизации в 1956 году и под влиянием событий, произошедших тогда в Венгрии и Польше. На показательных политических процессах были в то время осуждены «ревизионисты» Вольфганг Харих и Вальтер Янка, предложившие концепцию «третьего пути» (либерализация системы и отмена догматических ограничений в экономике, науке, философии и искусстве).
И хотя целью «ревизионистов» была лишь реанимация германского коммунизма, они способствовали распространению в ГДР мифа о демократическом социализме. Этот миф показался близким к воплощению, когда в Чехословакии компартия сама предприняла попытку демократизации социализма. Подавление *«пражской весны» вызвало протест сотен немцев в ГДР, несмотря на то что им грозили за это суровые наказания.
Политическое брожение способствовало значительному росту интеллектуального интереса к противоречиям социализма, который даже его критикам не казался тогда окончательно дискредитированным. Настоящий, подлинный социализм должен был дать целостное истолкование места и роли личности в обществе, перебросить мост через пропасть, разделявшую партию и народ, и по-новому определить роль государства. «Пражская весна», еврокоммунизм, неомарксистские движения на Западе и левые освободительные движения в Третьем мире, казалось, должны были составить альтернативу ортодоксальной форме государственного социализма советского происхождения и укрепляли веру в социализм как таковой.
Оппозиционные структуры стали формироваться в среде творческой интеллигенции в начале 1970‐х в форме дискуссионных кружков и так называемой культурной оппозиции. Предпринимались попытки использовать официальные институты – дома культуры и промышленные предприятия – для легальных политических и художественные мероприятий, затрагивавших темы, бывшие до той поры запретными. Обсуждавшиеся проекты идеологических решений, альтернативные ортодоксальному марксизму, и стремление к большей индивидуальной свободе быстро привели к серьезному конфликту с государственными органами. Около 1976 года власти эту форму оппозиции ликвидировали.
В деятельности некоторых диссидентов начал проявляться идеологический поворот, состоявший прежде всего в отходе от марксистских стереотипов. Крупнейшим представителем этой группы был поэт и прозаик Райнер Кунце, который после событий 1968 года в Чехословакии расстался с социалистическими иллюзиями, а в своем изданном на Западе в 1976 году романе «Чудесные годы» запечатлел физический и психологический террор государства против молодых людей, добивающихся свободы и законности. В 1977 году Кунце был вынужден уехать на Запад.
Выдающимся представителем концепции демократического социализма был Роберт Хавеман (в 1974 году исключенный из СЕПГ), который вместе со Стефаном Геймом и певцом и поэтом Вольфом Бирманом был изгнан из публичной жизни. Признавая антифашистскую легитимность ГДР и принципы политэкономии социализма, он в то же время высказывался за свободу личности и политическую свободу и требовал допустить существование оппозиции. Он приветствовал решения Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также стремился к «осуществлению социалистической демократии, то есть к реальному соблюдению всех политических прав человека».
Вокруг Роберта Хавемана, несмотря на преследования, сплотился круг друзей, к которому принадлежал, в частности, Юрген Фукс. Хавеман вышел за пределы этого круга в 1979 году, когда установил контакт с церковным движением за мир. В это время выразителем критицизма молодого поколения стал Бирман. Его тексты о горьком прощании с ГДР, которая «похоронила революцию живьем», отвечали опыту и стремлениям молодежи, воспитанной на социалистических идеалах и разочарованной действительностью.
В ноябре 1976 года по решению политбюро ЦК СЕПГ Бирман был лишен гражданства и выслан из ГДР (предлогом стал его концерт в ФРГ). Но такое неожиданное решение, носившее признаки мести непокорному творцу, вместо того чтобы запугать художественную среду ГДР, привело к ее политическому пробуждению. Первоначальной реакцией на политику властей стал массовый исход мыслителей и художников на Запад.
Последний из широких альтернативных проектов реального социализма был представлен Рудольфом Баро в опубликованной в 1977 году на Западе книге «Альтернатива. К критике реального социализма». Он утверждал, что коммунистическая альтернатива, то есть «реальное равенство и всеобщая эмансипация», может быть достигнута только вне партии, и возлагал надежды на будущий «союз коммунистов», которому в соответствии с марксистским пониманием истории отводил роль едва ли не мессианскую. Несмотря на то что Баро не отступил от марксистской критики капитализма, СЕПГ осуждала любые попытки обращения к его теории. Сам Баро был арестован и приговорен к 8 годам тюремного заключения. И хотя число тех, кто имел возможность познакомиться с его утопическими воззрениями, было очень невелико, протест против его заключения в тюрьму привел многих людей к политической активизации.
В 1980‐х в значительной мере были исчерпаны возможности использовать марксизм как основу критических и оппозиционных теорий. Некоторые неортодоксальные марксисты еще оказывали определенное влияние на оппозицию, но это влияние уже носило маргинальный характер.
С начала 1970‐х в Евангелической церкви усилилось движение, представленное пастором-нонконформистом Хайно Фальком, который не отрицал социализм, но хотел его улучшить. Достижение этой цели требовало борьбы против «угнетения и несправедливости». Эта оппозиционная установка отказывала властям СЕПГ в праве противиться политическим требованиям, касавшимся защиты мира и охраны природы. Церкви в это время создавали собственные институты общественной этики, которые позже стали интеллектуальной и организационной базой для оппозиционных пацифистских и экологических движений.
Время от времени в ГДР происходили стихийные политизированные протесты молодежи, например в Лейпциге в 1965 году (так называемое Бит-восстание) или возле Бранденбургских ворот в Берлине в 1977 и 1987 годах. Существовали также молодежные субкультуры, отрицавшие коммунистические притязания. Группы так называемых социально неприспособленных обрели политический характер в результате независимой просветительской и социальной работы в рамках инициативы *«Открытый труд». Эта система мероприятий охватывала тысячи молодых людей и часто становилась зародышем политического протеста. Главным инициатором этого движения считается пастор Вальтер Шиллинг из Тюрингии, который своей личностью притягивал к себе критически настроенную молодежь.
Вокруг церквей концентрировалось также оппозиционное движение за мир, которое, в противовес государственно-социалистической идеологии и практике, находило обоснование в богословском и религиозном подходе к пониманию мира. Движение реагировало на усиливающуюся милитаризацию Восточной Германии. Активисты независимого движения за мир понимали политический смысл мира иначе, чем СЕПГ, и иначе даже, чем официальная Церковь. В интерпретации СЕПГ ГДР была первым немецким «государством мира», легитимности которого служило утверждение, что оно не несет ответственности за Вторую мировую войну. В действительности коммунистическая «борьба за мир» была борьбой СЕПГ за сохранение власти. В Церкви с 1982 года доминировало понимание мира, близкое западногерманской социал-демократической концепции «общей безопасности», которая полагала гарантией мира политику стабилизации. Представление оппозиции о мире связывалось с внутриполитической ситуацией. Пастор Ханс-Йохен Чихе писал в 1981‐м: «Мира на земле нельзя достичь без особого нравственного усилия, которое начинается, однако, с гуманизации и демократизации отношений во внутренней политике».
Первыми в зарождавшемся пацифистском движении были призывники, отказывавшиеся от военной службы. В начале 1970‐х стали проходить пацифистские семинары, а вскоре возникли первые стабильные группы. Благодаря пацифистской деятельности церквей и оппозиции в 1980 году прошла первая *Декада мира под девизом «За мир без оружия», выдвинутым много работавшим с молодежью саксонским пастором Харальдом Бретшнайдером. Декады мира, включавшие различные мероприятия, стали проводиться ежегодно.
С 1981 года пацифистское движение приобрело широкий масштаб, свидетельством чего стала, например, борьба за введение альтернативной гражданской службы. С 1982 года регулярно в годовщину бомбардировки Дрездена проводился Дрезденский мирный форум. В 1981–1982 годах существовало движение *«Мечи на орала». В 1982 году Роберт Хавеман и пастор Райнер Эппельман выступили с «Берлинским воззванием» – смелым предложением о разоружении. Они требовали вывода войск союзников из обеих частей Германии и невмешательства во внутренние дела немецких государств. Ответом властей были преследования участников пацифистского движения, которое, несмотря на краткосрочное значительное усиление, оказалось в обществе ГДР изолированным. Художественная среда, за небольшими исключениями, держалась от него в стороне, не желая раздражать власти. Оппозиционные деятели культуры (например, Луц Ратенов, Фрея Клир, Штефан Кравчик) подверглись преследованиям.



