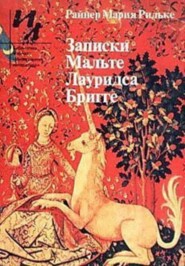По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книги стихов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Враг разбросал мои осколки,
мой прах насмешками дразня,
но, несмотря на кривотолки,
глотали пьяницы меня.
Средь битых стекол пресмыкаясь,
я в хламе собирал себя;
в полрта взывал я, заикаясь,
к Тебе, по целому скорбя.
О как вздымал я полуруки
мои увечные к Тебе,
чтоб Ты, в ответ на полузвуки,
глаза вернул моей мольбе.
Я словно выгоревший дом.
Служил убийцам я ночлегом,
когда они перед набегом
с пустым дремали животом.
Был городом я, где чума
в приморском воздухе селилась,
как труп, в жилые шла дома
и детям на руки валилась.
Чужой себе, схожу с ума,
и все мерещится мне тьма,
где мать от моего зачатья
несла урон,
где с нею вместе жертвой сжатья
был мой под сердцем эмбрион.
Так восстановлен я теперь
из клочьев нищенской стыдобы
в моем единстве высшей пробы,
и мысль моя не знает злобы
в предупреждении потерь.
В руках Свою Ты держишь славу
(и не мои ли с ней черты).
Я собирал себя, а Ты,
Ты расточишь меня по праву.
* * *
Монашеское облаченье
ношу я, верный Твой левит;
Тебя творит мое влеченье,
Тобой зачат я и повит.
Я голос одинокий в келье,
где мир сквозит из всех щелей,
а Ты волна, Ты новоселье,
любая вещь в Тебе целей.
Не что иное. Океан
с возникшими материками,
где ангелы молчат веками
с немотствующими смычками;
вещам в молчаньи вещем дан
притягивающий зрачками —