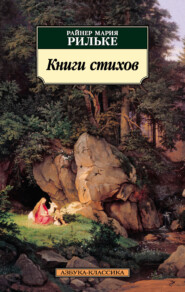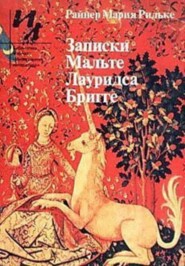По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Победивший дракона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я сижу и, как собирают ягоды, читаю поэта. В зале много людей, но они не ощущаются. Они в книгах. Иногда они шевелятся в страницах: так спящие переворачиваются между двумя сновидениями. Ах, как хорошо находиться среди читающих людей. Почему они не всегда такие. Можно подойти к кому-нибудь и легко его коснуться. Он ничего не почувствует. И если, вставая, слегка толкнешь соседа и извинишься, то он кивнет в ту сторону, откуда услышал твой голос, его лицо повернется к тебе и тебя не увидит, и его волосы – как волосы спящего. Как это приятно. И я сижу, и со мной поэт. Что за судьба! В зале, наверное, триста человек, и все читают; но не может быть, чтобы у каждого из них по отдельности был свой поэт. (Бог знает, что они читают!) Трехсот поэтов не наберется. Но только взгляни, что за судьба, я, может быть, самый бедный из этих читающих, иностранец, и у меня есть поэт. Несмотря на то, что я беден. Несмотря на то, что на моем костюме, который ношу ежедневно, появились на известных местах потертости, несмотря на то, что по поводу моей обуви можно сделать то или иное замечание. Хотя мой воротник чист, мое белье тоже, и я, какой есть, мог бы зайти в любую кондитерскую, если угодно, даже на Больших Бульварах[21 - Большие Бульвары – дуга бульваров в северной части исторического центра Парижа.], и мог бы свою руку уверенно сунуть в тарелку с пирожными и что-то взять. Ничего бросающегося в глаза в этом не найдут и меня не побранят и не выставят вон, потому что эта рука все же из хороших кругов, и по руке видно, что ее ежедневно пять-шесть раз моют. Да, ничего нет под ногтями, указательный палец не испачкан чернилами, и особенно безупречны локти. До локтей бедные люди руки не моют, это известный факт. Таким образом, можно по чистоте локтей делать определенные выводы. Их и делают. В торговых домах делают. Но имеется пара личностей на Boulevard Saint-Michel[22 - Бульвар Сен-Мишель.], например, и на rue Racine[23 - Улица Расина.] – их не проведешь. Им наплевать на локти. Они посмотрят на меня и все поймут. Они знают, что я, собственно, принадлежу к ним, что я только чуточку играю комедию. Все-таки Масленица, карнавал. И они мне подыграют, не захотят испортить шутку; они лишь чуточку ухмыляются и перемигиваются. Ни один человек этого не заметит. Вообще-то они обходятся со мной как с господином. Нужно лишь, чтобы кто-нибудь оказался рядом, тогда они все сделают даже верноподданнически. Сделают, как если бы я в меховой шубе, а за мной следует моя карета. Иногда даю им два су и дрожу: не отклонят ли они их; но они берут. И все было бы в порядке, если бы они снова украдкой не ухмылялись и не перемигивались. Кто эти люди? Чего они от меня хотят? Следят ли за мной? Как они меня узнают? Верно, моя борода выглядит несколько запущенной и совсем, совсем мало, так, слегка, напоминает их хворые, старые, выцветшие бороды, всегда производящие на меня тяжелое впечатление. Но разве я не имею права запустить мою бороду? Многие занятые люди поступают так же, и никому не приходит в голову сразу причислять их к отбросам. Потому как мне ясно, что отбросы – это же не только нищие; нет, это, собственно, даже никакие не нищие, нужно различать. Отбросы – очистки, людская шелуха, судьба выплюнула их. Изжеванные и обслюнявленные судьбой, они прилипают к стене, к фонарю, к афишной тумбе или медленно стекают вниз по переулку, оставляя темный грязный след позади себя. Чего во всем необъятном мире хотела от меня эта старуха с каким-то ящиком от ночного столика, где каталось несколько пуговиц и иголок, из какой дыры она выползла? Почему все время шла рядом и наблюдала за мной? Как если бы пыталась узнать меня своими гноящимися глазами, выглядевшими так, как если бы какой-нибудь больной плюнул зеленой слизью ей в окровавленные веки. И откуда взялась та седая маленькая женщина, чтобы стоять четверть часа перед витриной возле меня, показывая мне старый длинный карандаш, который бесконечно медленно выдвигался из ее слабых скрюченных пальцев. Я сделал вид, что рассматриваю выложенные предметы и ничего не замечаю. Но она знала, что я видел ее, знала, что я стоял и думал, что же она, собственно, здесь делает. Конечно, я понимал, что дело не в карандаше: я чувствовал, что это знак, знак для посвященных, знак, понятный отверженным; я догадывался: она намекала мне, что я должен куда-то пойти или что-то сделать. И самое странное: я никак не мог отделаться от чувства, что действительно существует известная договоренность, и с ней-то, с этой договоренностью, и связан этот знак, а эта сцена, собственно говоря, – то, что я и должен был бы ожидать.
Это произошло две недели тому назад, но теперь почти не проходит и дня без такой встречи. Это происходит не только в сумерки, но и днем на самых оживленных улицах: неожиданно появляется маленький человек или старая женщина, кивает, что-то мне показывает и снова исчезает, как если бы теперь все необходимое сделано. Возможно, что им в какой-то день взбредет в голову прийти ко мне в комнату, они, конечно, знают, где я живу, и они уж, конечно, устроят это так, что консьерж их не остановит. Но здесь, мои милые, здесь я в безопасности. Нужно иметь особую карточку, чтобы вступить в этот зал. В этой карточке мое преимущество перед вами. Я несколько робко, как можно подумать, иду по улицам, но в конце концов подхожу к стеклянной двери, открываю ее, как у себя дома, у следующей двери показываю мою карточку (точно так, как вы мне показываете свои вещи, только с той разницей, что меня понимают и знают, что я имею в виду) – и оказываюсь среди этих книг, я отнят от вас, как если бы я умер, и сижу и читаю поэта.
Знаете ли вы, что это такое – поэт? Верлен… Ничего? Никаких воспоминаний? Нет. Вы не отличали его от других, кого вы знали? Различий вы никаких не делаете, знаю. Но это другой поэт[24 - Имеется в виду Франсис Жамм (1868–1938) – французский поэт-символист, автор сборников «От благовеста утреннего до благовеста вечернего», «Прогалины в небе» и др. Стихи Жамма на русский переводили И. Анненский, В. Брюсов, И. Эренбург, Б. Лившиц, С. Шервинский; О. Мандельштам упоминает его в стихотворении «Аббат» (1915): «Как жаворонок, Жамм поет».], тот, кого я читаю, живет не в Париже, он совсем другой. У него тихий дом в горах. Он звучит как колокол в чистом воздухе. Счастливый поэт, рассказывающий о своем окне и о стеклянных дверцах своего книжного шкафа, где задумчиво отражается милая, одинокая даль. Это как раз тот поэт, каким я хотел бы стать; потому что он знает так много о девушках, и я тоже о них много бы знал. Он знает о девушках, живших сто лет тому назад; и не имеет никакого значения, что они умерли, потому что он знает все. И это главное. Он произносит их имена, эти тихие, изящно написанные имена со старомодными виньетками в длинных буквах и родовитые имена их старших подруг, имена, где уже, как эхо, звенит судьба, как эхо, разочарование и смерть. Может быть, в ящике его письменного стола из красного дерева лежат их выцветшие письма и разрозненные листки их дневников, где указаны дни рождения, рассказывается о летних загородных прогулках, о самих днях рождения. Или, может быть, в глубине его спальни, в пузатом комоде есть выдвижной ящик, где хранятся их весенние платья; белые платья, обновы на Пасху, платья из тюля в крапинку, предназначенные, собственно говоря, для лета, но его никак не могли дождаться. О, что за счастливая судьба – сидеть в тихой комнате наследного дома среди спокойных, устойчивых вещей и слушать в легком светло-зеленом саду первых синиц, когда они пробуют петь, и деревенские часы – вдалеке. Сидеть и смотреть на теплые полосы послеполуденного солнца и многое знать о давным-давно миновавших девушках – и быть поэтом. И думать, что я тоже стал бы таким поэтом, будь у меня где-нибудь жилье, где-нибудь на свете, в одном из многих заколоченных деревенских домов, о которых никто не печалится. Мне хватило бы одной-единственной комнаты (светлой комнаты во флигеле). Там бы я жил с моими старыми вещами, семейными портретами, книгами. И у меня было бы все, кресло и цветы, и собаки, и прочная палка для каменистых дорог. И ничего больше. Лишь одна книга, переплетенная в желтоватую, цвета слоновой кости кожу, со старым цветистым тиснением на форзаце: в ней бы я писал. Я писал бы много, потому что у меня было бы много мыслей и воспоминаний о многом и о многих.
Но получилось иначе. Бог знает почему. Моя старая мебель гниет в сарае, куда мне позволили ее поставить, а у меня самого, да, мой Бог, у меня нет крыши над головой, и дождь хлещет мне в глаза.
* * *
Иногда я прохожу мимо маленьких лавок на rue de Seine[25 - Улица Сены (фр.).] – приблизительно. Торговцы старыми вещами, или мелкие книжные антиквары, или продавцы гравюр с переполненными витринами. К ним никто никогда не заходит. По-видимому, дела у них не идут. Если же заглянуть внутрь, то они сидят и читают, беззаботно; они не заботятся о завтрашнем дне, не беспокоятся о выручке, у них есть собака, и она, ухоженная, сидит перед ними, или кошка, предельно утончая тишину, тем временем тянется вдоль книжных рядов, гладя их боком, как если бы она стирала названия с корешков.
Ах, если бы этого было достаточно: однажды я пожелал бы себе купить такую полную оконную витрину и с собакой засесть за ней на двадцать лет.
* * *
Хорошо вслух сказать: «Еще ничего не произошло». И еще раз: «Еще ничего не произошло». Разве это поможет?
То, что моя печка снова надымила и мне пришлось выйти, действительно еще никакое не несчастье. И то, что я чувствую себя ослабевшим и простуженным, ничего не означает. А что я целый день бегал по переулкам, тоже моя собственная вина. С таким же успехом я мог бы сидеть в Лувре. Или нет, это исключено. Там известные люди, они приходят погреться. Они сидят на бархатных скамейках, а их ноги, прижимаясь коленками, как огромные порожние сапоги, стоят на решетках отопления. Это крайне скромные люди, и они благодарны, если служители в темных униформах со многими орденами их терпят. Но когда вхожу я, они ухмыляются. Ухмыляются и слегка кивают. И потом, когда и я хожу перед картинами туда-сюда, они не спускают с меня глаз, и я всегда у них в глазах, всегда в этих взболтанных, слившихся глазах. И хорошо, что я не пошел в Лувр. Я все время бродил, безостановочно. Одному небу известно, по скольким городам, кварталам, кладбищам, мостам и переходам. Где-то я видел человека, толкавшего перед собой тележку с овощами. Он выкрикивал: Chou-fleur, chou-fleur[26 - Цветная капуста (фр.).], и это fleur выдыхалось со своеобразно потускнелым ей. Рядом с ним шла угловатая уродливая женщина и время от времени толкала его локтем в бок. И когда она его толкала, он выкрикивал. Иногда он и сам выкрикивал, но тогда его выкрик оказывался ненужным, и ему приходилось перевыкрикивать, потому что они находились как раз перед домом, где покупали. Сказал ли я уже, что он был слеп? Нет? Так вот, он был слеп. Он был слеп и выкрикивал. Я исказил бы картину, если сказал бы только это, и утаил бы тележку, которую он толкал, и притворился бы, что не заметил, как он выкрикивал «цветная капуста». Но так ли это существенно? А если это существенно, то не потому ли, что это все значило для меня? Я увидел старого человека, он был слеп и выкрикивал. Это я увидел. Увидел.
Разве поверят, что бывают такие дома? Нет, скажут, что я искажаю. На этот раз все – правда, убавить нечего, естественно, и прибавить тоже нечего. Откуда я это взял? Известно, что я беден. Это известно. Дома? Но если быть точным, эти дома были, а теперь их тут уже нет. Дома, но их сломали сверху донизу. Те, что остались, – это другие дома, они когда-то стояли рядом с теми, высокие, соседние дома. По-видимому, они оказались в опасности и могли обрушиться из-за того, что поблизости все снесли; поэтому подпорки из длинных смоленых мачтовых стволов наклонно вколотили одним концом в площадку с развальным мусором, а другим – в выставленную, как напоказ, голую стену. Я не знаю, говорил ли я уже, что имею в виду именно эту стену. Но это, так сказать, не первая, наружная, стена существующего дома (как можно все-таки подумать), а последняя, оставшаяся стена прежнего дома. Виднелась ее внутренняя сторона. Виднелись стены комнат на всех этажах, и на них еще держались обои, тут и там виднелись места стыков стен с полами или потолками. При каждой квартирной перегородке, вдоль всей стены, сверху донизу, еще оставалось грязно-белое пространство, и по нему, несказанно противная, червячно-пухлая, как бы заглатывающими движениями ползла открывшаяся, в ржавых пятнах, борозда от уже снятой сточной трубы.
От путей проводки осветительного газа остались серые пыльные следы по ранту потолков, и они изгибались тут и там, совершенно неожиданно, закруглялись и, добираясь, вбегали в цветную стену, в сквозную дыру, выломанную черно и бесцеремонно. Но самое незабываемое – сами стены. Вязкая жизнь этих комнат не позволила себя раздавить. Она была еще здесь, она держалась на гвоздях, еще кое-где торчавших, она устояла на остатках полов шириной в ладонь, она заползла под стыки углов, где еще оставалась чуточка внутреннего пространства. Это виделось по цвету краски, что медленно, год за годом превращалась: голубая в мутноватую зелень, зелень в серость, а желтизна в старую обшарпанную белизну с подгнилинами. Но белизна виднелась и на сравнительно свежих местах, где некогда висели зеркала, картины, и за шкафами; но ее контуры менялись, повторно вытягивались, и она покрылась паутиной и пылью на этих прятавшихся местах и теперь уже гольем выставилась напоказ. Она виднелась в каждой открывшейся от хлама полоске, в жирных пузырях по нижнему краю обоев, болталась в оборванных лохмотьях и выпотевала из мерзких пятен, образовавшихся уже давно. И из этих некогда голубых, зеленых и желтых стен, ныне очерченных лишь пазами от разрушенных перегородок, проступал воздух той жизни – стойкий, инертный, засохший воздух, не разгоняемый никаким ветром. В нем застоялись обеды и хвори, и то, чем они надышали, и долголетний чад, и пот, выступавший под мышками и отяжелявший одежду, и преснота из ртов, и сивушная вонь преющих ног. В нем застоялась едкость мочи и коптящего горения, и серого картофельного пара, и тяжелого липкого смрада испорченного сала. Присутствовал сладковатый давний запах неухоженных сосунков и запах страха детей, кто уже ходит в школу, и удушливый запах от постелей половозрелых мальчиков. И много чего еще к этому добавилось: что поднималось снизу, с испарениями из бездны переулка, и другое, что просачивалось сверху с дождем, всегда нечистым над городами. И иное, что заносили хилые, ручные, одомашненные ветры, те, что, бывает, обживаются всегда на одной и той же улице, и много чего еще тут было, неведомо какого происхождения. Я, кажется, сказал, что все стены были уже снесены – все, кроме последней? Про эту-то стену я и говорю все время. Можно подумать, что я долго перед ней стоял; но могу поклясться, что я пустился бежать, едва узнал эту стену. В том-то и весь ужас, что я ее узнал. Я узнаю здесь все, потому-то все входит в меня беспрепятственно: во мне оно – дома.
Я несколько утомился от всего этого, можно сказать, обессилел, и поэтому для меня было бы уж слишком, если бы еще и он меня ждал. Он ждал меня в маленькой crеmerie[27 - Кафе-молочная (фр.).], где я собирался съесть яичницу; я был голоден, за весь день не удосужился поесть. Но и теперь ничего не мог бы проглотить; еще прежде, чем приготовили глазунью, меня снова выгнало на улицу, где люди потоком шли мне навстречу. Потому что была Масленица, и был вечер, и у людей было время, и они толпливо спешили по разным местам и терлись друг о друга. И лица у всех полны света, исходившего из балаганов, и смех выдавливался из их ртов, как гной из открытого нарыва. Они смеялись все громче, и чем нетерпеливей я пытался протиснуться вперед, тем плотней они теснились друг к другу. Платок какой-то горничной непонятно как прицепился ко мне, я потащил ее за собой, и люди остановили меня и смеялись, и я чувствовал, что мне тоже надо смеяться, но не мог. Кто-то бросил горсть конфетти мне в глаза, и это обожгло как плетью. На углах люди заклинивались, прибывающие вталкивались в передних, и не получалось никакого продвижения, а лишь медленное, мягкое колыхание вверх и вниз, как если бы они, стоя, спаривались. Но хотя они стояли, а я бежал как сумасшедший по краю проезжей части улицы, где в тесноте отыскивались трещины, в действительности оказывалось так, как если бы они двигались, а я не шевелился. Потому что ничего не менялось; когда я посмотрел вверх, то опять увидел те же самые дома на одной стороне, а на другой ярмарочные балаганы. Может быть даже, все прочно обосновалось на месте, и лишь у меня и у них головокружение, и оно, казалось, все вращает. У меня не было времени подумать об этом, я отяжелел от пота, и во мне кружила отупляющая боль, как если бы в моей крови циркулировало нечто слишком большое – и растягивало жилы при своем перемещении. И при этом я чувствовал, что воздух давно кончился и что я вдыхаю лишь то, что выдыхают мои же легкие.
Но теперь это миновало; я выстоял[28 - Нем. «… ich habe es ?berstanden»; ср. с фразой Рильке из «Реквиема графу Вольфу Калькрейту», которую, как писал Готфрид Бенн («Выражение мира», 1949), «мое поколение никогда не забудет»: «Wer spricht von Siegen – ?berstehn ist alles!» (Что нам победа? Выстоять хотя бы!).]. Сижу у себя в комнате при лампе; немного холодно, потому что не отваживаюсь затопить печь; что, если она задымит и мне снова придется выбегать в коридор? Сижу и думаю: не будь я беден, снял бы другую комнату – комнату, где мебель не так подержана, не так переполнена прежними постояльцами, как эта. Сначала я действительно, преодолевая себя, откидывал голову в этом кресле; ведь там, в зеленой обивке, имеется всегдашняя засаленно-серая вмятина, и к ней, кажется, подходят все головы. Долгое время я из предосторожности подкладывал носовой платок себе под волосы, но теперь слишком устал для этого; и пришел к выводу, что обойдусь и так и что небольшое углубление точно сделано по моему затылку, как по мерке. Но не будь я беден, прежде всего купил бы себе хорошую печку и топил бы чистыми, крепкими дровами, привезенными с гор, а не этими безутешными t?tes-de-moineau[29 - Букв.: «воробьиные головы» (фр.) – измельченный каменный уголь.], когда от чада дыхание становится таким боязливым, а мысли путаются. И тогда непременно был бы кто-то, кто без грубого шума делал бы уборку и озаботился бы топкой, какая мне нужна; потому что часто, когда я четверть часа вынужденно стою перед печкой на коленях и тормошу огонь, кожа на лбу напрягается от близкого горения, и вместе с жаром, бьющим в открытые глаза, в трубу вылетают все силы, накопленные для целого дня, и когда потом оказываюсь среди людей, они, естественно, этим пользуются. Иногда, если большая давка, я брал бы пролетку, чтобы проехать мимо толпы, я бы ежедневно ел у Дюваля…[30 - Имя владельца сети недорогих ресторанчиков, статусом выше, чем crеmerie.] и никогда не тащился бы в crеmeries… А бывал ли он вообще когда-нибудь у Дюваля? Нет. Там бы ему ждать меня не позволили. Умирающих туда не пускают. Умирающих? Я сижу сейчас в своей каморке; могу попытаться спокойно обдумать то, с чем столкнулся, что увидел. Это хорошо – ничего не оставлять в неопределенности. Итак, я вошел и сначала лишь увидел, что стол, где я обычно сидел, уже кто-то занял. Я приветливо кивнул в сторону небольшого буфета, прося подойти, и сел рядом. Но тут я его почувствовал, хотя он не шевелился. Почувствовал именно его неподвижность и сразу ее воспринял. Связь между нами установилась, и я знал, что он оцепенел от ужаса. Знал, что ужас его парализовал, ужас перед чем-то, что в нем произошло. Может быть, в нем лопнул какой-то сосуд; может быть, яд, которого он долго боялся, именно сейчас вступил в желудочек сердца; может быть, у него в мозгу взошла огромная опухоль, как солнце, – и мир для него сразу преобразился. С неописуемым напряжением я принудил себя посмотреть на него, так как еще надеялся, что все это – плод моего воображения. Но произошло так, что я вскочил и бросился прочь; потому что не ошибся. Он сидел там в толстом черном зимнем пальто, и его серое, напряженное лицо глубоко накренилось в шерстяной шарф. Рот был закрыт, как если бы сомкнулся с большой силой, но нельзя твердо сказать, видели или не видели его глаза: запотелые, дымчато-серые стекла очков лежали на переносице и слегка дрожали. Крылья носа расправлены, длинные волосы над висками, уже достаточно поубавленные, увяли, как при большой жаре. Уши длинные, желтые, с большими заушными тенями. Он знал, что теперь отдалился от всего, не только от людей. Еще мгновение, и все потеряет смысл: и этот стол, и чашка, и стул, в который он вцепился, – все дневное и ближайшее станет непонятным, чужим и тяжелым. Так он сидел там и ждал вплоть до того, как это произошло. И уже не сопротивлялся.
А я еще сопротивляюсь. Сопротивляюсь, хотя знаю, что сердце у меня уже накренилось и я уже не могу жить, даже если мои мучители теперь от меня отстанут. Я говорю себе: ничего не произошло, но ведь я смог понять того человека лишь потому, что во мне самом что-то опережает меня, что-то начинает меня от всего отдалять и отторгать. Как страшило меня всякий раз, когда слышал, как про умирающего говорили: он уже никого не узнает. Тогда я представлял себе одинокое лицо того, кто приподнимается из подушек и ищет хоть что-то знакомое, ищет что-то однажды уже виденное, но ничего этого нет. Не будь мой страх столь велик, я бы утешился тем, что не так уж и невозможно – все видеть по-иному и все-таки жить. Но боюсь, боюсь этого невыразимо-безымянного изменения, иного. Я ведь еще совсем не вжился в этот мир, но мне кажется, что он хороший. Что мне делать в ином? Я охотно остался бы среди значений и смыслов, ставших мне дорогими, и если уж нечто существующее должно стать иным, то я хотел бы все-таки жить, по крайней мере среди собак: у них родственный с нами мир и те же самые вещи.
Еще какое-то время я могу обо всем этом писать и говорить. Но наступит день, когда моя рука будет далеко от меня и когда сообщу ей, что написать, она напишет слова, но не те, что я не имел в виду. Настанет время иных истолкований, и не останется слова на слове[31 - Отсылка к Евангелию от Марка, 13, 2: «…так что не останется здесь камня на камне».], и всякий смысл растворится, как облако, и сойдет, как вода. При всем моем страхе я все-таки – как некто, кто стоит перед чем-то огромным, и я вспоминаю, что раньше со мной происходило нечто подобное, прежде чем я начинал писать. Но на этот раз написан буду я сам. Я – впечатление, которое претворится. О, недостает совсем малого, и я бы мог все это понять и одобрить. Лишь один шаг, и моя безысходная горестность стала бы блаженством, но не могу сделать этот шаг, я упал и не могу больше подняться, потому что сломлен. Я ведь все еще верил, что может прийти некая помощь. Здесь лежит передо мной, в моем собственном писанье, то, что я читал как молитву, вечер за вечером. Я это взял из книг, где это нашлось, и это стало мне еще ближе и возникло под моей рукой, как мое собственное. И сейчас я хочу это написать еще раз, здесь, стоя на коленях перед моим столом, хочу это написать; потому что тогда это пребудет со мной дольше, чем когда это читаю, и каждое слово продлится, и у него хватит времени, чтобы затихнуть.
> Mеcontent de tout et mеcontent de moi, je voudrais bien me racheter et m’enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. ?mes de ceux que j’ai aimеs, ?mes de ceux que j’ai chantеs, fortifiez-moi, soutenez-moi, еloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde; et vous. Seigneur mon Dieu! accordez-moi la gr?ce de produire quelques beaux vers qui me prouvent ? moi-m?me que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas infеrieur ? ceux que je mеprise <[32 - Отрывок из стихотворения в прозе Ш. Бодлера «В час ?тра»: «Недовольный всеми, недовольный собой, я хочу искупить свою вину и возгордиться в ночной тиши и одиночестве. Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспел, укрепите меня, выручите меня, отведите от меня ложь и испарения развращающего мира; а Ты, Господь Бог мой, ниспошли милость и дозволь сочинить несколько прекрасных стихов, которые мне самому докажут, что я не последний из людей, что я не ниже тех, кого презираю» (пер. с фр. Валерия Семенко).].
* * *
> Чада беспутных и презираемых людей, кои были самыми ничтожными на земле. Ныне же я сделался их игрою на струнах и принужден быть их пересудой.
…они проложили через меня свой путь…
…было им так легко – повредить мне, что никакой помощи им не понадобилось.
…ныне же изливается моя душа через меня, и меня сцапало горестное время.
Ночью пробуравливает мои кости повсюду; и те, кто меня гонит, не ложатся спать.
Выбиваясь из сил, я становлюсь иным и одет иначе; а меня опоясывают этим, как прорехою моего платья…
Мои внутренности кипят и не перестают; меня одолело горестное время…
Моя арфа стала жалобой, и моя дудка – плачем <[33 - Из пояснений Рильке: «Книга Иова: отдельные отрывки стихов из главы 30; но по старым изданиям лютеровской Библии; в более поздних изданиях некоторые выражения ослаблены: например: “облачен прорехой моего платья…”». У Лютера «bekleidet mit dem Loch meines Rocks», a «отдельные отрывки» взяты из Книги Иова, 30: 8–31.].
* * *
Врач меня не понял. Ничего. Это ведь и трудно рассказать. Хотят попробовать лечить электричеством. Хорошо. Я получил листок бумаги: я должен быть около часа в Salp?tri?re[34 - Сальпетриер – клиника в Париже (рядом с Ботаническим садом), впервые применившая электротерапию для лечения психических расстройств. З. Фрейд учился там с 1885 по 1886 г. вместе с нейрологом (неврологом) Ж.-М. Шарко, изобретателем «душа Шарко».]. Я там был. Мне пришлось долго идти мимо всяких бараков, через какие-то дворы, где тут и там люди в белых чепцах, как арестанты, стояли под пустыми деревьями. Наконец я вошел в длинное, темное, вроде коридора, помещение: по одной стороне – четыре окна с мутными зеленоватыми стеклами, разделенные широкими черными простенками. По всей длине тянулась деревянная скамейка; и на ней, дожидаясь вызова, сидели они, те, для кого я был своим. Да, тут только они и были. Когда привык к сумеркам помещения, заметил, что среди тех, кто сидел плечом к плечу в бесконечном ряду, могли оказаться и некоторые другие люди, маленькие люди – ремесленники, служанки, ломовые извозчики. В торце коридора, переговариваясь между собой, на отдельных стульях раздались вширь две толстые женщины, по всей видимости, консьержки. Посмотрел на часы: без пяти час. Итак, через пять или, скажем, через десять минут моя очередь, то есть не так уж и страшно. Воздух скверный, тяжелый, полный запахов одежды и дыхания. Возле известного места из дверной щели бил в нос резкий, усиленный холод эфира. Я начал ходить взад-вперед. Мне пришло на ум, что меня сюда направили вместе с этими людьми, в этот всегда переполненный общий приемный час. Это, так сказать, первое публичное подтверждение, что я принадлежу к отбросам; увидел ли это врач, глядя на меня? Но ведь его я посетил в мало-мальски хорошем костюме, послал ему свою визитную карточку. Несмотря на это, он каким-то образом обо всем догадался, может быть, я сам себя выдал. Теперь, когда это стало фактом, я тоже не находил в этом ничего дурного; люди сидели спокойно и не обращали на меня внимания. Кого-то мучила боль, и он, чтобы ее облегчить, слегка покачивал ногой. Некоторые из мужчин уткнули головы в сплющенные ладони, другие глубоко, как в нору, зарылись в них тяжелыми, измятыми лицами. Толстый человек с красной опухшей шеей сидел, склонившись и уставившись в пол, и время от времени пришлепывал плевки к пятну, которое ему казалось для этого подходящим. В углу всхлипывал ребенок; свои длинные худые ноги он подтянул к себе на лавку и теперь обхватил их руками и прижал к себе, как если бы с ними прощался. У маленькой бледной женщины в креповой шляпе, украшенной круглыми черными цветами и косо сидевшей на волосах, застыла гримаса усмешки на скудных серых губах, но ее израненные веки постоянно слезились. Недалеко от нее посадили девушку с круглым гладким лицом и выпученными глазами – без всякого выражения; рот у нее открыт, так что виднелись белые, в слюне, десны и старые, зачахшие зубы. И много бинтов. Бинтов, которые покрывали всю голову, слой за слоем, пока не оставался единственный глаз, и он никому больше не принадлежал. Бинтов скрывающих и бинтов показывающих, что под ними. Бинтов развязанных, и где теперь, как в грязной кровати, лежала рука и была уже никакой не рукой; или перебинтованная нога, и она выступала из ряда, огромная, как целый человек. Я ходил взад-вперед и старался успокоиться. Занялся противоположной стеной. Заметил, что там несколько одностворчатых дверей и что стена не достигает потолка, а значит, коридор не полностью отделен от помещений, примыкавших к нему. Посмотрел на часы; я ходил взад-вперед уже час. Какое-то время спустя, пришли врачи. Сначала несколько молодых людей проследовали мимо с равнодушными лицами, наконец появился тот, у кого я был, – в светлых перчатках, chapeau ? huit reflets[35 - Модная в свое время шляпа-восьмиклинка (фр. букв. «шляпа с восемью отражениями»).], в безукоризненном летнем пальто. Увидев меня, он слегка приподнял шляпу и рассеянно улыбнулся. Появилась надежда, что меня скоро вызовут, но прошел еще час. Не могу вспомнить, как его провел. Он пропал. Ко мне приблизился пожилой человек в запятнанном фартуке, вроде санитара, и коснулся моего плеча. Я вошел в одну из боковых комнат. Врач и молодые люди сидели вокруг стола и смотрели на меня. Мне придвинули стул. Так. А теперь я должен рассказать, что, собственно, со мной. По возможности кратко, s’il vous plait[36 - Пожалуйста (фр.).], так как у господ нет времени. Мне стало особенно неприятно. Молодые люди сидели и смотрели на меня с тем превосходящим квалифицированным любопытством, которому они уже научились. Врач, мне уже знакомый, поглаживал свою черную острую бородку и рассеянно улыбался. Я думал, что расплачусь, но услышал себя, говорящего по-французски: «Я уже имел честь предоставить вам, сударь, всю информацию, какую могу дать. Если вы считаете нужным посвятить во все этих господ, то после нашей беседы вы сумеете изложить это в немногих словах, тогда как мне сделать это весьма трудно». Врач поднялся с вежливой усмешкой, подошел с ассистентами к окну и сказал несколько слов, сопровождая их колебательным, как весы, движением рук. Через три минуты один из молодых людей, близорукий и подвижный, снова вернулся к столу и попытался строго посмотреть на меня: «Вы хорошо спите, сударь?» – «Нет, плохо». После чего он опять вернулся к группе. Там поговорили еще некоторое время, после чего врач обратился ко мне и сообщил, что меня вызовут. Я напомнил ему, что меня вызвали к часу. Он улыбнулся и сделал своими маленькими белыми руками несколько быстрых скачущих движений, означающих, что он чрезвычайно занят. Итак, я снова вернулся в мой коридор, где воздух стал значительно тяжелее, и начал снова туда-сюда прохаживаться, хотя чувствовал себя смертельно усталым. Наконец от влажного, спертого запаха у меня закружилась голова; я остановился около входной двери и немного приоткрыл ее. Я увидел, что на дворе еще послеполуденное время и кое-какое солнце, и мне стало несказанно хорошо. Но не простоял и минуты, как услышал, что меня зовут. Некая особа, сидевшая в двух шагах за маленьким столом, мне что-то прошипела. Кто мне велел открывать дверь? Я сказал, что не мог вынести этот воздух. Хорошо, это мое личное дело, но дверь нужно закрыть. Может быть, не возбраняется открыть окно? Нет, это запрещено. Я снова принялся за вперед-назад-хождение, потому что это, в конце концов, некий вид наркоза и никого не обижает. Но женщине за маленьким столом не нравилось теперь и это. Разве у меня нет никакого места? Да, у меня его нет. Но болтаться не разрешается, я должен поискать себе место. Уж еще одно-то найдется. Женщина права. Действительно, сейчас же нашлось место рядом с девушкой с выпученными глазами. Я сел с чувством, что неминуемо должно случиться нечто страшное. Итак, слева оказалась девушка с гниющими деснами; то, что справа от меня, я узнал лишь через некоторое время. Громадная, неподвижная масса с лицом и огромной, тяжелой, обездвиженной рукой. Сторона лица, видимая мне, пуста, совсем без черт и воспоминаний, и становилось жутковато оттого, что одежда на соседе сидела как на трупе, одетом пред тем, как положить его в гроб. Узкий черный шейный платок подобным же рыхлым безликим образом повязан вокруг воротника, и по пиджаку видно, что он натянут на это безвольное туловище кем-то другим. И рука положена на эту штанину туда, где она лежала и сейчас, и даже волосы причесаны, как причесывают обмывальщицы трупов; и жесткие, как шерсть набитых чучел зверей. Я внимательно все это рассматривал, и мне подумалось, что это и есть то самое место, которое мне предопределено, и поверил, что наконец пришел в тот самый пункт моей жизни, где и останусь. Да, судьба ходит странноватыми путями.
Внезапно совсем близко от меня раздались, быстро следуя один за другим, ужасные, отбивающиеся крики ребенка, а вслед за ними последовал тихий, сдержанный плач. В то время как я силился понять, откуда это доносится, снова продрожал слабый, подавленный вскрик, и я услышал голоса, что-то вопрошающие, голос, приглушенно что-то приказывающий, а затем заурчала какая-то безразличная машина, не печалясь ни о чем. Я сразу вспомнил о той полустене, и мне стало ясно, что все исходит с той стороны дверей и что там что-то делают. Действительно, время от времени появлялся санитар в запятнанном фартуке и кому-нибудь кивал. Я совершенно не думал о том, что он мог иметь в виду и меня. Разве это относилось ко мне? Нет. Появились двое мужчин с каталкой; они подняли на нее огромную и неподвижную массу, и теперь я увидел, что это – старый парализованный мужчина и что у него имелась еще другая, поменьше, изношенная жизнью сторона туловища с одним открытым, тусклым и печальным глазом. Его ввезли внутрь, и рядом со мной образовалось много места. И я сидел и думал: что же они собираются делать с этой глуповатой девушкой и не закричит ли она тоже? Машины позади меня, за перегородкой, урчали так приятно, по-фабричному, в них не ощущалось ничего настораживающего.
Внезапно все стихло, и в тишине раздался покровительственный, самодовольный голос, который я посчитал знакомым:
«Riez!»[37 - Смейтесь! (фр.)] Пауза. «Riez. Mais riez, riez»[38 - Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (фр.).]. Я уж смеялся. И не мог объяснить, почему человек там, по ту сторону, не хотел смеяться. Машина снова затарахтела, но сразу умолкла. Последовал обмен словами, после чего послышался тот же энергичный голос – и приказал: «Dites-nous le mot: avant»[39 - Скажите нам слово «вперед» (фр.).]. По буквам: «a-v-a-n-t»… Тишина. «On n’entend rien. Encore une fois…»[40 - Ничего не слышно. Еще раз (фр.).]
И когда по ту сторону двери так тепло и губчато лепетали, тогда впервые после многих-многих лет оно снова напомнило о себе. То самое, что вогнало в меня первый глубокий ужас, когда я ребенком лежал в горячке: огромное. Да, так я говорил каждый раз, когда все они стояли вокруг моей кровати, и щупали у меня пульс, и спрашивали, что меня испугало: огромное. И когда они привели доктора, и он уже стоял и говорил со мной, я его просил: пусть он сделает так, чтобы огромное ушло, – и все другое станет ничем, мелочью. Но доктор оказался, как все другие. Он не мог это убрать, хотя тогда я был все-таки маленький, и мне, казалось бы, легко помочь. И теперь оно снова возникло, хотя горячки у меня не было. Позднее оно просто отсутствовало, оно не возвращалось даже в горячечные ночи, но теперь оно возникло. Теперь оно вырастало из меня, как опухоль, как вторая голова, и являлось частью меня самого, хотя оно все-таки не могло принадлежать мне, потому что оно такое огромное. Оно возникло, как большой мертвый зверь, тот, что однажды, когда он еще жил, стал кистью моей руки или всей рукой. И моя кровь проходила сквозь меня и сквозь это огромное, как сквозь одно и то же тело. И моему сердцу приходилось очень напрягаться, чтобы гнать кровь в это огромное: там недоставало крови. И кровь неохотно поступала в это огромное и возвращалась больной и испорченной. Но это огромное разбухало и росло у меня перед лицом, как теплая голубоватая выпучина, и росло у рта, и мой последний глаз уже закрывала тень от его края.
Не могу вспомнить, как выбрался через бесконечные дворы. Уже свечерело, и я заблудился в чужой местности и шел вверх бульварами с бесконечными каменными стенами по обе стороны, и когда у них не оказалось конца, повернул в обратную сторону, назад, к какой-то площади. Оттуда шел по какой-то улице, и попадались другие улицы, куда меня до этого никогда не заносило, и снова улицы и улицы. Иногда мимо проносились яркие трамваи с жестким стучащим звуком. Но на их табличках читались совершенно незнакомые названия. Я не знал, в каком городе нахожусь, и есть ли у меня здесь жилье, и что я должен сделать, чтобы больше никуда не идти.
* * *
И теперь еще эта болезнь, она всегда так своеобразно меня задевала. Я уверен, что ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение других болезней. У этой болезни нет определенных особенностей, она принимает особенности тех, кого захватывает. С сомнамбулической уверенностью вытаскивает она из каждого его собственную самую глубокую опасность, ту самую, которая, казалось, уже миновала, и снова ставит ее перед ним, совсем близко, в следующий час. Мужчины, те, кто однажды в школьные годы уже предавались этому беспомощному пороку, где обманутой наперсницей служат жалкие жесткие мальчишеские руки, снова предаются ему, или потерянная блудная привычка снова возвращается, как некий неуверенный поворот головы, свойственный им много лет тому назад. И вслед за этим поднимается вся путаница бессвязных воспоминаний, что как мокрые морские водоросли облепляют утонувшую вещь. Жизни, о чьем существовании никогда бы и не узнал, всплывают и смешиваются с тем, что действительно происходило, и вытесняют прошлое, хотя, как считал, его-то уж ты точно знаешь, – и все потому, что в том, что поднимается, заключена отдохнувшая, новая сила, а то, что всегда оказывалось сверху, уже устало от слишком частых разбередений.
Я лежу в моей кровати, на пятом этаже, и мой день ничем не прерывается, как циферблат без стрелок. Как блудная вещь, что давно потерялась, вдруг в какое-то утро снова лежит на своем месте, ухоженная и хорошая, новая, почти как во время утраты, совсем такая, как если бы за ней кто-то присматривал, – так лежит там и там на одеяле заблудшее и потерянное из моего детства и выглядит как новое. Все, казалось бы, заблудшие и потерянные страхи снова тут как тут.
Страх, что маленькая шерстяная нитка, торчащая из одеяльной каймы, на самом деле жесткая – жесткая и острая, как стальная игла; страх, что эта меленькая пуговица на моей ночной рубашке окажется больше, чем моя голова – большая и тяжелая; страх, что эта хлебная крошка, падающая сейчас с моей кровати, остекленеет и разобьется об пол, и гнетущая тревога, что тем самым, собственно, все разрушится, все, навсегда; страх, что оторванная полоска концовки письма – нечто запретное, чего никто не должен видеть, нечто неописуемо дорогое, для чего в комнате нет достаточно надежного места; страх, что если я засну, то проглочу кусок угля, лежащий возле печки; страх, что в моем мозгу начнет расти какое-нибудь число – и уже не сможет во мне уместиться; страх, что это гранит, то, на чем я лежу, серый гранит; страх, что я начну кричать и что перед моей дверью сбегутся и в конце концов ее выломают; страх, что я мог бы сам себя предать и рассказать обо всем, чего я боюсь, и страх, что я ничего не мог бы рассказать, потому что все невыразимо, – и еще страхи… страхи.
Я молился о моем детстве, и оно снова вернулось, и я чувствую, что оно все такое же тяжелое, как тогда, и что нет никакого смысла становиться старше.
* * *
Вчера горячка ослабла, и сегодняшний день начался, как весна – как весна на картинках. Попытаюсь пойти в Biblioth?que Nationale к моему поэту, я так давно его не читал, и, может быть, потом медленно побреду по садам. Может быть, почувствуется ветер над большим прудом, где такая настоящая вода и куда приходят дети, пускают свои корабли с алыми парусами и смотрят.
Сегодня я ничего подобного не ожидал, я с такой безоглядной отважностью вышел из дома, как если бы для меня это самая естественная и простая вещь. И все же опять стряслось нечто, что меня подхватило, как бумажку, смяло и отбросило прочь, – да, стряслось нечто неслыханное.
Бульвар St-Michel пустовал и далеко просматривался, и легко шлось по его пологому склону. Крылья оконных створок наверху раскрывались со стеклянным звоном, и блеск их, как белая птица, перелетал через улицу. Мимо проехал экипаж на ярко-красных колесах, а ниже по бульвару шел человек в чем-то светло-зеленом. Лошади, поблескивая сбруей, бежали по мостовой, темной и чистой от поливки. Ветер, возбужденный, неопытный, отзывчивый, поднимал все подряд: запахи, крики, шляпы, звон колокольчика.
Я проходил мимо одного из кафе, где по вечерам играют поддельные цыгане в красном. Из открытых окон крался с нечистой совестью переночевавший воздух. Гладко причесанные кельнеры принялись скрести перед дверью. Один стоял, согнувшись, и горсть за горстью бросал желтоватый песок под столы. Другой, проходя мимо, толкнул его и показал вниз по склону. Кельнер поднял раскрасневшееся лицо, какое-то время пристально смотрел, куда показывали, после чего по его безбородым щекам рассыпался, как если бы его кинули, смех. Он кивнул остальным кельнерам, несколько раз быстро повернул смеющееся лицо направо и налево, чтобы привлечь всех и самому ничего не пропустить. Теперь все стояли и смотрели, вглядываясь или доискиваясь, улыбаясь или сердясь, что они еще не обнаружили, над чем смеяться.
Я почувствовал, что мной понемногу овладевает страх. Что-то толкало меня на другую сторону улицы; но я лишь ускорил шаги и невольно оглядел немногих людей впереди себя – и не заметил ничего особенного. Однако увидел, что один мальчишка-посыльный в голубом фартуке и с пустой корзиной на плече стоит на месте и смотрит кому-то вслед. Насмотревшись вдоволь, он, не двигаясь с места, повернулся к домам и, высмотрев на той стороне смеющегося приказчика, изобразил всем известный жест – покрутил пальцем у виска. Затем он сверкнул черными глазами и, удовлетворенный, вразвалку двинулся мне навстречу.
Я ожидал, что, как только пространство передо мной откроется, увижу какую-нибудь необычную и бросающуюся в глаза фигуру, но обнаружилось, что впереди меня никто не идет, кроме крупного худощавого мужчины в темном летнем пальто и в мягкой черной шляпе на коротких блекло-русых волосах. Я убедился, что ни в одежде, ни в поведении этого мужчины нет ничего смешного, и уже переводил взгляд с него вниз по бульвару, как он обо что-то споткнулся. Поскольку я следовал сразу за ним, я стал внимательней, но когда подошел к тому месту, там ничего не оказалось, ровно ничего. Мы оба пошли дальше, он и я, расстояние между нами осталось таким же. При переходе через улицу случилось так, что мужчина, шедший впереди меня, для того чтобы сойти с тротуара, вдруг спрыгнул на неодинаково подогнутых ногах, подобно тому, как дети иногда во время ходьбы подпрыгивают или скачут, когда им весело. На другой стороне улицы он просто одним длинным шагом поднялся наверх, на тротуар. Но как только оказался наверху, он немного подтянул одну ногу, а на другой высоко подпрыгнул и сразу после этого еще и еще. Теперь это внезапное движение можно было снова принять за спотыкание, если уверить себя, что там оказалась некая безделица, косточка, скользкая кожура фрукта, что-нибудь; и странно то, что мужчина сам, казалось, верил в наличие помехи, потому что каждый раз не то сердито, не то укоризненно, как все люди в таких случаях, оглядывался на досаждающее место. Еще раз нечто предупреждающее позвало меня на другую сторону улицы, но я не внял и остался позади этого человека, причем все мое внимание обратил на его ноги. Должен признаться, что почувствовал странное облегчение, когда приблизительно двадцать шагов подскакивания ни разу не повторились, но теперь, когда я поднял глаза, то заметил, что у человека возникла другая неприятность. Поднялся воротник у летнего пальто; и как настойчиво он ни старался то одной рукой, то двумя его опустить, у него ничего не получалось. Так бывает. Меня беспокоило не это. А то, что я с безграничным удивлением заметил, что в занятых руках этого человека наблюдалось одновременно два движения: потаенное, быстрое – когда он незаметно поднимал воротник вверх, – и то, другое, подробное, затяжное, даже как бы читающее по слогам движение, когда он старался воротник опустить. Это наблюдение настолько меня смутило, что прошло две минуты, пока до меня дошло, что в шейных мышцах этого человека, под высоко поднятым воротником, и в нервно жестикулирующих руках – то же самое ужасное двусложное подскакивание, оставившее на время его ноги в покое. С этого момента меня к нему как привязали. Я понял, что это подскакивание блуждает в его теле, что оно пробует то здесь, то там вырваться. Я понял его страх перед людьми и сам начал осторожно проверять, замечают ли что-нибудь прохожие. Холодная игла вонзилась мне в спину, когда его ноги выдали небольшой дергающийся скачок, но никто этого не видел, и мне взбрело на ум тоже слегка спотыкаться в случае, если кто-нибудь окажется наблюдательней. Это, конечно, стало бы способом заставить любопытных думать, что на дороге находится маленькая, незаметная помеха и что мы оба на нее случайно наступили. Но пока я таким способом старался ему помочь, он сам нашел новый отличный выход. Я забыл сказать, что он нес палку; итак, он нес в руке обыкновенную палку из неясного дерева и с закругленной рукояткой. И в своем ищущем страхе он придумал приладить эту палку одной рукой (кто знает, для чего еще понадобится вторая) у себя за спиной, как раз вдоль позвоночника, плотно прижав палку к пояснице, а конец круглой загогулины затолкать за воротник, так, чтобы жестко ее чувствовать как упор для позвонков – шейного и верхнего спинного. Это как бы сходило за манеру держать себя, и она не бросалась в глаза и в крайнем случае казалась немного бесшабашной; однако неожиданный весенний день мог это извинить. Никому не взбрело оглядываться, и теперь все шло как надо. Уже при следующем переходе улицы случились два подскока, два небольших, наполовину подавленных подскока, совершенно несущественных, а один действительно очевидный прыжок выполнен так ловко (поперек дороги как раз лежал поливной шланг), что опасаться не стоило. Да, все пока шло хорошо; время от времени другая рука тоже бралась за палку и жестче ее прижимала, и опасность сейчас же снова преодолевалась. Я ничего не мог сделать для того, чтобы мой страх не разрастался. Я знал, что в то время, как человек идет и с бесконечным напряжением пытается выглядеть безразличным и рассеянным, в его теле пугающее подергивание накапливается; во мне тоже появился этот страх, его страх, чувствующий, что оно, подергивание, нарастает и нарастает, и я видел, как он прижимает к себе палку, когда в нем начинается тряска. Тогда действия рук становились такими неумолимыми и резкими, что я всю надежду возлагал на его волю – и она, конечно же, была велика. Но что в данном случае воля? Все же должен был настать момент, когда бы его силы иссякли, и этот момент приближался. И я, кто шел за ним с сильно бьющимся сердцем, я собирал мои маленькие силы, как гроши, и, глядя на его руки, умолял его, чтобы он взял, если они ему понадобятся.
Я думаю, что он бы взял их; но что я мог поделать, если больше у меня не было.
На Place St-Michel[41 - Площадь Сен-Мишель (фр.).] теснилось много экипажей и спешащих туда и сюда людей. Мы часто оказывались между двумя колясками, и тогда он переводил дыханье и чуть-чуть позволял себе идти, как бы отдыхая, и то, что таилось в нем, чуть-чуть подергивалось и чуть-чуть кивало. Может быть, заключенная болезнь хитрила и таким способом хотела его одолеть. Воля уже надорвалась в двух местах, и эта уступка сохраняла в одержимых болезнью мускулах тихое соблазнительное раздражение и принудительное двухтактное движение. Но палка держалась еще на своем месте, и руки выглядели сердитыми и гневными; так мы вступили на мост, и это началось. Да, это началось. Вдруг появилось что-то неуверенное в походке, вдруг он сделал два резких шага и вдруг застыл. Застыл. Левая рука тихо освободилась от палки и так медленно поднялась вверх, что я видел, как она дрожит в воздухе; он чуть-чуть сдвинул шляпу назад и провел рукой по лбу. Он чуть-чуть повернул голову, и его взгляд поплыл по небу, над домами и водой, не хватаясь, и тогда он уступил. Палка выпала, он раскинул руки, как если бы хотел взлететь, из него вырвалась болезнь, как природная сила, и согнула его вперед, и рванула его назад, и заставила его кивать и наклоняться, и разбросала из него пляшущую силу среди толпы. Потом его обступило много людей, и я его больше не видел.
Идти еще куда-нибудь не было никакого смысла. Я опустошился. Как пустую бумажку, меня потащило вдоль домов, опять вверх по бульвару.
* * *
Пытаюсь Тебе написать, хотя, собственно говоря, это ничего не дает после неизбежного прощанья. Все же пытаюсь, верю, что должен это сделать, потому что видел в Пантеоне[42 - Храм, где похоронены многие знаменитые люди Франции. Имеется в виду панно французского художника Пюви де Шаванна (1823–1898) «Св. Женевьева» (1898), которая является покровительницей Парижа и, по преданию, спасла Париж от гуннов.] святую, одинокую святую женщину, и крышу, и дверной проем, и в нем масляный светильник со скудным кругом света, и за ними спящий город и реку, и даль в лунном свете. Святая бодрствует над спящим городом. Я плакал. Плакал, потому что все это вдруг произошло так неожиданно. Смотрел и плакал; и не знал, как себе помочь[43 - Набросок письма (Примечание Рильке).].
Это произошло две недели тому назад, но теперь почти не проходит и дня без такой встречи. Это происходит не только в сумерки, но и днем на самых оживленных улицах: неожиданно появляется маленький человек или старая женщина, кивает, что-то мне показывает и снова исчезает, как если бы теперь все необходимое сделано. Возможно, что им в какой-то день взбредет в голову прийти ко мне в комнату, они, конечно, знают, где я живу, и они уж, конечно, устроят это так, что консьерж их не остановит. Но здесь, мои милые, здесь я в безопасности. Нужно иметь особую карточку, чтобы вступить в этот зал. В этой карточке мое преимущество перед вами. Я несколько робко, как можно подумать, иду по улицам, но в конце концов подхожу к стеклянной двери, открываю ее, как у себя дома, у следующей двери показываю мою карточку (точно так, как вы мне показываете свои вещи, только с той разницей, что меня понимают и знают, что я имею в виду) – и оказываюсь среди этих книг, я отнят от вас, как если бы я умер, и сижу и читаю поэта.
Знаете ли вы, что это такое – поэт? Верлен… Ничего? Никаких воспоминаний? Нет. Вы не отличали его от других, кого вы знали? Различий вы никаких не делаете, знаю. Но это другой поэт[24 - Имеется в виду Франсис Жамм (1868–1938) – французский поэт-символист, автор сборников «От благовеста утреннего до благовеста вечернего», «Прогалины в небе» и др. Стихи Жамма на русский переводили И. Анненский, В. Брюсов, И. Эренбург, Б. Лившиц, С. Шервинский; О. Мандельштам упоминает его в стихотворении «Аббат» (1915): «Как жаворонок, Жамм поет».], тот, кого я читаю, живет не в Париже, он совсем другой. У него тихий дом в горах. Он звучит как колокол в чистом воздухе. Счастливый поэт, рассказывающий о своем окне и о стеклянных дверцах своего книжного шкафа, где задумчиво отражается милая, одинокая даль. Это как раз тот поэт, каким я хотел бы стать; потому что он знает так много о девушках, и я тоже о них много бы знал. Он знает о девушках, живших сто лет тому назад; и не имеет никакого значения, что они умерли, потому что он знает все. И это главное. Он произносит их имена, эти тихие, изящно написанные имена со старомодными виньетками в длинных буквах и родовитые имена их старших подруг, имена, где уже, как эхо, звенит судьба, как эхо, разочарование и смерть. Может быть, в ящике его письменного стола из красного дерева лежат их выцветшие письма и разрозненные листки их дневников, где указаны дни рождения, рассказывается о летних загородных прогулках, о самих днях рождения. Или, может быть, в глубине его спальни, в пузатом комоде есть выдвижной ящик, где хранятся их весенние платья; белые платья, обновы на Пасху, платья из тюля в крапинку, предназначенные, собственно говоря, для лета, но его никак не могли дождаться. О, что за счастливая судьба – сидеть в тихой комнате наследного дома среди спокойных, устойчивых вещей и слушать в легком светло-зеленом саду первых синиц, когда они пробуют петь, и деревенские часы – вдалеке. Сидеть и смотреть на теплые полосы послеполуденного солнца и многое знать о давным-давно миновавших девушках – и быть поэтом. И думать, что я тоже стал бы таким поэтом, будь у меня где-нибудь жилье, где-нибудь на свете, в одном из многих заколоченных деревенских домов, о которых никто не печалится. Мне хватило бы одной-единственной комнаты (светлой комнаты во флигеле). Там бы я жил с моими старыми вещами, семейными портретами, книгами. И у меня было бы все, кресло и цветы, и собаки, и прочная палка для каменистых дорог. И ничего больше. Лишь одна книга, переплетенная в желтоватую, цвета слоновой кости кожу, со старым цветистым тиснением на форзаце: в ней бы я писал. Я писал бы много, потому что у меня было бы много мыслей и воспоминаний о многом и о многих.
Но получилось иначе. Бог знает почему. Моя старая мебель гниет в сарае, куда мне позволили ее поставить, а у меня самого, да, мой Бог, у меня нет крыши над головой, и дождь хлещет мне в глаза.
* * *
Иногда я прохожу мимо маленьких лавок на rue de Seine[25 - Улица Сены (фр.).] – приблизительно. Торговцы старыми вещами, или мелкие книжные антиквары, или продавцы гравюр с переполненными витринами. К ним никто никогда не заходит. По-видимому, дела у них не идут. Если же заглянуть внутрь, то они сидят и читают, беззаботно; они не заботятся о завтрашнем дне, не беспокоятся о выручке, у них есть собака, и она, ухоженная, сидит перед ними, или кошка, предельно утончая тишину, тем временем тянется вдоль книжных рядов, гладя их боком, как если бы она стирала названия с корешков.
Ах, если бы этого было достаточно: однажды я пожелал бы себе купить такую полную оконную витрину и с собакой засесть за ней на двадцать лет.
* * *
Хорошо вслух сказать: «Еще ничего не произошло». И еще раз: «Еще ничего не произошло». Разве это поможет?
То, что моя печка снова надымила и мне пришлось выйти, действительно еще никакое не несчастье. И то, что я чувствую себя ослабевшим и простуженным, ничего не означает. А что я целый день бегал по переулкам, тоже моя собственная вина. С таким же успехом я мог бы сидеть в Лувре. Или нет, это исключено. Там известные люди, они приходят погреться. Они сидят на бархатных скамейках, а их ноги, прижимаясь коленками, как огромные порожние сапоги, стоят на решетках отопления. Это крайне скромные люди, и они благодарны, если служители в темных униформах со многими орденами их терпят. Но когда вхожу я, они ухмыляются. Ухмыляются и слегка кивают. И потом, когда и я хожу перед картинами туда-сюда, они не спускают с меня глаз, и я всегда у них в глазах, всегда в этих взболтанных, слившихся глазах. И хорошо, что я не пошел в Лувр. Я все время бродил, безостановочно. Одному небу известно, по скольким городам, кварталам, кладбищам, мостам и переходам. Где-то я видел человека, толкавшего перед собой тележку с овощами. Он выкрикивал: Chou-fleur, chou-fleur[26 - Цветная капуста (фр.).], и это fleur выдыхалось со своеобразно потускнелым ей. Рядом с ним шла угловатая уродливая женщина и время от времени толкала его локтем в бок. И когда она его толкала, он выкрикивал. Иногда он и сам выкрикивал, но тогда его выкрик оказывался ненужным, и ему приходилось перевыкрикивать, потому что они находились как раз перед домом, где покупали. Сказал ли я уже, что он был слеп? Нет? Так вот, он был слеп. Он был слеп и выкрикивал. Я исказил бы картину, если сказал бы только это, и утаил бы тележку, которую он толкал, и притворился бы, что не заметил, как он выкрикивал «цветная капуста». Но так ли это существенно? А если это существенно, то не потому ли, что это все значило для меня? Я увидел старого человека, он был слеп и выкрикивал. Это я увидел. Увидел.
Разве поверят, что бывают такие дома? Нет, скажут, что я искажаю. На этот раз все – правда, убавить нечего, естественно, и прибавить тоже нечего. Откуда я это взял? Известно, что я беден. Это известно. Дома? Но если быть точным, эти дома были, а теперь их тут уже нет. Дома, но их сломали сверху донизу. Те, что остались, – это другие дома, они когда-то стояли рядом с теми, высокие, соседние дома. По-видимому, они оказались в опасности и могли обрушиться из-за того, что поблизости все снесли; поэтому подпорки из длинных смоленых мачтовых стволов наклонно вколотили одним концом в площадку с развальным мусором, а другим – в выставленную, как напоказ, голую стену. Я не знаю, говорил ли я уже, что имею в виду именно эту стену. Но это, так сказать, не первая, наружная, стена существующего дома (как можно все-таки подумать), а последняя, оставшаяся стена прежнего дома. Виднелась ее внутренняя сторона. Виднелись стены комнат на всех этажах, и на них еще держались обои, тут и там виднелись места стыков стен с полами или потолками. При каждой квартирной перегородке, вдоль всей стены, сверху донизу, еще оставалось грязно-белое пространство, и по нему, несказанно противная, червячно-пухлая, как бы заглатывающими движениями ползла открывшаяся, в ржавых пятнах, борозда от уже снятой сточной трубы.
От путей проводки осветительного газа остались серые пыльные следы по ранту потолков, и они изгибались тут и там, совершенно неожиданно, закруглялись и, добираясь, вбегали в цветную стену, в сквозную дыру, выломанную черно и бесцеремонно. Но самое незабываемое – сами стены. Вязкая жизнь этих комнат не позволила себя раздавить. Она была еще здесь, она держалась на гвоздях, еще кое-где торчавших, она устояла на остатках полов шириной в ладонь, она заползла под стыки углов, где еще оставалась чуточка внутреннего пространства. Это виделось по цвету краски, что медленно, год за годом превращалась: голубая в мутноватую зелень, зелень в серость, а желтизна в старую обшарпанную белизну с подгнилинами. Но белизна виднелась и на сравнительно свежих местах, где некогда висели зеркала, картины, и за шкафами; но ее контуры менялись, повторно вытягивались, и она покрылась паутиной и пылью на этих прятавшихся местах и теперь уже гольем выставилась напоказ. Она виднелась в каждой открывшейся от хлама полоске, в жирных пузырях по нижнему краю обоев, болталась в оборванных лохмотьях и выпотевала из мерзких пятен, образовавшихся уже давно. И из этих некогда голубых, зеленых и желтых стен, ныне очерченных лишь пазами от разрушенных перегородок, проступал воздух той жизни – стойкий, инертный, засохший воздух, не разгоняемый никаким ветром. В нем застоялись обеды и хвори, и то, чем они надышали, и долголетний чад, и пот, выступавший под мышками и отяжелявший одежду, и преснота из ртов, и сивушная вонь преющих ног. В нем застоялась едкость мочи и коптящего горения, и серого картофельного пара, и тяжелого липкого смрада испорченного сала. Присутствовал сладковатый давний запах неухоженных сосунков и запах страха детей, кто уже ходит в школу, и удушливый запах от постелей половозрелых мальчиков. И много чего еще к этому добавилось: что поднималось снизу, с испарениями из бездны переулка, и другое, что просачивалось сверху с дождем, всегда нечистым над городами. И иное, что заносили хилые, ручные, одомашненные ветры, те, что, бывает, обживаются всегда на одной и той же улице, и много чего еще тут было, неведомо какого происхождения. Я, кажется, сказал, что все стены были уже снесены – все, кроме последней? Про эту-то стену я и говорю все время. Можно подумать, что я долго перед ней стоял; но могу поклясться, что я пустился бежать, едва узнал эту стену. В том-то и весь ужас, что я ее узнал. Я узнаю здесь все, потому-то все входит в меня беспрепятственно: во мне оно – дома.
Я несколько утомился от всего этого, можно сказать, обессилел, и поэтому для меня было бы уж слишком, если бы еще и он меня ждал. Он ждал меня в маленькой crеmerie[27 - Кафе-молочная (фр.).], где я собирался съесть яичницу; я был голоден, за весь день не удосужился поесть. Но и теперь ничего не мог бы проглотить; еще прежде, чем приготовили глазунью, меня снова выгнало на улицу, где люди потоком шли мне навстречу. Потому что была Масленица, и был вечер, и у людей было время, и они толпливо спешили по разным местам и терлись друг о друга. И лица у всех полны света, исходившего из балаганов, и смех выдавливался из их ртов, как гной из открытого нарыва. Они смеялись все громче, и чем нетерпеливей я пытался протиснуться вперед, тем плотней они теснились друг к другу. Платок какой-то горничной непонятно как прицепился ко мне, я потащил ее за собой, и люди остановили меня и смеялись, и я чувствовал, что мне тоже надо смеяться, но не мог. Кто-то бросил горсть конфетти мне в глаза, и это обожгло как плетью. На углах люди заклинивались, прибывающие вталкивались в передних, и не получалось никакого продвижения, а лишь медленное, мягкое колыхание вверх и вниз, как если бы они, стоя, спаривались. Но хотя они стояли, а я бежал как сумасшедший по краю проезжей части улицы, где в тесноте отыскивались трещины, в действительности оказывалось так, как если бы они двигались, а я не шевелился. Потому что ничего не менялось; когда я посмотрел вверх, то опять увидел те же самые дома на одной стороне, а на другой ярмарочные балаганы. Может быть даже, все прочно обосновалось на месте, и лишь у меня и у них головокружение, и оно, казалось, все вращает. У меня не было времени подумать об этом, я отяжелел от пота, и во мне кружила отупляющая боль, как если бы в моей крови циркулировало нечто слишком большое – и растягивало жилы при своем перемещении. И при этом я чувствовал, что воздух давно кончился и что я вдыхаю лишь то, что выдыхают мои же легкие.
Но теперь это миновало; я выстоял[28 - Нем. «… ich habe es ?berstanden»; ср. с фразой Рильке из «Реквиема графу Вольфу Калькрейту», которую, как писал Готфрид Бенн («Выражение мира», 1949), «мое поколение никогда не забудет»: «Wer spricht von Siegen – ?berstehn ist alles!» (Что нам победа? Выстоять хотя бы!).]. Сижу у себя в комнате при лампе; немного холодно, потому что не отваживаюсь затопить печь; что, если она задымит и мне снова придется выбегать в коридор? Сижу и думаю: не будь я беден, снял бы другую комнату – комнату, где мебель не так подержана, не так переполнена прежними постояльцами, как эта. Сначала я действительно, преодолевая себя, откидывал голову в этом кресле; ведь там, в зеленой обивке, имеется всегдашняя засаленно-серая вмятина, и к ней, кажется, подходят все головы. Долгое время я из предосторожности подкладывал носовой платок себе под волосы, но теперь слишком устал для этого; и пришел к выводу, что обойдусь и так и что небольшое углубление точно сделано по моему затылку, как по мерке. Но не будь я беден, прежде всего купил бы себе хорошую печку и топил бы чистыми, крепкими дровами, привезенными с гор, а не этими безутешными t?tes-de-moineau[29 - Букв.: «воробьиные головы» (фр.) – измельченный каменный уголь.], когда от чада дыхание становится таким боязливым, а мысли путаются. И тогда непременно был бы кто-то, кто без грубого шума делал бы уборку и озаботился бы топкой, какая мне нужна; потому что часто, когда я четверть часа вынужденно стою перед печкой на коленях и тормошу огонь, кожа на лбу напрягается от близкого горения, и вместе с жаром, бьющим в открытые глаза, в трубу вылетают все силы, накопленные для целого дня, и когда потом оказываюсь среди людей, они, естественно, этим пользуются. Иногда, если большая давка, я брал бы пролетку, чтобы проехать мимо толпы, я бы ежедневно ел у Дюваля…[30 - Имя владельца сети недорогих ресторанчиков, статусом выше, чем crеmerie.] и никогда не тащился бы в crеmeries… А бывал ли он вообще когда-нибудь у Дюваля? Нет. Там бы ему ждать меня не позволили. Умирающих туда не пускают. Умирающих? Я сижу сейчас в своей каморке; могу попытаться спокойно обдумать то, с чем столкнулся, что увидел. Это хорошо – ничего не оставлять в неопределенности. Итак, я вошел и сначала лишь увидел, что стол, где я обычно сидел, уже кто-то занял. Я приветливо кивнул в сторону небольшого буфета, прося подойти, и сел рядом. Но тут я его почувствовал, хотя он не шевелился. Почувствовал именно его неподвижность и сразу ее воспринял. Связь между нами установилась, и я знал, что он оцепенел от ужаса. Знал, что ужас его парализовал, ужас перед чем-то, что в нем произошло. Может быть, в нем лопнул какой-то сосуд; может быть, яд, которого он долго боялся, именно сейчас вступил в желудочек сердца; может быть, у него в мозгу взошла огромная опухоль, как солнце, – и мир для него сразу преобразился. С неописуемым напряжением я принудил себя посмотреть на него, так как еще надеялся, что все это – плод моего воображения. Но произошло так, что я вскочил и бросился прочь; потому что не ошибся. Он сидел там в толстом черном зимнем пальто, и его серое, напряженное лицо глубоко накренилось в шерстяной шарф. Рот был закрыт, как если бы сомкнулся с большой силой, но нельзя твердо сказать, видели или не видели его глаза: запотелые, дымчато-серые стекла очков лежали на переносице и слегка дрожали. Крылья носа расправлены, длинные волосы над висками, уже достаточно поубавленные, увяли, как при большой жаре. Уши длинные, желтые, с большими заушными тенями. Он знал, что теперь отдалился от всего, не только от людей. Еще мгновение, и все потеряет смысл: и этот стол, и чашка, и стул, в который он вцепился, – все дневное и ближайшее станет непонятным, чужим и тяжелым. Так он сидел там и ждал вплоть до того, как это произошло. И уже не сопротивлялся.
А я еще сопротивляюсь. Сопротивляюсь, хотя знаю, что сердце у меня уже накренилось и я уже не могу жить, даже если мои мучители теперь от меня отстанут. Я говорю себе: ничего не произошло, но ведь я смог понять того человека лишь потому, что во мне самом что-то опережает меня, что-то начинает меня от всего отдалять и отторгать. Как страшило меня всякий раз, когда слышал, как про умирающего говорили: он уже никого не узнает. Тогда я представлял себе одинокое лицо того, кто приподнимается из подушек и ищет хоть что-то знакомое, ищет что-то однажды уже виденное, но ничего этого нет. Не будь мой страх столь велик, я бы утешился тем, что не так уж и невозможно – все видеть по-иному и все-таки жить. Но боюсь, боюсь этого невыразимо-безымянного изменения, иного. Я ведь еще совсем не вжился в этот мир, но мне кажется, что он хороший. Что мне делать в ином? Я охотно остался бы среди значений и смыслов, ставших мне дорогими, и если уж нечто существующее должно стать иным, то я хотел бы все-таки жить, по крайней мере среди собак: у них родственный с нами мир и те же самые вещи.
Еще какое-то время я могу обо всем этом писать и говорить. Но наступит день, когда моя рука будет далеко от меня и когда сообщу ей, что написать, она напишет слова, но не те, что я не имел в виду. Настанет время иных истолкований, и не останется слова на слове[31 - Отсылка к Евангелию от Марка, 13, 2: «…так что не останется здесь камня на камне».], и всякий смысл растворится, как облако, и сойдет, как вода. При всем моем страхе я все-таки – как некто, кто стоит перед чем-то огромным, и я вспоминаю, что раньше со мной происходило нечто подобное, прежде чем я начинал писать. Но на этот раз написан буду я сам. Я – впечатление, которое претворится. О, недостает совсем малого, и я бы мог все это понять и одобрить. Лишь один шаг, и моя безысходная горестность стала бы блаженством, но не могу сделать этот шаг, я упал и не могу больше подняться, потому что сломлен. Я ведь все еще верил, что может прийти некая помощь. Здесь лежит передо мной, в моем собственном писанье, то, что я читал как молитву, вечер за вечером. Я это взял из книг, где это нашлось, и это стало мне еще ближе и возникло под моей рукой, как мое собственное. И сейчас я хочу это написать еще раз, здесь, стоя на коленях перед моим столом, хочу это написать; потому что тогда это пребудет со мной дольше, чем когда это читаю, и каждое слово продлится, и у него хватит времени, чтобы затихнуть.
> Mеcontent de tout et mеcontent de moi, je voudrais bien me racheter et m’enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. ?mes de ceux que j’ai aimеs, ?mes de ceux que j’ai chantеs, fortifiez-moi, soutenez-moi, еloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde; et vous. Seigneur mon Dieu! accordez-moi la gr?ce de produire quelques beaux vers qui me prouvent ? moi-m?me que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas infеrieur ? ceux que je mеprise <[32 - Отрывок из стихотворения в прозе Ш. Бодлера «В час ?тра»: «Недовольный всеми, недовольный собой, я хочу искупить свою вину и возгордиться в ночной тиши и одиночестве. Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспел, укрепите меня, выручите меня, отведите от меня ложь и испарения развращающего мира; а Ты, Господь Бог мой, ниспошли милость и дозволь сочинить несколько прекрасных стихов, которые мне самому докажут, что я не последний из людей, что я не ниже тех, кого презираю» (пер. с фр. Валерия Семенко).].
* * *
> Чада беспутных и презираемых людей, кои были самыми ничтожными на земле. Ныне же я сделался их игрою на струнах и принужден быть их пересудой.
…они проложили через меня свой путь…
…было им так легко – повредить мне, что никакой помощи им не понадобилось.
…ныне же изливается моя душа через меня, и меня сцапало горестное время.
Ночью пробуравливает мои кости повсюду; и те, кто меня гонит, не ложатся спать.
Выбиваясь из сил, я становлюсь иным и одет иначе; а меня опоясывают этим, как прорехою моего платья…
Мои внутренности кипят и не перестают; меня одолело горестное время…
Моя арфа стала жалобой, и моя дудка – плачем <[33 - Из пояснений Рильке: «Книга Иова: отдельные отрывки стихов из главы 30; но по старым изданиям лютеровской Библии; в более поздних изданиях некоторые выражения ослаблены: например: “облачен прорехой моего платья…”». У Лютера «bekleidet mit dem Loch meines Rocks», a «отдельные отрывки» взяты из Книги Иова, 30: 8–31.].
* * *
Врач меня не понял. Ничего. Это ведь и трудно рассказать. Хотят попробовать лечить электричеством. Хорошо. Я получил листок бумаги: я должен быть около часа в Salp?tri?re[34 - Сальпетриер – клиника в Париже (рядом с Ботаническим садом), впервые применившая электротерапию для лечения психических расстройств. З. Фрейд учился там с 1885 по 1886 г. вместе с нейрологом (неврологом) Ж.-М. Шарко, изобретателем «душа Шарко».]. Я там был. Мне пришлось долго идти мимо всяких бараков, через какие-то дворы, где тут и там люди в белых чепцах, как арестанты, стояли под пустыми деревьями. Наконец я вошел в длинное, темное, вроде коридора, помещение: по одной стороне – четыре окна с мутными зеленоватыми стеклами, разделенные широкими черными простенками. По всей длине тянулась деревянная скамейка; и на ней, дожидаясь вызова, сидели они, те, для кого я был своим. Да, тут только они и были. Когда привык к сумеркам помещения, заметил, что среди тех, кто сидел плечом к плечу в бесконечном ряду, могли оказаться и некоторые другие люди, маленькие люди – ремесленники, служанки, ломовые извозчики. В торце коридора, переговариваясь между собой, на отдельных стульях раздались вширь две толстые женщины, по всей видимости, консьержки. Посмотрел на часы: без пяти час. Итак, через пять или, скажем, через десять минут моя очередь, то есть не так уж и страшно. Воздух скверный, тяжелый, полный запахов одежды и дыхания. Возле известного места из дверной щели бил в нос резкий, усиленный холод эфира. Я начал ходить взад-вперед. Мне пришло на ум, что меня сюда направили вместе с этими людьми, в этот всегда переполненный общий приемный час. Это, так сказать, первое публичное подтверждение, что я принадлежу к отбросам; увидел ли это врач, глядя на меня? Но ведь его я посетил в мало-мальски хорошем костюме, послал ему свою визитную карточку. Несмотря на это, он каким-то образом обо всем догадался, может быть, я сам себя выдал. Теперь, когда это стало фактом, я тоже не находил в этом ничего дурного; люди сидели спокойно и не обращали на меня внимания. Кого-то мучила боль, и он, чтобы ее облегчить, слегка покачивал ногой. Некоторые из мужчин уткнули головы в сплющенные ладони, другие глубоко, как в нору, зарылись в них тяжелыми, измятыми лицами. Толстый человек с красной опухшей шеей сидел, склонившись и уставившись в пол, и время от времени пришлепывал плевки к пятну, которое ему казалось для этого подходящим. В углу всхлипывал ребенок; свои длинные худые ноги он подтянул к себе на лавку и теперь обхватил их руками и прижал к себе, как если бы с ними прощался. У маленькой бледной женщины в креповой шляпе, украшенной круглыми черными цветами и косо сидевшей на волосах, застыла гримаса усмешки на скудных серых губах, но ее израненные веки постоянно слезились. Недалеко от нее посадили девушку с круглым гладким лицом и выпученными глазами – без всякого выражения; рот у нее открыт, так что виднелись белые, в слюне, десны и старые, зачахшие зубы. И много бинтов. Бинтов, которые покрывали всю голову, слой за слоем, пока не оставался единственный глаз, и он никому больше не принадлежал. Бинтов скрывающих и бинтов показывающих, что под ними. Бинтов развязанных, и где теперь, как в грязной кровати, лежала рука и была уже никакой не рукой; или перебинтованная нога, и она выступала из ряда, огромная, как целый человек. Я ходил взад-вперед и старался успокоиться. Занялся противоположной стеной. Заметил, что там несколько одностворчатых дверей и что стена не достигает потолка, а значит, коридор не полностью отделен от помещений, примыкавших к нему. Посмотрел на часы; я ходил взад-вперед уже час. Какое-то время спустя, пришли врачи. Сначала несколько молодых людей проследовали мимо с равнодушными лицами, наконец появился тот, у кого я был, – в светлых перчатках, chapeau ? huit reflets[35 - Модная в свое время шляпа-восьмиклинка (фр. букв. «шляпа с восемью отражениями»).], в безукоризненном летнем пальто. Увидев меня, он слегка приподнял шляпу и рассеянно улыбнулся. Появилась надежда, что меня скоро вызовут, но прошел еще час. Не могу вспомнить, как его провел. Он пропал. Ко мне приблизился пожилой человек в запятнанном фартуке, вроде санитара, и коснулся моего плеча. Я вошел в одну из боковых комнат. Врач и молодые люди сидели вокруг стола и смотрели на меня. Мне придвинули стул. Так. А теперь я должен рассказать, что, собственно, со мной. По возможности кратко, s’il vous plait[36 - Пожалуйста (фр.).], так как у господ нет времени. Мне стало особенно неприятно. Молодые люди сидели и смотрели на меня с тем превосходящим квалифицированным любопытством, которому они уже научились. Врач, мне уже знакомый, поглаживал свою черную острую бородку и рассеянно улыбался. Я думал, что расплачусь, но услышал себя, говорящего по-французски: «Я уже имел честь предоставить вам, сударь, всю информацию, какую могу дать. Если вы считаете нужным посвятить во все этих господ, то после нашей беседы вы сумеете изложить это в немногих словах, тогда как мне сделать это весьма трудно». Врач поднялся с вежливой усмешкой, подошел с ассистентами к окну и сказал несколько слов, сопровождая их колебательным, как весы, движением рук. Через три минуты один из молодых людей, близорукий и подвижный, снова вернулся к столу и попытался строго посмотреть на меня: «Вы хорошо спите, сударь?» – «Нет, плохо». После чего он опять вернулся к группе. Там поговорили еще некоторое время, после чего врач обратился ко мне и сообщил, что меня вызовут. Я напомнил ему, что меня вызвали к часу. Он улыбнулся и сделал своими маленькими белыми руками несколько быстрых скачущих движений, означающих, что он чрезвычайно занят. Итак, я снова вернулся в мой коридор, где воздух стал значительно тяжелее, и начал снова туда-сюда прохаживаться, хотя чувствовал себя смертельно усталым. Наконец от влажного, спертого запаха у меня закружилась голова; я остановился около входной двери и немного приоткрыл ее. Я увидел, что на дворе еще послеполуденное время и кое-какое солнце, и мне стало несказанно хорошо. Но не простоял и минуты, как услышал, что меня зовут. Некая особа, сидевшая в двух шагах за маленьким столом, мне что-то прошипела. Кто мне велел открывать дверь? Я сказал, что не мог вынести этот воздух. Хорошо, это мое личное дело, но дверь нужно закрыть. Может быть, не возбраняется открыть окно? Нет, это запрещено. Я снова принялся за вперед-назад-хождение, потому что это, в конце концов, некий вид наркоза и никого не обижает. Но женщине за маленьким столом не нравилось теперь и это. Разве у меня нет никакого места? Да, у меня его нет. Но болтаться не разрешается, я должен поискать себе место. Уж еще одно-то найдется. Женщина права. Действительно, сейчас же нашлось место рядом с девушкой с выпученными глазами. Я сел с чувством, что неминуемо должно случиться нечто страшное. Итак, слева оказалась девушка с гниющими деснами; то, что справа от меня, я узнал лишь через некоторое время. Громадная, неподвижная масса с лицом и огромной, тяжелой, обездвиженной рукой. Сторона лица, видимая мне, пуста, совсем без черт и воспоминаний, и становилось жутковато оттого, что одежда на соседе сидела как на трупе, одетом пред тем, как положить его в гроб. Узкий черный шейный платок подобным же рыхлым безликим образом повязан вокруг воротника, и по пиджаку видно, что он натянут на это безвольное туловище кем-то другим. И рука положена на эту штанину туда, где она лежала и сейчас, и даже волосы причесаны, как причесывают обмывальщицы трупов; и жесткие, как шерсть набитых чучел зверей. Я внимательно все это рассматривал, и мне подумалось, что это и есть то самое место, которое мне предопределено, и поверил, что наконец пришел в тот самый пункт моей жизни, где и останусь. Да, судьба ходит странноватыми путями.
Внезапно совсем близко от меня раздались, быстро следуя один за другим, ужасные, отбивающиеся крики ребенка, а вслед за ними последовал тихий, сдержанный плач. В то время как я силился понять, откуда это доносится, снова продрожал слабый, подавленный вскрик, и я услышал голоса, что-то вопрошающие, голос, приглушенно что-то приказывающий, а затем заурчала какая-то безразличная машина, не печалясь ни о чем. Я сразу вспомнил о той полустене, и мне стало ясно, что все исходит с той стороны дверей и что там что-то делают. Действительно, время от времени появлялся санитар в запятнанном фартуке и кому-нибудь кивал. Я совершенно не думал о том, что он мог иметь в виду и меня. Разве это относилось ко мне? Нет. Появились двое мужчин с каталкой; они подняли на нее огромную и неподвижную массу, и теперь я увидел, что это – старый парализованный мужчина и что у него имелась еще другая, поменьше, изношенная жизнью сторона туловища с одним открытым, тусклым и печальным глазом. Его ввезли внутрь, и рядом со мной образовалось много места. И я сидел и думал: что же они собираются делать с этой глуповатой девушкой и не закричит ли она тоже? Машины позади меня, за перегородкой, урчали так приятно, по-фабричному, в них не ощущалось ничего настораживающего.
Внезапно все стихло, и в тишине раздался покровительственный, самодовольный голос, который я посчитал знакомым:
«Riez!»[37 - Смейтесь! (фр.)] Пауза. «Riez. Mais riez, riez»[38 - Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (фр.).]. Я уж смеялся. И не мог объяснить, почему человек там, по ту сторону, не хотел смеяться. Машина снова затарахтела, но сразу умолкла. Последовал обмен словами, после чего послышался тот же энергичный голос – и приказал: «Dites-nous le mot: avant»[39 - Скажите нам слово «вперед» (фр.).]. По буквам: «a-v-a-n-t»… Тишина. «On n’entend rien. Encore une fois…»[40 - Ничего не слышно. Еще раз (фр.).]
И когда по ту сторону двери так тепло и губчато лепетали, тогда впервые после многих-многих лет оно снова напомнило о себе. То самое, что вогнало в меня первый глубокий ужас, когда я ребенком лежал в горячке: огромное. Да, так я говорил каждый раз, когда все они стояли вокруг моей кровати, и щупали у меня пульс, и спрашивали, что меня испугало: огромное. И когда они привели доктора, и он уже стоял и говорил со мной, я его просил: пусть он сделает так, чтобы огромное ушло, – и все другое станет ничем, мелочью. Но доктор оказался, как все другие. Он не мог это убрать, хотя тогда я был все-таки маленький, и мне, казалось бы, легко помочь. И теперь оно снова возникло, хотя горячки у меня не было. Позднее оно просто отсутствовало, оно не возвращалось даже в горячечные ночи, но теперь оно возникло. Теперь оно вырастало из меня, как опухоль, как вторая голова, и являлось частью меня самого, хотя оно все-таки не могло принадлежать мне, потому что оно такое огромное. Оно возникло, как большой мертвый зверь, тот, что однажды, когда он еще жил, стал кистью моей руки или всей рукой. И моя кровь проходила сквозь меня и сквозь это огромное, как сквозь одно и то же тело. И моему сердцу приходилось очень напрягаться, чтобы гнать кровь в это огромное: там недоставало крови. И кровь неохотно поступала в это огромное и возвращалась больной и испорченной. Но это огромное разбухало и росло у меня перед лицом, как теплая голубоватая выпучина, и росло у рта, и мой последний глаз уже закрывала тень от его края.
Не могу вспомнить, как выбрался через бесконечные дворы. Уже свечерело, и я заблудился в чужой местности и шел вверх бульварами с бесконечными каменными стенами по обе стороны, и когда у них не оказалось конца, повернул в обратную сторону, назад, к какой-то площади. Оттуда шел по какой-то улице, и попадались другие улицы, куда меня до этого никогда не заносило, и снова улицы и улицы. Иногда мимо проносились яркие трамваи с жестким стучащим звуком. Но на их табличках читались совершенно незнакомые названия. Я не знал, в каком городе нахожусь, и есть ли у меня здесь жилье, и что я должен сделать, чтобы больше никуда не идти.
* * *
И теперь еще эта болезнь, она всегда так своеобразно меня задевала. Я уверен, что ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение других болезней. У этой болезни нет определенных особенностей, она принимает особенности тех, кого захватывает. С сомнамбулической уверенностью вытаскивает она из каждого его собственную самую глубокую опасность, ту самую, которая, казалось, уже миновала, и снова ставит ее перед ним, совсем близко, в следующий час. Мужчины, те, кто однажды в школьные годы уже предавались этому беспомощному пороку, где обманутой наперсницей служат жалкие жесткие мальчишеские руки, снова предаются ему, или потерянная блудная привычка снова возвращается, как некий неуверенный поворот головы, свойственный им много лет тому назад. И вслед за этим поднимается вся путаница бессвязных воспоминаний, что как мокрые морские водоросли облепляют утонувшую вещь. Жизни, о чьем существовании никогда бы и не узнал, всплывают и смешиваются с тем, что действительно происходило, и вытесняют прошлое, хотя, как считал, его-то уж ты точно знаешь, – и все потому, что в том, что поднимается, заключена отдохнувшая, новая сила, а то, что всегда оказывалось сверху, уже устало от слишком частых разбередений.
Я лежу в моей кровати, на пятом этаже, и мой день ничем не прерывается, как циферблат без стрелок. Как блудная вещь, что давно потерялась, вдруг в какое-то утро снова лежит на своем месте, ухоженная и хорошая, новая, почти как во время утраты, совсем такая, как если бы за ней кто-то присматривал, – так лежит там и там на одеяле заблудшее и потерянное из моего детства и выглядит как новое. Все, казалось бы, заблудшие и потерянные страхи снова тут как тут.
Страх, что маленькая шерстяная нитка, торчащая из одеяльной каймы, на самом деле жесткая – жесткая и острая, как стальная игла; страх, что эта меленькая пуговица на моей ночной рубашке окажется больше, чем моя голова – большая и тяжелая; страх, что эта хлебная крошка, падающая сейчас с моей кровати, остекленеет и разобьется об пол, и гнетущая тревога, что тем самым, собственно, все разрушится, все, навсегда; страх, что оторванная полоска концовки письма – нечто запретное, чего никто не должен видеть, нечто неописуемо дорогое, для чего в комнате нет достаточно надежного места; страх, что если я засну, то проглочу кусок угля, лежащий возле печки; страх, что в моем мозгу начнет расти какое-нибудь число – и уже не сможет во мне уместиться; страх, что это гранит, то, на чем я лежу, серый гранит; страх, что я начну кричать и что перед моей дверью сбегутся и в конце концов ее выломают; страх, что я мог бы сам себя предать и рассказать обо всем, чего я боюсь, и страх, что я ничего не мог бы рассказать, потому что все невыразимо, – и еще страхи… страхи.
Я молился о моем детстве, и оно снова вернулось, и я чувствую, что оно все такое же тяжелое, как тогда, и что нет никакого смысла становиться старше.
* * *
Вчера горячка ослабла, и сегодняшний день начался, как весна – как весна на картинках. Попытаюсь пойти в Biblioth?que Nationale к моему поэту, я так давно его не читал, и, может быть, потом медленно побреду по садам. Может быть, почувствуется ветер над большим прудом, где такая настоящая вода и куда приходят дети, пускают свои корабли с алыми парусами и смотрят.
Сегодня я ничего подобного не ожидал, я с такой безоглядной отважностью вышел из дома, как если бы для меня это самая естественная и простая вещь. И все же опять стряслось нечто, что меня подхватило, как бумажку, смяло и отбросило прочь, – да, стряслось нечто неслыханное.
Бульвар St-Michel пустовал и далеко просматривался, и легко шлось по его пологому склону. Крылья оконных створок наверху раскрывались со стеклянным звоном, и блеск их, как белая птица, перелетал через улицу. Мимо проехал экипаж на ярко-красных колесах, а ниже по бульвару шел человек в чем-то светло-зеленом. Лошади, поблескивая сбруей, бежали по мостовой, темной и чистой от поливки. Ветер, возбужденный, неопытный, отзывчивый, поднимал все подряд: запахи, крики, шляпы, звон колокольчика.
Я проходил мимо одного из кафе, где по вечерам играют поддельные цыгане в красном. Из открытых окон крался с нечистой совестью переночевавший воздух. Гладко причесанные кельнеры принялись скрести перед дверью. Один стоял, согнувшись, и горсть за горстью бросал желтоватый песок под столы. Другой, проходя мимо, толкнул его и показал вниз по склону. Кельнер поднял раскрасневшееся лицо, какое-то время пристально смотрел, куда показывали, после чего по его безбородым щекам рассыпался, как если бы его кинули, смех. Он кивнул остальным кельнерам, несколько раз быстро повернул смеющееся лицо направо и налево, чтобы привлечь всех и самому ничего не пропустить. Теперь все стояли и смотрели, вглядываясь или доискиваясь, улыбаясь или сердясь, что они еще не обнаружили, над чем смеяться.
Я почувствовал, что мной понемногу овладевает страх. Что-то толкало меня на другую сторону улицы; но я лишь ускорил шаги и невольно оглядел немногих людей впереди себя – и не заметил ничего особенного. Однако увидел, что один мальчишка-посыльный в голубом фартуке и с пустой корзиной на плече стоит на месте и смотрит кому-то вслед. Насмотревшись вдоволь, он, не двигаясь с места, повернулся к домам и, высмотрев на той стороне смеющегося приказчика, изобразил всем известный жест – покрутил пальцем у виска. Затем он сверкнул черными глазами и, удовлетворенный, вразвалку двинулся мне навстречу.
Я ожидал, что, как только пространство передо мной откроется, увижу какую-нибудь необычную и бросающуюся в глаза фигуру, но обнаружилось, что впереди меня никто не идет, кроме крупного худощавого мужчины в темном летнем пальто и в мягкой черной шляпе на коротких блекло-русых волосах. Я убедился, что ни в одежде, ни в поведении этого мужчины нет ничего смешного, и уже переводил взгляд с него вниз по бульвару, как он обо что-то споткнулся. Поскольку я следовал сразу за ним, я стал внимательней, но когда подошел к тому месту, там ничего не оказалось, ровно ничего. Мы оба пошли дальше, он и я, расстояние между нами осталось таким же. При переходе через улицу случилось так, что мужчина, шедший впереди меня, для того чтобы сойти с тротуара, вдруг спрыгнул на неодинаково подогнутых ногах, подобно тому, как дети иногда во время ходьбы подпрыгивают или скачут, когда им весело. На другой стороне улицы он просто одним длинным шагом поднялся наверх, на тротуар. Но как только оказался наверху, он немного подтянул одну ногу, а на другой высоко подпрыгнул и сразу после этого еще и еще. Теперь это внезапное движение можно было снова принять за спотыкание, если уверить себя, что там оказалась некая безделица, косточка, скользкая кожура фрукта, что-нибудь; и странно то, что мужчина сам, казалось, верил в наличие помехи, потому что каждый раз не то сердито, не то укоризненно, как все люди в таких случаях, оглядывался на досаждающее место. Еще раз нечто предупреждающее позвало меня на другую сторону улицы, но я не внял и остался позади этого человека, причем все мое внимание обратил на его ноги. Должен признаться, что почувствовал странное облегчение, когда приблизительно двадцать шагов подскакивания ни разу не повторились, но теперь, когда я поднял глаза, то заметил, что у человека возникла другая неприятность. Поднялся воротник у летнего пальто; и как настойчиво он ни старался то одной рукой, то двумя его опустить, у него ничего не получалось. Так бывает. Меня беспокоило не это. А то, что я с безграничным удивлением заметил, что в занятых руках этого человека наблюдалось одновременно два движения: потаенное, быстрое – когда он незаметно поднимал воротник вверх, – и то, другое, подробное, затяжное, даже как бы читающее по слогам движение, когда он старался воротник опустить. Это наблюдение настолько меня смутило, что прошло две минуты, пока до меня дошло, что в шейных мышцах этого человека, под высоко поднятым воротником, и в нервно жестикулирующих руках – то же самое ужасное двусложное подскакивание, оставившее на время его ноги в покое. С этого момента меня к нему как привязали. Я понял, что это подскакивание блуждает в его теле, что оно пробует то здесь, то там вырваться. Я понял его страх перед людьми и сам начал осторожно проверять, замечают ли что-нибудь прохожие. Холодная игла вонзилась мне в спину, когда его ноги выдали небольшой дергающийся скачок, но никто этого не видел, и мне взбрело на ум тоже слегка спотыкаться в случае, если кто-нибудь окажется наблюдательней. Это, конечно, стало бы способом заставить любопытных думать, что на дороге находится маленькая, незаметная помеха и что мы оба на нее случайно наступили. Но пока я таким способом старался ему помочь, он сам нашел новый отличный выход. Я забыл сказать, что он нес палку; итак, он нес в руке обыкновенную палку из неясного дерева и с закругленной рукояткой. И в своем ищущем страхе он придумал приладить эту палку одной рукой (кто знает, для чего еще понадобится вторая) у себя за спиной, как раз вдоль позвоночника, плотно прижав палку к пояснице, а конец круглой загогулины затолкать за воротник, так, чтобы жестко ее чувствовать как упор для позвонков – шейного и верхнего спинного. Это как бы сходило за манеру держать себя, и она не бросалась в глаза и в крайнем случае казалась немного бесшабашной; однако неожиданный весенний день мог это извинить. Никому не взбрело оглядываться, и теперь все шло как надо. Уже при следующем переходе улицы случились два подскока, два небольших, наполовину подавленных подскока, совершенно несущественных, а один действительно очевидный прыжок выполнен так ловко (поперек дороги как раз лежал поливной шланг), что опасаться не стоило. Да, все пока шло хорошо; время от времени другая рука тоже бралась за палку и жестче ее прижимала, и опасность сейчас же снова преодолевалась. Я ничего не мог сделать для того, чтобы мой страх не разрастался. Я знал, что в то время, как человек идет и с бесконечным напряжением пытается выглядеть безразличным и рассеянным, в его теле пугающее подергивание накапливается; во мне тоже появился этот страх, его страх, чувствующий, что оно, подергивание, нарастает и нарастает, и я видел, как он прижимает к себе палку, когда в нем начинается тряска. Тогда действия рук становились такими неумолимыми и резкими, что я всю надежду возлагал на его волю – и она, конечно же, была велика. Но что в данном случае воля? Все же должен был настать момент, когда бы его силы иссякли, и этот момент приближался. И я, кто шел за ним с сильно бьющимся сердцем, я собирал мои маленькие силы, как гроши, и, глядя на его руки, умолял его, чтобы он взял, если они ему понадобятся.
Я думаю, что он бы взял их; но что я мог поделать, если больше у меня не было.
На Place St-Michel[41 - Площадь Сен-Мишель (фр.).] теснилось много экипажей и спешащих туда и сюда людей. Мы часто оказывались между двумя колясками, и тогда он переводил дыханье и чуть-чуть позволял себе идти, как бы отдыхая, и то, что таилось в нем, чуть-чуть подергивалось и чуть-чуть кивало. Может быть, заключенная болезнь хитрила и таким способом хотела его одолеть. Воля уже надорвалась в двух местах, и эта уступка сохраняла в одержимых болезнью мускулах тихое соблазнительное раздражение и принудительное двухтактное движение. Но палка держалась еще на своем месте, и руки выглядели сердитыми и гневными; так мы вступили на мост, и это началось. Да, это началось. Вдруг появилось что-то неуверенное в походке, вдруг он сделал два резких шага и вдруг застыл. Застыл. Левая рука тихо освободилась от палки и так медленно поднялась вверх, что я видел, как она дрожит в воздухе; он чуть-чуть сдвинул шляпу назад и провел рукой по лбу. Он чуть-чуть повернул голову, и его взгляд поплыл по небу, над домами и водой, не хватаясь, и тогда он уступил. Палка выпала, он раскинул руки, как если бы хотел взлететь, из него вырвалась болезнь, как природная сила, и согнула его вперед, и рванула его назад, и заставила его кивать и наклоняться, и разбросала из него пляшущую силу среди толпы. Потом его обступило много людей, и я его больше не видел.
Идти еще куда-нибудь не было никакого смысла. Я опустошился. Как пустую бумажку, меня потащило вдоль домов, опять вверх по бульвару.
* * *
Пытаюсь Тебе написать, хотя, собственно говоря, это ничего не дает после неизбежного прощанья. Все же пытаюсь, верю, что должен это сделать, потому что видел в Пантеоне[42 - Храм, где похоронены многие знаменитые люди Франции. Имеется в виду панно французского художника Пюви де Шаванна (1823–1898) «Св. Женевьева» (1898), которая является покровительницей Парижа и, по преданию, спасла Париж от гуннов.] святую, одинокую святую женщину, и крышу, и дверной проем, и в нем масляный светильник со скудным кругом света, и за ними спящий город и реку, и даль в лунном свете. Святая бодрствует над спящим городом. Я плакал. Плакал, потому что все это вдруг произошло так неожиданно. Смотрел и плакал; и не знал, как себе помочь[43 - Набросок письма (Примечание Рильке).].