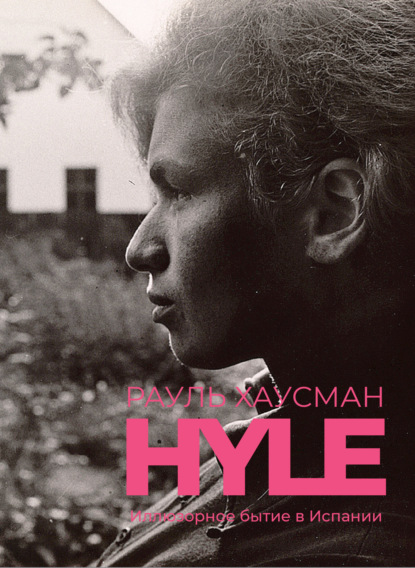По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Hyle. Иллюзорное бытие в Испании
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так течёт неспешно время, оно старается, но так и не набирает себе истечения: всё лишь обломки слов.
– Мы платили всего пять песет, потому что у них была перестройка.
– Да они и сейчас ещё перестраиваются.
– Ну, тогда это было потому, что ещё считалась зима, не сезон. А как вам понравился город?
– О, совсем по-американски, с avenidas[15 - Проспекты (исп.).] и с шумом по вечерам от этих громкоговорителей. Гораздо современней, чем Берлин. Мы были и в старой части города, очень примечательно, эти белые узкие переулочки.
– А вы видели собор, iglesia[16 - Церковь (исп.).] де ла Саграда Фамилия?
– Нет, дотуда не дошли. Но зато видели la plaza[17 - Площадь (исп.).] Каталунья. Мы тогда были вечером в народном кабаре, у Хуанито эль Дорадо, пыльный сарай, но певицы фламенко и танцор, сказочно. А вы там были?
– Нет, мы не могли оставить Ассара одного в отеле.
После ночи стояния на корабле, сидения в буфете «Фонда Марина» так хорошо пройтись. Хорошо размять ноги. Твёрдая земля под стопами. Нет людей. Пусто, пусто. Слишком раннее утро. Поглазеть по сторонам: порт, большой прямоугольник воды. Справа ограждённый плоскими волнистыми холмами, окроплёнными пятнами деревьев.
Р. Хаусман. Вход в дом, г. Ибица. 1933–1936
– Сейчас ещё рано, а вот позже вы увидите местных женщин. Ибицианки носят такие костюмы – пять или шесть юбок одна поверх другой, на плечах шарф, локоны как у пажей, их здесь называют risas. И косы. Много побрякушек на груди, но золотых.
И вот мы втроём (или вчетвером) осматриваем paseo Вара де Рей.
– У вас же есть с собой деньги, или у вас банковский счёт?
– Счёт у нас в «Сосьете Женераль» в Париже, а в Барселоне мы были в «Кредит Лионнез». А здесь у нас ещё ничего нет.
– Тогда идите в «Кредито Балеар», я вам сейчас покажу. Вы потом его сами легко найдёте.
Morne batisse[18 - Унылое строение (исп.).].
– Так, а теперь я покажу вам почту, los telegrafos, как здесь говорят.
C зелёными лавочными дверьми выглядит скорее как магазин.
Но что можно увидеть новичку, простоявшему бессонную ночь на палубе, когда перед глазами тянется сплошь всё незнакомое, неведомое и невиданное? Усталая сонливая невосприимчивость, ограниченный взгляд отворачивается в себя. И слух невольно ограничен: то ли это paseo, то ли alameda[19 - Аллея (исп.).], наименование наименее знаемо. В пустой прохладе утра. До чуткости чувств ещё далеко, она не здесь. Кто знает, увидимся ли мы снова на зелёном бреге Шпрее. Я думаю, не-е. Pero aqui, no somos ya presente[20 - Но нас здесь уже не будет (исп.).].
Плестись рядом с Лео, куда? Всё вперёд к поперечной улице, которая ограничивает paseo с юго-востока. Желудок больше ничего не отражает: он не может опомниться от изменившейся еды.
– А вот и despacho, здесь оставляют все вещи, и потом, позже, когда вы сделаете покупки, вы можете всё оставлять здесь.
Ты всюду, только не там, где стоишь или идёшь.
Прямо из Вчера шагнуть сюда, в эту хромоту, которая ни Сейчас, ни Потом.
Мы спотыкаемся о шаги, которые должны сделать завтра.
Вечно синий юг – он серый, туманный, без блеска. Не свет и не тень – если бы Гал мог говорить на ибиценко[21 - Местный диалект, ивисское наречие каталан. языка.], он бы сказал: bruine. Неподвижно недвижимо замерло здесь всё. Финиковые пальмы в больших ящиках, наполненных землёй, перед Альгамброй похожи на зелёные половые тряпки, свесив свои растрёпанные листья-опахала. Сидеть, в протяжённом времени, которое не хочет проходить. Avenida несколько оживилась: заходили люди, задвигались редкие повозки. С высокими колёсами, влекомые мулами. Мужчины почти все в чёрном. Белые парусиновые туфли и раскидистые соломенные шляпы.
– Вот такие альпаргаты, как называются эти туфли, вам надо заказать сейчас в Сан-Антонио, их сделают по мерке, подошвы из конопли выдерживают три месяца. А вот кожаные башмаки вы здесь износите на известняковой почве быстро. Я только сегодня, это в вашу честь, надел настоящую обувь.
Что ещё? Неужели больше никогда не наступит половина одиннадцатого?
Уже не знаешь, куда девать эти ноги! Ещё в camiоn[22 - Автобус (исп.).] снова придётся сидеть. Просиженное утро. Нечто вроде: пустое, но загадочно наполненное сам не знаю, чем и как – медленно и молниеносно проходит впереди, скрываясь сзади за углом.
Глупость будничного положения. Делаешь вид, будто что-то делаешь. Каждому хотелось бы делать что-то другое. Здесь ещё плавают вокруг речевые обрывки языка, который звучит, непонятый, впустую, если звучит. Разве что выговор. Он частично гортанный, частично живенький. Но от этого не становится более понятным. Мысли блуждают. Бессвязно. Что уж тут думать, когда сидишь, прождав битый час. Ждать. Чего-то неизвестного. Но не отношений, готовых к отношениям.
То поменяешь положение рук на коленях, то обопрёшься о стол или перекинешь левую ногу поверх правой.
Неисповедимы пути Господни, но сам Он выводит их великолепно. Пора было бы уже сходить пописать. Но и это бы не помогло. Чудесно лишь, что конец всё-таки наступает, когда всё доходит до края пустыни выдержанной скуки.
Мера, конечно, однажды пробуждается. Всё имеет один конец, только у колбасы их два. Так и приходишь к концу.
Если ситуация восстанет – да этой ситуации конец, всё позади. Какие продолжения наших жалких поражений превратятся в триумфы путём восстания через происходящее, когда происходить нечему.
Однажды всё проходит, это однажды постоянно: оно сейчас.
Идём к despacho, перед ним стоят три более или менее старых автобуса. Один идёт в Сан-Антонио-Абад. На него мы и грузим чемоданы и сумки. Шофёр, толстоносый кучерявый мордоворот, неприятный тип, зовут дон Рафаэль. Уж точно не ангел.
Трое с Лео рассаживаются по местам, дон Рафаэль садится за руль, несколько раз предупредительно дудит – мол, отправляемся. Вдоль paseo. Потом поворот направо, длинная аллея платанов. По правую руку порт. Мимо. В гору, среди пустых холмов. Красная земля, много камней. Первые смоковницы, ещё мало светло-зелёной листвы. По краям carretera[23 - Шоссе (исп.).] низкие стены белокаменной кладки. В горбатой местности белеют там и сям поодиночке каменные кубики: крестьянские дома.
Camiоn едет в гору под серым по-северному небом. Земли тут мало, всё больше скалистый известняк. В нём мелкая растительность. Фиговые и миндальные деревья. А это что здесь? Крепость? Четырёхугольный короб. При нём что-то вроде колокольни. Портик. Да это же церковь. Iglesia де Сан-Рафаэль. Отсюда под гору уходит просёлочная дорога, шофёр сбрасывает газ, автобус быстро катится вниз. Дорога прямая, тянется прямиком километров девять. Ни души, ни машины. Иначе – как бы он затормозил? Ведь несчастье скачет быстро. Деревья слева наращивают число. По правую руку на фоне холмов показалась цепочка белых домов. Горка кончается, автобус замедляет каченье. Опять даёт газ. Едем под высокими платанами. Снова появляются дома, близ дороги, по правую руку. Слева проблески воды: бухта Сан-Антонио. Всё больше домов, ещё ближе к дороге, поверхность воды по левую руку становится шире, дорога резко сворачивает: в узкий стометровый calle[24 - Улица, переулок, проезд (исп.).] на подъёме, автобус останавливается.
– Приехали.
Медленно, на одеревенелых ногах, выходим. Вокруг стоят местные и несколько иностранцев. Говорят по-немецки, по-испански, по-английски. Достав из кармана несколько готовых мыслей.
– Я попрошу присмотреть за вашим багажом, не беспокойтесь. Потом пойду с вами к пансиону «Мирамар». Подождите минутку.
Звякают церковные колокола. Двенадцать часов пополудни, двадцать восьмое марта. Тысяча девятьсот тридцать третьего года.
Ты веришь, потому что ты хочешь верить, что ты веришь, а причина не имеет значения.
La isla blanca далеко от дома, «дом» перестал существовать, чтобы его заменили на эту точку мира, которая из поколения в поколение предана традиционному ходу и не может выдвинуть или предложить собственную жизнь.
Всё здесь спит, обычаи, дома, мужчины и женщины, приятный, узко ограниченный сон, и только пришлые чужаки грезят или делают вид, что грезят о вещах, способных заменить им дело, которое они заведомо потеряют или потеряли.
Воображение – это всё, или воображение – это ничто, но всё-таки воображение должно быть, однако становится лишь псевдо, иллюзией и кичливой глупостью. Даже воображение должно уметь точно представлять, чего следует хотеть, а этот прибитый сюда жалкой ненавистью человеческий обломок представляет Ничто, представляет собой ничто, утонувшее в бездонных расчётах, как выдать чеки без покрытия или переводной вексель, когда всё уже истрачено.
Давно истрачено.
И веришь, что ещё надо верить, будто в это верят, хотя никто не верит. Не верит даже, что отныне нет ничего, чему верить, когда неверие прикрыто сомнениями.
Отныне это долгое будущее, лишённое настоящего.
Сюда они бегут, истинные аутсайдеры, из домов, белая и тёмно-коричневая замкнутость которых им ничего не говорит, а здесь эти отверженные сбиваются в группы, которые симулируют симпатию, дружбу и готовность помочь, чтобы тут же распасться на махинации и возможности выгоды: растоптанный творог становится не твёрже, а только жиже.
Но над всем этим черно маячит грозный знак, свастика, которая ни на малейший миг не упускает их из своей хватки.
– Мы платили всего пять песет, потому что у них была перестройка.
– Да они и сейчас ещё перестраиваются.
– Ну, тогда это было потому, что ещё считалась зима, не сезон. А как вам понравился город?
– О, совсем по-американски, с avenidas[15 - Проспекты (исп.).] и с шумом по вечерам от этих громкоговорителей. Гораздо современней, чем Берлин. Мы были и в старой части города, очень примечательно, эти белые узкие переулочки.
– А вы видели собор, iglesia[16 - Церковь (исп.).] де ла Саграда Фамилия?
– Нет, дотуда не дошли. Но зато видели la plaza[17 - Площадь (исп.).] Каталунья. Мы тогда были вечером в народном кабаре, у Хуанито эль Дорадо, пыльный сарай, но певицы фламенко и танцор, сказочно. А вы там были?
– Нет, мы не могли оставить Ассара одного в отеле.
После ночи стояния на корабле, сидения в буфете «Фонда Марина» так хорошо пройтись. Хорошо размять ноги. Твёрдая земля под стопами. Нет людей. Пусто, пусто. Слишком раннее утро. Поглазеть по сторонам: порт, большой прямоугольник воды. Справа ограждённый плоскими волнистыми холмами, окроплёнными пятнами деревьев.
Р. Хаусман. Вход в дом, г. Ибица. 1933–1936
– Сейчас ещё рано, а вот позже вы увидите местных женщин. Ибицианки носят такие костюмы – пять или шесть юбок одна поверх другой, на плечах шарф, локоны как у пажей, их здесь называют risas. И косы. Много побрякушек на груди, но золотых.
И вот мы втроём (или вчетвером) осматриваем paseo Вара де Рей.
– У вас же есть с собой деньги, или у вас банковский счёт?
– Счёт у нас в «Сосьете Женераль» в Париже, а в Барселоне мы были в «Кредит Лионнез». А здесь у нас ещё ничего нет.
– Тогда идите в «Кредито Балеар», я вам сейчас покажу. Вы потом его сами легко найдёте.
Morne batisse[18 - Унылое строение (исп.).].
– Так, а теперь я покажу вам почту, los telegrafos, как здесь говорят.
C зелёными лавочными дверьми выглядит скорее как магазин.
Но что можно увидеть новичку, простоявшему бессонную ночь на палубе, когда перед глазами тянется сплошь всё незнакомое, неведомое и невиданное? Усталая сонливая невосприимчивость, ограниченный взгляд отворачивается в себя. И слух невольно ограничен: то ли это paseo, то ли alameda[19 - Аллея (исп.).], наименование наименее знаемо. В пустой прохладе утра. До чуткости чувств ещё далеко, она не здесь. Кто знает, увидимся ли мы снова на зелёном бреге Шпрее. Я думаю, не-е. Pero aqui, no somos ya presente[20 - Но нас здесь уже не будет (исп.).].
Плестись рядом с Лео, куда? Всё вперёд к поперечной улице, которая ограничивает paseo с юго-востока. Желудок больше ничего не отражает: он не может опомниться от изменившейся еды.
– А вот и despacho, здесь оставляют все вещи, и потом, позже, когда вы сделаете покупки, вы можете всё оставлять здесь.
Ты всюду, только не там, где стоишь или идёшь.
Прямо из Вчера шагнуть сюда, в эту хромоту, которая ни Сейчас, ни Потом.
Мы спотыкаемся о шаги, которые должны сделать завтра.
Вечно синий юг – он серый, туманный, без блеска. Не свет и не тень – если бы Гал мог говорить на ибиценко[21 - Местный диалект, ивисское наречие каталан. языка.], он бы сказал: bruine. Неподвижно недвижимо замерло здесь всё. Финиковые пальмы в больших ящиках, наполненных землёй, перед Альгамброй похожи на зелёные половые тряпки, свесив свои растрёпанные листья-опахала. Сидеть, в протяжённом времени, которое не хочет проходить. Avenida несколько оживилась: заходили люди, задвигались редкие повозки. С высокими колёсами, влекомые мулами. Мужчины почти все в чёрном. Белые парусиновые туфли и раскидистые соломенные шляпы.
– Вот такие альпаргаты, как называются эти туфли, вам надо заказать сейчас в Сан-Антонио, их сделают по мерке, подошвы из конопли выдерживают три месяца. А вот кожаные башмаки вы здесь износите на известняковой почве быстро. Я только сегодня, это в вашу честь, надел настоящую обувь.
Что ещё? Неужели больше никогда не наступит половина одиннадцатого?
Уже не знаешь, куда девать эти ноги! Ещё в camiоn[22 - Автобус (исп.).] снова придётся сидеть. Просиженное утро. Нечто вроде: пустое, но загадочно наполненное сам не знаю, чем и как – медленно и молниеносно проходит впереди, скрываясь сзади за углом.
Глупость будничного положения. Делаешь вид, будто что-то делаешь. Каждому хотелось бы делать что-то другое. Здесь ещё плавают вокруг речевые обрывки языка, который звучит, непонятый, впустую, если звучит. Разве что выговор. Он частично гортанный, частично живенький. Но от этого не становится более понятным. Мысли блуждают. Бессвязно. Что уж тут думать, когда сидишь, прождав битый час. Ждать. Чего-то неизвестного. Но не отношений, готовых к отношениям.
То поменяешь положение рук на коленях, то обопрёшься о стол или перекинешь левую ногу поверх правой.
Неисповедимы пути Господни, но сам Он выводит их великолепно. Пора было бы уже сходить пописать. Но и это бы не помогло. Чудесно лишь, что конец всё-таки наступает, когда всё доходит до края пустыни выдержанной скуки.
Мера, конечно, однажды пробуждается. Всё имеет один конец, только у колбасы их два. Так и приходишь к концу.
Если ситуация восстанет – да этой ситуации конец, всё позади. Какие продолжения наших жалких поражений превратятся в триумфы путём восстания через происходящее, когда происходить нечему.
Однажды всё проходит, это однажды постоянно: оно сейчас.
Идём к despacho, перед ним стоят три более или менее старых автобуса. Один идёт в Сан-Антонио-Абад. На него мы и грузим чемоданы и сумки. Шофёр, толстоносый кучерявый мордоворот, неприятный тип, зовут дон Рафаэль. Уж точно не ангел.
Трое с Лео рассаживаются по местам, дон Рафаэль садится за руль, несколько раз предупредительно дудит – мол, отправляемся. Вдоль paseo. Потом поворот направо, длинная аллея платанов. По правую руку порт. Мимо. В гору, среди пустых холмов. Красная земля, много камней. Первые смоковницы, ещё мало светло-зелёной листвы. По краям carretera[23 - Шоссе (исп.).] низкие стены белокаменной кладки. В горбатой местности белеют там и сям поодиночке каменные кубики: крестьянские дома.
Camiоn едет в гору под серым по-северному небом. Земли тут мало, всё больше скалистый известняк. В нём мелкая растительность. Фиговые и миндальные деревья. А это что здесь? Крепость? Четырёхугольный короб. При нём что-то вроде колокольни. Портик. Да это же церковь. Iglesia де Сан-Рафаэль. Отсюда под гору уходит просёлочная дорога, шофёр сбрасывает газ, автобус быстро катится вниз. Дорога прямая, тянется прямиком километров девять. Ни души, ни машины. Иначе – как бы он затормозил? Ведь несчастье скачет быстро. Деревья слева наращивают число. По правую руку на фоне холмов показалась цепочка белых домов. Горка кончается, автобус замедляет каченье. Опять даёт газ. Едем под высокими платанами. Снова появляются дома, близ дороги, по правую руку. Слева проблески воды: бухта Сан-Антонио. Всё больше домов, ещё ближе к дороге, поверхность воды по левую руку становится шире, дорога резко сворачивает: в узкий стометровый calle[24 - Улица, переулок, проезд (исп.).] на подъёме, автобус останавливается.
– Приехали.
Медленно, на одеревенелых ногах, выходим. Вокруг стоят местные и несколько иностранцев. Говорят по-немецки, по-испански, по-английски. Достав из кармана несколько готовых мыслей.
– Я попрошу присмотреть за вашим багажом, не беспокойтесь. Потом пойду с вами к пансиону «Мирамар». Подождите минутку.
Звякают церковные колокола. Двенадцать часов пополудни, двадцать восьмое марта. Тысяча девятьсот тридцать третьего года.
Ты веришь, потому что ты хочешь верить, что ты веришь, а причина не имеет значения.
La isla blanca далеко от дома, «дом» перестал существовать, чтобы его заменили на эту точку мира, которая из поколения в поколение предана традиционному ходу и не может выдвинуть или предложить собственную жизнь.
Всё здесь спит, обычаи, дома, мужчины и женщины, приятный, узко ограниченный сон, и только пришлые чужаки грезят или делают вид, что грезят о вещах, способных заменить им дело, которое они заведомо потеряют или потеряли.
Воображение – это всё, или воображение – это ничто, но всё-таки воображение должно быть, однако становится лишь псевдо, иллюзией и кичливой глупостью. Даже воображение должно уметь точно представлять, чего следует хотеть, а этот прибитый сюда жалкой ненавистью человеческий обломок представляет Ничто, представляет собой ничто, утонувшее в бездонных расчётах, как выдать чеки без покрытия или переводной вексель, когда всё уже истрачено.
Давно истрачено.
И веришь, что ещё надо верить, будто в это верят, хотя никто не верит. Не верит даже, что отныне нет ничего, чему верить, когда неверие прикрыто сомнениями.
Отныне это долгое будущее, лишённое настоящего.
Сюда они бегут, истинные аутсайдеры, из домов, белая и тёмно-коричневая замкнутость которых им ничего не говорит, а здесь эти отверженные сбиваются в группы, которые симулируют симпатию, дружбу и готовность помочь, чтобы тут же распасться на махинации и возможности выгоды: растоптанный творог становится не твёрже, а только жиже.
Но над всем этим черно маячит грозный знак, свастика, которая ни на малейший миг не упускает их из своей хватки.