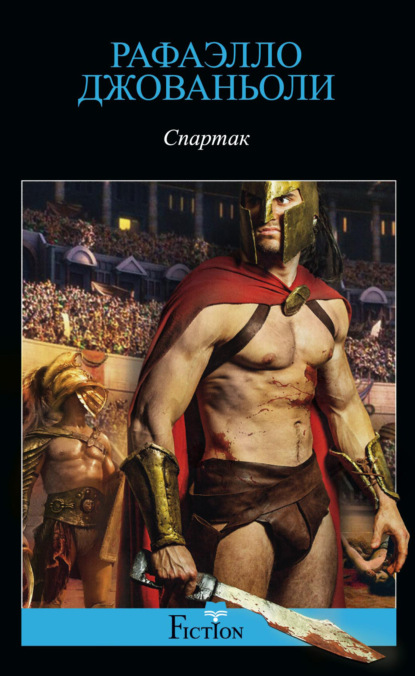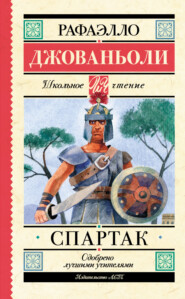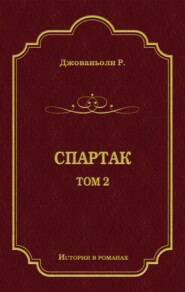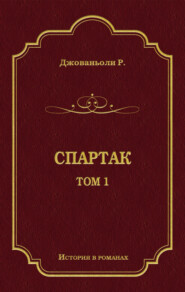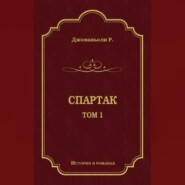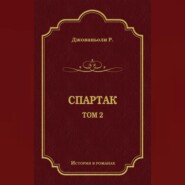По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Спартак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так она – добрая женщина, эта Валерия?
– Она так же добра, как и красива.
– О, в таком случае доброта ее должна быть беспредельной.
– Кажется, и ты к ней очень расположен?
– Я?.. Безразличен! Но мое чувство к ней полно преданности и уважения, как и подобает со стороны человека в моем жалком положении по отношению к такой знатной матроне.
– Ну, так знай же… только ради богов не проговорись при ней об этом, так как она строго запретила мне передавать то, что она мне сказала, – знай, что твои нежные чувства к ней внушены тебе богами, как долг признательности, потому что она-то, Валерия, и заставила в цирке Суллу даровать тебе свободу.
– Как?.. Правду ли ты говоришь?.. – вскричал Спартак, вскочив с места и побледнев как полотно.
– Правду, истинную правду! Только не показывай ей, что ты знаешь об этом.
Спартак склонил голову на грудь и задумался, а Мирдза прибавила:
– Ну, теперь я пойду предупредить Валерию о твоем приходе и, если она позволит, введу тебя к ней.
Спартак, погруженный в свои размышления, не слыхал ее слов и не заметил, как она выпорхнула из комнаты.
Он увидел в первый раз Валерию с месяц назад, когда входил в дом Суллы, чтобы навестить свою сестру. Жену диктатора выносили на носилках, и она, вероятно, не заметила рудиария, стоявшего под портиком ее дома.
Бледное лицо ее с черными огненными глазами произвело на него мгновенное, молниеносное впечатление и вызвало в нем странное, неотразимое влечение к этой женщине; ему вдруг показалось, что конечной целью всех его желаний было бы поцеловать край туники этой красавицы, прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера.
Какая-то непонятная сила притяжения влекла их друг к другу, так как и Валерия, несмотря на свое знатное происхождение, создававшее такую бездну между ними, почувствовала, как мы видели, с первой же встречи влечение к бедному гладиатору.
Вначале обездоленный фракиец силился вырвать из своего сердца это новое чувство; рассудок говорил ему, что эта любовь – безумие, которому нет равного, бред сумасшедшего, ибо осуществлению ее мешают непреодолимые препятствия. Тем не менее воспоминание об этой женщине преследовало его неотступно, примешивалось ко всем его заботам и мыслям, мучило его ум и овладело всеми его мыслями.
Не раз он, почти бессознательно, приходил к дому Суллы, прятался за колонну и ждал, когда выйдет Валерия. Таким образом, невидимый ею, он видел ее несколько раз, и с каждым разом она казалась ему прекраснее; с каждым днем росло в его душе чувство восторга, обожания, безграничной преданности к этой женщине – чувство, которого он не мог объяснить даже самому себе.
Валерия только раз заметила его, и бедному рудиарию показалось, будто она взглянула на него благосклонно, ласково, даже любовно. Но он тотчас отогнал эту мысль, приняв ее за галлюцинацию, за бред своих страстных желаний; он понимал, что она сведет его с ума, если он даст себе волю останавливаться на ней. Понятно, какое впечатление должны были произвести на него слова Мирдзы при таком состоянии его души. Он – в доме Суллы, в нескольких шагах от этой женщины, – нет, от этой богини, которой он готов был принести в жертву свою кровь, честь, самую жизнь! Он увидит ее вскоре перед собой, быть может, останется с ней наедине, услышит ее голос, будет смотреть на ее черты, глаза, улыбку… никогда еще невиданную им улыбку, которая должна быть прекрасна, как весеннее небо!.. Всего несколько минут отделяют его от неизъяснимого счастья, о котором он не смел даже мечтать!.. Но как же это случилось!.. Не сон ли это?.. Не бред ли его разгоряченного воображения?.. Или не сходит ли он с ума? Не сошел ли уже, несчастный?..
При этой мысли Спартак вздрогнул и осмотрелся, ища свою сестру. Но ее не было в комнате. Он схватился за голову, думая унять кровь, молотом стучавшую в его виски, и рассеять туман, заволакивающий его рассудок.
– О боги, – прошептал он, – не дайте мне сойти с ума!..
Он снова огляделся вокруг и, узнав место, где он находится, пришел мало-помалу в себя.
Да, это комната его сестры: вот ее маленькая кровать в углу, две табуретки с вызолоченными ножками – у стены, далее – небольшой деревянный комод с бронзовыми украшениями и на нем – терракотовая луцерна, окрашенная в зеленый цвет, в виде ящерицы, изо рта которой выходит пламя, освещающее комнату…
Спартак, все еще находившийся под влиянием мысли, что он сошел с ума, подошел нетвердыми шагами к комоду и поднес палец к огню. Он отвернул его только тогда, когда жгучая боль убедила его, что он не спит и не бредит. Тогда он напряг всю силу воли, чтобы победить в себе волнение и овладеть своими чувствами.
Это настолько удалось ему, что, когда вернувшаяся вскоре Мирдза позвала его к Валерии, он казался спокойным, хотя сердце его страшно стучало и лицо покрылось мертвенной бледностью.
Мирдза заметила это и с испугом спросила:
– Что с тобой, Спартак? Ты болен?
– Нет, вовсе нет… Я никогда не чувствовал себя лучше, – ответил рудиарий и спустился вслед за сестрой с лестницы (в Древнем Риме рабы жили в верхнем этаже). Мирдза ввела его в конклав Валерии.
Конклавом называлась комната, соответствующая нынешнему будуару, в которой римская матрона занималась чтением, принимала близких друзей, вела интимные разговоры. Обыкновенно комната эта находилась возле ее спальни.
Конклав Валерии в ее зимних покоях (в домах римских патрициев для каждого времени года были особые покои) представлял маленькую уютную комнату, задрапированную дорогой восточной материей, скрывавшей железные нагревательные трубы, поддерживавшие в комнате приятную теплоту даже в самую холодную погоду.
Складки голубых драпировок, подобранных в прихотливые фестоны, спускались от потолка до пола, повитые, словно белым облаком, тончайшим газом, подколотым букетами свежих роз, которые распространяли в комнате дивное благоухание.
С потолка спускалась роскошная золотая лампа с тремя рожками в виде розы среди листьев, искусная работа греческого мастера. Лампа слабо освещала комнату голубоватым матовым светом и в то же время распространяла в ней тонкий аромат арабских духов, примешанных к маслу.
В этой кокетливой комнатке в восточном вкусе не было никакой мебели, кроме мягкого ложа, покрытого белой шерстяной материей с голубыми узорами, нескольких табуреток, обитых такой же материей, и маленького серебряного комода с четырьмя ящиками, на которых были рельефно изображены мастерским резцом четыре победы Суллы.
На комоде стоял графин из горного хрусталя с красными рельефными цветами и арабесками – драгоценное произведение арентинских мастеров. Графин был наполнен прохладительным напитком из фруктового сока, часть которого была отлита в стоявшую возле него чашу из мурринского фарфора – брачный подарок Суллы, настоящее сокровище, стоившее не менее тридцати или сорока миллионов сестерциев, – так высоко ценились в ту пору эти редкие чаши.
В этом мирном, уединенном, благоухающем уголке полулежала ни софе красавица Валерия, одетая в белоснежную тунику с голубой бахромой. Ее божественные плечи, руки, словно выточенные из слоновой кости, белоснежная, полуобнаженная грудь были прикрыты темными волнами рассыпавшихся по ним кудрей. Опершись локтем на широкую подушку, она поддерживала свою голову изящной рукой.
Лицо ее было неподвижно, глаза полузакрыты: казалось, она спала или, по крайней мере, была так погружена в свои, по-видимому, приятные мечты, что ничего не замечала вокруг себя. Она не шевельнулась, когда скрипнула отворяемая дверь, и Мирдза ввела Спартака, не шевельнулась и тогда, когда рабыня, удаляясь, притворила дверь за собой.
Спартак, бледный, как паросский мрамор, стоял несколько минут неподвижно и глядел на красивую матрону в немом благоговении. В груди его клокотала буря чувств, каких он еще никогда не испытывал, и Валерия могла слышать его бурное дыхание; но, казалось, она ничего не слышала. Только через несколько минут она вдруг очнулась, словно ей кто-то прокричал, что перед ней стоит Спартак. Она быстро приподнялась, повернула к нему свое залившееся румянцем лицо и, с наслаждением вздохнув, томно проговорила:
– А!.. это ты!
При звуке ее голоса вся кровь бросилась в лицо Спартака; он сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но не мог выговорить ни слова.
– Да хранят тебя боги, храбрый Спартак! – с улыбкой проговорила Валерия, также с трудом подавлявшая свое волнение. – Садись, – прибавила она, указав на табурет.
Спартак, успевший овладеть собой, ответил дрожащим голосом:
– Боги покровительствуют мне более, чем я заслуживаю, божественная Валерия, так как они дали мне величайшее счастье, какое может выпасть на долю смертного, – счастье пользоваться твоим покровительством.
– Ты не только храбр, но и любезен, – заметила Валерия, в глазах которой блеснула радость.
Помолчав, она спросила по-гречески:
– Ты, наверное, был одним из вождей своего народа, прежде чем попал в плен, не так ли?
– Я был князем одного из самых могущественных фракийских племен в Родопских горах, – ответил Спартак на том же языке, на котором он говорил если и не с аттической, то, по крайней мере, с александрийской изысканностью. – У меня был свой дом, многочисленные стада овец и быков, плодоносные пашни. Я был богат, могуществен, счастлив и – поверь мне, божественная Валерия, – был человеколюбив, справедлив, уважал богов.
Голос его на минуту прервался, а потом он со вздохом прибавил:
– Я не был варваром, не был рожден, чтобы сделаться презренным рабом, жалким гладиатором.
Валерия устремила на него ласковый, полный сострадания взгляд.
– Мне много рассказывала о тебе твоя добрая сестра Мирдза. Твоя необычайная храбрость всем известна, а теперь, разговаривая с тобой, я убеждаюсь, что ты и по уму, и по воспитанию, и по одежде более похож на грека, чем на варвара.
Трудно изобразить, как подействовали на Спартака эти слова. Глаза его наполнились слезами, и он ответил прерывающимся голосом:
– О, да благословят тебя боги за твои добрые слова, великодушная женщина, и да сделают они тебя счастливейшей из людей!
– Она так же добра, как и красива.
– О, в таком случае доброта ее должна быть беспредельной.
– Кажется, и ты к ней очень расположен?
– Я?.. Безразличен! Но мое чувство к ней полно преданности и уважения, как и подобает со стороны человека в моем жалком положении по отношению к такой знатной матроне.
– Ну, так знай же… только ради богов не проговорись при ней об этом, так как она строго запретила мне передавать то, что она мне сказала, – знай, что твои нежные чувства к ней внушены тебе богами, как долг признательности, потому что она-то, Валерия, и заставила в цирке Суллу даровать тебе свободу.
– Как?.. Правду ли ты говоришь?.. – вскричал Спартак, вскочив с места и побледнев как полотно.
– Правду, истинную правду! Только не показывай ей, что ты знаешь об этом.
Спартак склонил голову на грудь и задумался, а Мирдза прибавила:
– Ну, теперь я пойду предупредить Валерию о твоем приходе и, если она позволит, введу тебя к ней.
Спартак, погруженный в свои размышления, не слыхал ее слов и не заметил, как она выпорхнула из комнаты.
Он увидел в первый раз Валерию с месяц назад, когда входил в дом Суллы, чтобы навестить свою сестру. Жену диктатора выносили на носилках, и она, вероятно, не заметила рудиария, стоявшего под портиком ее дома.
Бледное лицо ее с черными огненными глазами произвело на него мгновенное, молниеносное впечатление и вызвало в нем странное, неотразимое влечение к этой женщине; ему вдруг показалось, что конечной целью всех его желаний было бы поцеловать край туники этой красавицы, прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера.
Какая-то непонятная сила притяжения влекла их друг к другу, так как и Валерия, несмотря на свое знатное происхождение, создававшее такую бездну между ними, почувствовала, как мы видели, с первой же встречи влечение к бедному гладиатору.
Вначале обездоленный фракиец силился вырвать из своего сердца это новое чувство; рассудок говорил ему, что эта любовь – безумие, которому нет равного, бред сумасшедшего, ибо осуществлению ее мешают непреодолимые препятствия. Тем не менее воспоминание об этой женщине преследовало его неотступно, примешивалось ко всем его заботам и мыслям, мучило его ум и овладело всеми его мыслями.
Не раз он, почти бессознательно, приходил к дому Суллы, прятался за колонну и ждал, когда выйдет Валерия. Таким образом, невидимый ею, он видел ее несколько раз, и с каждым разом она казалась ему прекраснее; с каждым днем росло в его душе чувство восторга, обожания, безграничной преданности к этой женщине – чувство, которого он не мог объяснить даже самому себе.
Валерия только раз заметила его, и бедному рудиарию показалось, будто она взглянула на него благосклонно, ласково, даже любовно. Но он тотчас отогнал эту мысль, приняв ее за галлюцинацию, за бред своих страстных желаний; он понимал, что она сведет его с ума, если он даст себе волю останавливаться на ней. Понятно, какое впечатление должны были произвести на него слова Мирдзы при таком состоянии его души. Он – в доме Суллы, в нескольких шагах от этой женщины, – нет, от этой богини, которой он готов был принести в жертву свою кровь, честь, самую жизнь! Он увидит ее вскоре перед собой, быть может, останется с ней наедине, услышит ее голос, будет смотреть на ее черты, глаза, улыбку… никогда еще невиданную им улыбку, которая должна быть прекрасна, как весеннее небо!.. Всего несколько минут отделяют его от неизъяснимого счастья, о котором он не смел даже мечтать!.. Но как же это случилось!.. Не сон ли это?.. Не бред ли его разгоряченного воображения?.. Или не сходит ли он с ума? Не сошел ли уже, несчастный?..
При этой мысли Спартак вздрогнул и осмотрелся, ища свою сестру. Но ее не было в комнате. Он схватился за голову, думая унять кровь, молотом стучавшую в его виски, и рассеять туман, заволакивающий его рассудок.
– О боги, – прошептал он, – не дайте мне сойти с ума!..
Он снова огляделся вокруг и, узнав место, где он находится, пришел мало-помалу в себя.
Да, это комната его сестры: вот ее маленькая кровать в углу, две табуретки с вызолоченными ножками – у стены, далее – небольшой деревянный комод с бронзовыми украшениями и на нем – терракотовая луцерна, окрашенная в зеленый цвет, в виде ящерицы, изо рта которой выходит пламя, освещающее комнату…
Спартак, все еще находившийся под влиянием мысли, что он сошел с ума, подошел нетвердыми шагами к комоду и поднес палец к огню. Он отвернул его только тогда, когда жгучая боль убедила его, что он не спит и не бредит. Тогда он напряг всю силу воли, чтобы победить в себе волнение и овладеть своими чувствами.
Это настолько удалось ему, что, когда вернувшаяся вскоре Мирдза позвала его к Валерии, он казался спокойным, хотя сердце его страшно стучало и лицо покрылось мертвенной бледностью.
Мирдза заметила это и с испугом спросила:
– Что с тобой, Спартак? Ты болен?
– Нет, вовсе нет… Я никогда не чувствовал себя лучше, – ответил рудиарий и спустился вслед за сестрой с лестницы (в Древнем Риме рабы жили в верхнем этаже). Мирдза ввела его в конклав Валерии.
Конклавом называлась комната, соответствующая нынешнему будуару, в которой римская матрона занималась чтением, принимала близких друзей, вела интимные разговоры. Обыкновенно комната эта находилась возле ее спальни.
Конклав Валерии в ее зимних покоях (в домах римских патрициев для каждого времени года были особые покои) представлял маленькую уютную комнату, задрапированную дорогой восточной материей, скрывавшей железные нагревательные трубы, поддерживавшие в комнате приятную теплоту даже в самую холодную погоду.
Складки голубых драпировок, подобранных в прихотливые фестоны, спускались от потолка до пола, повитые, словно белым облаком, тончайшим газом, подколотым букетами свежих роз, которые распространяли в комнате дивное благоухание.
С потолка спускалась роскошная золотая лампа с тремя рожками в виде розы среди листьев, искусная работа греческого мастера. Лампа слабо освещала комнату голубоватым матовым светом и в то же время распространяла в ней тонкий аромат арабских духов, примешанных к маслу.
В этой кокетливой комнатке в восточном вкусе не было никакой мебели, кроме мягкого ложа, покрытого белой шерстяной материей с голубыми узорами, нескольких табуреток, обитых такой же материей, и маленького серебряного комода с четырьмя ящиками, на которых были рельефно изображены мастерским резцом четыре победы Суллы.
На комоде стоял графин из горного хрусталя с красными рельефными цветами и арабесками – драгоценное произведение арентинских мастеров. Графин был наполнен прохладительным напитком из фруктового сока, часть которого была отлита в стоявшую возле него чашу из мурринского фарфора – брачный подарок Суллы, настоящее сокровище, стоившее не менее тридцати или сорока миллионов сестерциев, – так высоко ценились в ту пору эти редкие чаши.
В этом мирном, уединенном, благоухающем уголке полулежала ни софе красавица Валерия, одетая в белоснежную тунику с голубой бахромой. Ее божественные плечи, руки, словно выточенные из слоновой кости, белоснежная, полуобнаженная грудь были прикрыты темными волнами рассыпавшихся по ним кудрей. Опершись локтем на широкую подушку, она поддерживала свою голову изящной рукой.
Лицо ее было неподвижно, глаза полузакрыты: казалось, она спала или, по крайней мере, была так погружена в свои, по-видимому, приятные мечты, что ничего не замечала вокруг себя. Она не шевельнулась, когда скрипнула отворяемая дверь, и Мирдза ввела Спартака, не шевельнулась и тогда, когда рабыня, удаляясь, притворила дверь за собой.
Спартак, бледный, как паросский мрамор, стоял несколько минут неподвижно и глядел на красивую матрону в немом благоговении. В груди его клокотала буря чувств, каких он еще никогда не испытывал, и Валерия могла слышать его бурное дыхание; но, казалось, она ничего не слышала. Только через несколько минут она вдруг очнулась, словно ей кто-то прокричал, что перед ней стоит Спартак. Она быстро приподнялась, повернула к нему свое залившееся румянцем лицо и, с наслаждением вздохнув, томно проговорила:
– А!.. это ты!
При звуке ее голоса вся кровь бросилась в лицо Спартака; он сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но не мог выговорить ни слова.
– Да хранят тебя боги, храбрый Спартак! – с улыбкой проговорила Валерия, также с трудом подавлявшая свое волнение. – Садись, – прибавила она, указав на табурет.
Спартак, успевший овладеть собой, ответил дрожащим голосом:
– Боги покровительствуют мне более, чем я заслуживаю, божественная Валерия, так как они дали мне величайшее счастье, какое может выпасть на долю смертного, – счастье пользоваться твоим покровительством.
– Ты не только храбр, но и любезен, – заметила Валерия, в глазах которой блеснула радость.
Помолчав, она спросила по-гречески:
– Ты, наверное, был одним из вождей своего народа, прежде чем попал в плен, не так ли?
– Я был князем одного из самых могущественных фракийских племен в Родопских горах, – ответил Спартак на том же языке, на котором он говорил если и не с аттической, то, по крайней мере, с александрийской изысканностью. – У меня был свой дом, многочисленные стада овец и быков, плодоносные пашни. Я был богат, могуществен, счастлив и – поверь мне, божественная Валерия, – был человеколюбив, справедлив, уважал богов.
Голос его на минуту прервался, а потом он со вздохом прибавил:
– Я не был варваром, не был рожден, чтобы сделаться презренным рабом, жалким гладиатором.
Валерия устремила на него ласковый, полный сострадания взгляд.
– Мне много рассказывала о тебе твоя добрая сестра Мирдза. Твоя необычайная храбрость всем известна, а теперь, разговаривая с тобой, я убеждаюсь, что ты и по уму, и по воспитанию, и по одежде более похож на грека, чем на варвара.
Трудно изобразить, как подействовали на Спартака эти слова. Глаза его наполнились слезами, и он ответил прерывающимся голосом:
– О, да благословят тебя боги за твои добрые слова, великодушная женщина, и да сделают они тебя счастливейшей из людей!