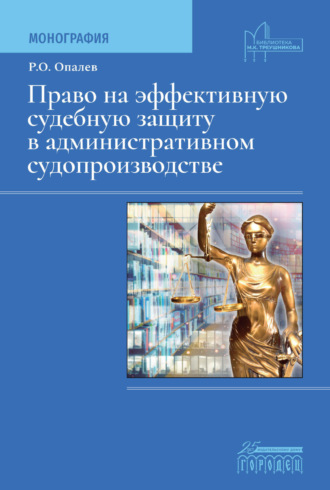
Право на эффективную судебную защиту в административном судопроизводстве
Так или иначе, но на уровне прикладной юридической теории (за рамками политики, философии, социологии права) на первый план, как правило, выходят сами субъективные права, обязанности, полномочия, а не стоящие за ними интересы (потребности). Иными словами, подавляющее число интересов, которые вовлекаются в правовую сферу, в прикладных юридических теориях рассматриваются через призму прав, обязанностей, полномочий, имеющих конкретное юридическое содержание. На наш взгляд, в значительном числе случаев это совершенно оправдано, поскольку многие отраслевые исследования ориентированы на решение конкретных проблем правоприменительной практики, и зачастую сложно обнаружить в современном правовом регулировании интересы, признаваемые правом, но не опосредованные юридическими правами, обязанностями, полномочиями. Подобные интересы являются сравнительно редким явлением. Применительно к гражданам, организациям они обозначаются законодателем с использованием термина «законные интересы»79 (например, в качестве законного интереса можно квалифицировать интерес супругов в совместном проживании, который учитывается при решении вопроса о признании нежелательным пребывания в стране одного из них)80.
В случаях же, когда речь идет не о защите законных интересов, а о защите субъективных прав, лежащие в их основе интересы, безусловно, не составляющие содержание таких прав, могут изучаться юристами в качестве предпосылок возникновения, реализации, в том числе защиты, субъективных прав, а также в качестве целей их осуществления81.
Проблемы разграничения материальных прав и свобод по общему правилу также не включаются в предметную сферу процессуально-правовых исследований. При возникновении необходимости последние пользуются определениями понятия свободы, выработанными в философии, теории права, теории конституционного права. Так, нам представляются убедительными утверждения относительно соотношения категорий «право», «свобода», высказанные представителями конституционного права: «В российской науке конституционного права категории “право” и “свобода” рассматриваются либо как равнозначные, либо как несколько различающиеся правомочия личности. <…>
Свобода личности чаще всего увязывается с такими правомочиями, которые очерчивают сферу ее самостоятельности или защищают от вмешательства в ее внутренний мир. <…>
Достаточную условность различия между «правом» и «свободой» подтверждает и текст Конституции, где некоторые права одновременно рассматриваются как свободы. Так, согласно ст. 20, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Именно эта условность зачастую дает основания объединять права и свободы понятием «субъективные права личности»82.
Предметом судебной защиты по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, всегда выступают как субъективные публичные права, свободы, законные интересы отдельных граждан, организаций, публично-правовых образований, полномочия субъектов власти, так и публичные интересы (интересы неопределенного круга лиц, общества в целом).
Например, при рассмотрении административных дел о взыскании налогов речь идет не только о защите интересов конкретного налогоплательщика, публично-правового образования, полномочий налогового органа, но и о защите интересов общества в целом, интересов населения определенного региона, муниципального образования в пополнении бюджета, средства которого служат для удовлетворения потребностей населения страны, региона, решения вопросов местного значения.
При рассмотрении административных дел об оспаривании решений о призыве на военную службу предметом судебной защиты выступают не только права, свободы, законные интересы конкретного гражданина, полномочия военного комиссариата, но и публичные интересы общества в целом, заключающиеся в обеспечении обороны страны и безопасности государства.
В результате рассмотрения административных дел о госпитализации больного туберкулезом или больного психиатрическим заболеванием защищаются не только права, свободы, законные интересы конкретного гражданина, полномочия прокурора, но и правовые интересы неопределенного круга лиц на охрану жизни и здоровья.
При более глубоком анализе проблемы становится также ясным, что в значительном числе случаев защита публичных интересов и субъективных прав, свобод, законных интересов граждан и организаций в сфере публичных правоотношений, полномочий субъектов власти неразрывно связана с защитой прав, свобод, законных интересов в области гражданских и иных частных правоотношений (любое решение о первых неминуемо оказывает влияние на вторые). Ярким примером выступают дела, связанные с оспариванием решений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. Лишь незначительная часть споров в сфере исполнительного производства (споры по требованиям об освобождении имущества от ареста, о возмещении убытков, причиненных в результате совершения исполнительных действий) исключена законодателем из предмета правового регулирования КАС РФ. Большинство таких споров рассматривается в порядке административного судопроизводства, что не вызывает серьезных возражений в теории. Между тем при разрешении соответствующих дел суды защищают не только и не столько публичные, сколько частные субъективные права сторон исполнительного производства.
Например, при оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, связанных с проникновением в жилое помещение, защищаются не столько процедурные права должника (они для него вторичны), сколько его право на жилище (ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации83). При оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества, которым занижена его рыночная стоимость, защищаются гражданские имущественные интересы сторон исполнительного производства, в том числе право собственности должника. При оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на пенсию должника-гражданина в размере, при котором у должника не остается минимума имущества, необходимого для его существования, защищаются не только и не столько процедурные права должника, сколько его право на социальное обеспечение (ст. 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах84). Перечень таких примеров можно продолжать бесконечно. В соответствующих случаях права, свободы, законные интересы в сфере частных правоотношений, как правило, не являются непосредственным предметом публично-правового спора, но становятся предметом судебной защиты по итогам разрешения спора о правах, свободах, законных интересах в сфере публичных правоотношений наряду с последними.
В теории и судебной практике не всегда учитывается, что публично-правовые споры зачастую предполагают защиту прав из частноправовой сферы. Причины этого следует искать в истории вопроса.
В период действия ГПК РСФСР 1964 г. дела, возникающие из административно-правовых отношений, были подведомственны судам лишь в случаях, указанных в законе. Напротив, дела по спорам, возникающим из частных правоотношений (гражданских, семейных, трудовых, колхозных), если хотя бы одной из сторон в споре являлся гражданин или колхоз, подлежали по общему правилу рассмотрению судами. Исключения составляли лишь случаи, когда разрешение споров из частных правоотношений было прямо отнесено законом к ведению административных или иных органов (ст. 25 указанного Кодекса).
В таких условиях в доктрине была сформирована позиция, согласно которой отличительным признаком изучаемого нами производства является административный характер правоотношений «в чистом виде», не осложненный какими бы то ни было элементами других правоотношений85. Иными словами, считалось, что как только в публично-правовом споре возникают хоть какие-то частноправовые элементы (вопросы о защите частных прав и законных интересов), он сразу же становится спором из гражданских или иных частных правоотношений, подлежащим рассмотрению по общему правилу судом в порядке искового производства. С учетом существовавшего в то время процессуального правового регулирования такая позиция, безусловно, являлась прогрессивной, направленной на расширение сферы действия права советских граждан на судебную защиту.
К сожалению, указанная позиция осталась на вооружении ученых и практиков и после того, как дела о защите прав из публичных правоотношений стали подведомственны судам согласно общему правилу, закрепленному в ст. 46 Конституции Российской Федерации, а не в порядке исключения (как это было прежде). В связи с таким подходом теории и практики к осмыслению конституционного и процессуального законодательства некогда прогрессивная позиция советской доктрины, сохранившись после изменения законодательства, в текущих условиях приобрела реакционный характер, поскольку в результате ее применения при толковании действующего права граждане и организации в отдельных случаях ставятся в менее выгодное положение в спорах с властью, чем то, которым они могли бы обладать86.
Так, заслуживает критики, на наш взгляд, мнение И.А. Приходько, который, ссылаясь на высокую нагрузку судов, возникающую при рассмотрении двух дел (гражданского и административного), вместо одного дела (гражданского) говорит о принципиальной возможности рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства любого административного дела87. При этом автор, опирается на ч. 1 ст. 331 ГПК РФ, ч. 1 ст. 161 КАС РФ, предусматривающую, что дело подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, другие – в порядке административного судопроизводства, если разделение требований невозможно.
Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствующей правовой норме абсолютно четко указано следующее. Рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства требований, подлежащих разрешению по правилам КАС РФ, может осуществляться лишь в случаях, когда такие требования не просто связаны с гражданско-правовыми требованиями, но, более того, разделение предъявленных в суд требований невозможно.
К подобного рода требованиям (требованиям, разделение которых невозможно), безусловно, не относятся, например, требования об оспаривании действий, решений (бездействия) органов государственной власти, соединенные с требованиями о возмещении причиненного ими вреда. Совершенно очевидно, что соответствующие требования могут быть предъявлены и рассмотрены отдельно друг от друга. Следовательно, их разделение не только возможно, но и необходимо, поскольку действующая редакция ГПК РФ не содержит ни одной правовой нормы, согласно которой требования об оспаривании действий, решений (бездействия) органов государственной власти могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства88.
Таким образом, рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства требований, подлежащих в соответствии с законодательством нашей страны рассмотрению в административном судопроизводстве, представляет собой нарушение закона, которое не может быть оправдано ссылками на понятия о процессуальной экономии, эффективной судебной защите (тем более что эффективность защиты прав из публичных правоотношений в порядке гражданского судопроизводства обосновывается не сущностными правовыми аргументами, а лишь ссылками на экономию времени, денежных средств, необходимых для рассмотрения двух дел вместо одного).
Интересно также отметить, что сохраняющейся долгое время особенностью российской правовой системы является практически ничем не ограниченная возможность рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства вопросов (не требований) о незаконности публично-правовых решений, действий (бездействия), выступающих юридическими фактами, лежащими в основе частноправовых требований (например, требований о возмещении вреда)89. Серьезный критический анализ данной проблемы гражданского судопроизводства приведен в работе А.Ф. Васильевой90.
С учетом изложенных соображений заслуживают дополнительного обсуждения также разъяснения, данные в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»91 (далее также – Постановление Пленума № 36), согласно которым споры о признании актов государственных органов и органов местного самоуправления недействительными (незаконными) не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, если исполнение таких актов привело к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, представляется, что позиция, по смыслу которой осложнение публично-правовых споров теми или иными частноправовыми вопросами само по себе влечет необходимость рассмотрения этих споров по правилам гражданского судопроизводства, не основана на действующем законодательстве (сегодня нет нормы процессуального права, в связи с которой эта позиция была сформирована). Более того, такая позиция деструктивна, так как ее применение ведет к необоснованному ограничению процессуальных прав граждан и организаций, предусмотренных процессуальной формой административного судопроизводства (в частности, к возникновению у них вытекающей из ст. 56 ГПК РФ процессуальной обязанности доказывать незаконность оспариваемого акта).
Характер спора (спорного отношения), как и прежде, остается основным критерием, служащим для разграничения порядков рассмотрения гражданских и административных дел. Так, в п. 1 Постановления Пленума № 36 разъяснено, что к административным делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ, относятся дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников правоотношений реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику.
Использование указанного критерия вызывало и будет вызывать сложности, поскольку появляются новые и новые категории дел, и каждое дело имеет свои индивидуальные особенности. При этом во многих спорах сочетаются частноправовые и публично-правовые элементы (вопросы), и иногда сложно однозначно решить, какой из них определяет природу соответствующего спора: публичную или частноправовую. Однако такие сложности постепенно находят свое решение. Число проблем, связанных с разграничением предметов правового регулирования КАС РФ и ГПК РФ, с момента введения в действие КАС РФ непрерывно снижается. Многие из них получили разрешение в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обзорах судебной практики, утверждаемых Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. Вместе с тем решить все проблемные вопросы раз и навсегда невозможно. Они существуют даже в тех правовых системах, в которых десятилетия назад приняты отдельные законы об административном судопроизводстве, созданы административные суды.
Очевидно, тем не менее, что опыт соответствующих стран может способствовать лучшему пониманию объективных проблем процессуального правового регулирования в нашей стране.
Во многих правовых системах Европы и Восточной Азии критерием отнесения того или иного дела (спора) к предмету правового регулирования законодательства об административном судопроизводстве выступает предмет спора. В качестве предмета административного спора рассматривается административный акт (Германия92, Сербия93), соответствующий законный интерес, не ставший субъективным правом (Италия)94, административное действие (Китай)95, административное решение (Финляндия), административное распоряжение (Япония). Предметом могут выступать также другие акты административных органов96, меры, посредством которых был разрешен административный спор или прекращено административное производство97, административные договоры98, а также права и обязанности из них99.
Например, согласно Закону Республики Сербия об административных спорах 2009 г. основным предметом административного спора, как и в прежних законах, остался итоговый административный акт. Следует отметить, что понятие итогового административного акта традиционно считается одним из ключевых в сербской правовой доктрине, определяющим заинтересованность в обращении в суд и саму возможность возбуждения судопроизводства100. Соответствующее понимание природы административного судопроизводства, последовательно опирающееся на принцип разделения властей, по всей видимости, обуславливает отсутствие в сербских законах об административных спорах норм, регулирующих судебные процедуры, в обязательном порядке предшествующие принятию того или иного административного акта (судебные процедуры предварительного судебного контроля (судебного санкционирования).
Как показывает опыт зарубежных стран, введение любых критериев не влечет полного и однозначного разрешения всех вопросов о соотношении предметов правового регулирования законодательства о гражданском судопроизводстве и законодательства об административном судопроизводстве (даже спустя полвека и более). Такие вопросы возникают и обсуждаются и в названных выше странах.
Вместе с тем развитие судебной практики и правовой доктрины постепенно приводит к тому, что число спорных вопросов существенно сокращается. Свидетелями этого стали российские теоретики и практики спустя лишь несколько лет после введения в действие КАС РФ.
При возникновении в той или иной сфере общественных отношений наиболее серьезных сложностей, связанных с разграничением предметов правового регулирования КАС РФ и ГПК РФ, не исключается использование дополнительного критерия такого разграничения. Этим критерием может являться прямое указание закона об отнесении тех или иных категорий дел к предмету регулирования определенного кодекса.
Ярким примером в данном случае выступают дела о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению. Многочисленные разногласия по поводу этой категории дел были разрешены сначала путем дачи аргументированных разъяснений Президиума Верховного Суда Российской Федерации, а затем путем прямого указания соответствующих дел в перечне дел, подлежащих рассмотрению по правилам КАС РФ, в п. 22 ч. 3 ст. 1 данного Кодекса. При принятии указанных решений учитывался прежде всего характер споров (характер спорных правоотношений)101.
Подводя итог проведенному анализу проблемы определения предмета судебной защиты в административном судопроизводстве, можно сказать, что основным критерием для этого традиционно служил и, по всей видимости, должен служить характер спора (характер спорного правоотношения: публично-правовой или частноправовой). При этом пора отказаться от сложившегося в советский период подхода, согласно которому все сомнения относительно правовой природы спора толкуются в пользу его гражданско-правовой природы.
С развитием теории и судебной практики эффективность применения названного критерия будет возрастать. Напротив, замена данного критерия каким-либо другим (например, исчерпывающим перечислением всех административных дел в тексте закона) приведет либо к искусственному сужению круга дел, подлежащих рассмотрению по правилам КАС РФ (а следовательно, и к ограничению прав граждан в спорах с властью)102, либо к необходимости формирования теории и практики, что называется, с нуля. Последнее вряд ли оправдано, поскольку, как показывают сравнительно-правовые исследования в сфере административного судопроизводства, идеальных критериев разграничения предметов правового регулирования нет. При этом устоявшиеся (апробированные) в той или иной правовой системе критерии работают в ней наиболее эффективно103.
§ 3. Принцип эффективной правовой защиты по административным делам
По свидетельству специалистов в области сравнительного правоведения, российское право, ранее принадлежавшее к семье социалистического права, сближается с романо-германской правовой семьей104. На сегодняшний день в качестве одного из примеров такого сближения могло бы рассматриваться развитие законодательства об административном судопроизводстве, а именно принятие 8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации105.
Вместе с тем справедливости ради нужно отметить, что в Европе первый из известных нам законов об административном судопроизводстве был принят в социалистической стране – Югославии – в 1952 г. Он назывался Законом об административных спорах106. Аналогичный закон в разных вариациях действует сегодня в республиках бывшей Югославии: в Сербии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Хорватии, Черногории. В 1956 г. в Испании принят Закон «Об административном судопроизводстве»107, а в 1960 г. в ФРГ – Закон об административном судопроизводстве Германии108.
Отдельные законодательные акты, предназначенные для регулирования процедуры разрешения административных судебных споров, изданы в Азербайджане, Армении, Греции, Грузии, Италии, Латвии, Нидерландах, Польше, Португалии, Украине, Финляндии, Франции, Швеции и других государствах. Самые современные кодификации в сфере административного судопроизводства, учитывающие опыт российской кодификации, проведены в последние годы в Казахстане, Киргизии, Узбекистане109.
Оставляя в стороне политико-правовые теоретические дискуссии о влиянии романо-германской правовой семьи на российское право, тем не менее нельзя не учитывать продолжительный опыт специального правового регулирования процедур рассмотрения административных дел судами в государствах континентальной Европы. Кроме того, Россия ранее принимала на себя и много лет несла обязательства по обеспечению существования эффективных средств правовой защиты в свете прецедентного права Европейского суда по правам человека110. Отсюда представляется полезным изучение стандартов (принципов) в сфере административного судопроизводства, действующих в европейских государствах.
Предваряя данное изучение, стоит отметить, что отечественной теории процессуального права известна характеристика принципов права как «требований», «начал», «руководящих положений», «истоков», «основ», «нормативно-руководящих начал», и, наконец, основных, руководящих, исходных идей, пронизывающих право и лежащих в его основе111.
Как справедливо отмечал В.М. Семенов: «Форма выражения принципов в праве в известной мере зависит и от разновидности того или иного принципа, в частности, от сферы его действия…
Следовательно, содержание принципа как нормативно-руководящего начала целесообразно понимать в узком и широком смысле. В узком смысле – это формулировка принципа в виде отдельной нормы или в содержании ряда норм права. А в широком смысле слова под содержанием принципа следует понимать всю совокупность норм права, которые сложились под влиянием данного принципа, являются выражением его идейно-политических аспектов»112.
В современный период развития процессуальной теории понимание принципов права как правил поведения (прав и обязанностей), содержание которых закреплено в целом ряде норм законодательства, высказано В.М. Шерстюком113.
Впоследствии понимание принципов как норм права (норм-принципов) было обосновано и развито в отечественной процессуальной доктрине А.Ф. Вороновым, указавшим, что принципы – это главные, общие, системообразующие нормы114. Из соответствующего утверждения сделан важный вывод: «Если принцип – это норма права (пусть даже и наиболее общая), то он должен четко и конкретно определять правило поведения, права и обязанности»115.
Европейские стандарты (принципы) административного судопроизводства сформулированы в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее также – Конвенция) и прецедентной практике Европейского суда по правам человека116. Основополагающие нормы, из которых проистекают данные стандарты (принципы), изложены в п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции. Так, согласно п. 1 ст. 6 Конвенции каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.
Использованное в ст. 6 Конвенции словосочетание «спор о гражданских правах и обязанностях», казалось бы, не позволяет распространить закрепленные в данной статье гарантии на сферу административного судопроизводства.

