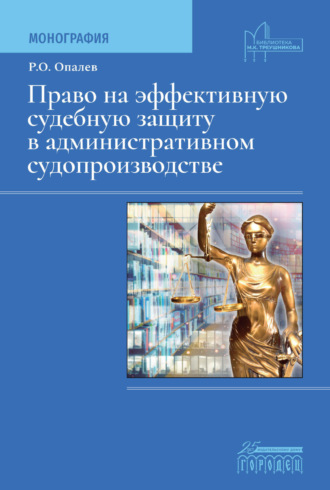
Право на эффективную судебную защиту в административном судопроизводстве
К сожалению, эти хорошо аргументированные и не опровергнутые суждения ученых и по сей день оставлены без должного внимания.
В 1980–1990-е годы началось стремительное расширение компетенции судов в области административной юстиции. В сферу судебного контроля включались все новые и новые публичные правоотношения. Один за другим принимались законы, расширяющие права граждан на обжалование в суд действий, решений органов власти и их должностных лиц31.
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., гарантировала каждому судебную защиту его прав и свобод, закрепив право на обжалование в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ч. 1, 2 ст. 46). В результате были устранены ранее существовавшие ограничения на обращение в суд по спорам о публичном праве.
Само упоминание об административном судопроизводстве впервые появилось в Конституции Российской Федерации 1993 г. (ч. 2 ст. 118 данной Конституции)32. Позднее этот термин использован в тексте ст. 29, 189 принятого 24 июля 2002 г. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации33 (далее – АПК РФ) и лишь в 2015 г. порядок административного судопроизводства был урегулирован в отдельном законодательном акте – КАС РФ. Таким образом, история использования в нашем законодательстве понятия «административное судопроизводство» насчитывает менее тридцати лет.
При этом вплоть до 2015 г. в России отсутствовал единый и полный законодательный акт, специально предназначенный для регулирования процесса рассмотрения административных дел. Это было связано с тем, что гражданская процессуальная форма как самая совершенная и универсальная форма защиты прав граждан и организаций долгое время позволяла достаточно эффективно разрешать споры из публичных правоотношений. Однако необходимость развития административной юстиции, повышения гарантий прав граждан и организаций в спорах с публичной властью обусловили необходимость принятия нового процессуального Кодекса – Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации34.
В результате принятия КАС РФ понятие административного судопроизводства впервые приобрело определенное законодательное содержание. Сегодня под административным судопроизводством можно понимать рассмотрение и разрешение судами общей юрисдикции дел, указанных в ст. 1 данного Кодекса. Главное при этом заключается в том, что с введением в действие КАС РФ возникла процессуальная форма административного судопроизводства, имеющая свои существенные отличительные черты и предназначенная для эффективной защиты прав, свобод, законных интересов граждан и организаций в сфере публичных правоотношений35 (см. об этом подробнее в главе II данной монографии).
Немаловажное значение имеет и то, что принятие КАС РФ создало предпосылки для более глубокой специализации судей, сотрудников аппаратов судов, с отсутствием которой связаны многие практические проблемы защиты субъективных публичных прав36.
Вместе с тем принятие КАС РФ, к сожалению, привело к масштабным спорам между административистами и процессуалистами относительно исключительной научной компетенции тех либо других по исследованию вопросов административного судопроизводства. На наш взгляд, соответствующие споры носили в основном деструктивный характер, поскольку процессуальная теория может быть серьезно обогащена знаниями из административной теории, а последняя, в свою очередь, нуждается в диалоге с теорией процессуальной.
Так, при ознакомлении с современной литературой по административной юстиции, подготовленной специалистами в области административного права, возникают некоторые вопросы о том, насколько складывающееся сегодня понимание административной юстиции релевантно правовой действительности.
Первое, что неизбежно обращает на себя внимание, заключается в следующем. Как и сто лет назад, теоретики исходят из того, что необходимым признаком административной юстиции Российской Федерации является наличие правовых споров (юридических конфликтов, разногласий) в сфере публичного управления37.
Основания таких суждений не ясны даже, если не охватывать понятием административной юстиции (административного судопроизводства) дела об административных правонарушениях38 и оставлять в стороне тот факт, что в порядке административного судопроизводства рассматриваются дела, вытекающие из конституционных и иных (не относящихся к административным) правоотношений. Ежегодное ознакомление с судебной статистикой судов общей юрисдикции позволяет утверждать, что около 90 % административных дел, разрешаемых данными судами по правилам КАС РФ (административные дела, подсудные мировым судьям), являются бесспорными по определению39.
В оставшихся административных делах, возбуждаемых на основании административных исковых заявлений лиц, наделенных публичными полномочиями, спор о публичном праве лишь предполагается на этапе обращения в суд. В значительном числе случаев такие предположения в дальнейшем опровергаются, что не влечет прекращения производства по административному делу или оставления административного искового заявления без рассмотрения.
Ярким примером подобных дел выступают часто встречающиеся в судебной практике административные дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Из ч. 1 ст. 2653 КАС РФ вытекает, что данные дела могут быть рассмотрены судом не только при отсутствии действительного спора, но и при отсутствии административного ответчика как такового. Так обычно и происходит.
Второе, что можно увидеть при ознакомлении с современной литературой по проблемам административной юстиции, – преувеличение роли новелл КАС РФ для защиты прав граждан и организаций, вытекающих из публичных правоотношений.
Положительно оценивая принятие данного Кодекса и его значение для развития судебной защиты прав40, мы тем не менее не можем согласиться с категоричностью многих и многих суждений коллег.
Так, А.Б. Зеленцовым, О.А. Ястребовым утверждается, что до недавнего времени в процессуальной доктрине России доминировало устаревшее теоретическое положение об отсутствии спора о праве в судебных делах, возникающих из административно-правовых отношений41. К сожалению, авторы не конкретизируют свое утверждение и не приводят литературных источников, свидетельствующих о доминировании такой позиции. Вместе с тем ознакомление с работами специалистов по процессуальному праву позволяет сделать вывод о том, что указанное теоретическое положение было опровергнуто в процессуальной литературе еще в середине прошлого века и явно не является доминирующим42.
А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов утверждают, что до принятия КАС РФ в нашей стране господствовала модель административной юстиции, не сфокусированная на том, чтобы выяснить, нарушены ли права частного лица, причинен ли этим правам ущерб незаконными актами (действиями или решениями) публично администрации43. На наш взгляд, чтобы опровергнуть столь категоричное суждение, достаточно обратиться к конкретным нормам ГПК РСФСР 1964 г.44, не говоря уже о Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации45 (далее – ГПК РФ) в редакции, действовавшей до 15 сентября 2015 г., а именно к ст. 2, 235, 2392, 2397 ГПК РСФСР 1964 г., в которых прямо сказано о защите прав граждан.
Авторы также считают, что именно КАС РФ предоставил сторонам публично-правовых споров весь арсенал средств искового производства, в том числе права на совершение распорядительных действий (отказ от иска, изменение либо признание иска, заключение соглашения о примирении сторон)46. Вместе с тем совершение подобных действий (за исключением заключения мирового соглашения) было возможным по правилам ГПК РФ, действовавшего в первоначальной своей редакции47.
При этом стоит признать, что КАС РФ сохранил и развил соответствующий подход к правовому регулированию процессуальных отношений. Данный кодекс не ограничивает распорядительные права сторон спора какими-либо формальными (жесткими) критериями, в том числе категорией административного дела48. Положениями КАС РФ не предусмотрено ни одной категории административных дел, по которой в принципе не допускался бы отказ от административного иска, признание административного иска. Единственной категорией дел, по которой не допускается утверждение соглашения о примирении, являются дела об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (ч. 12 ст. 213 КАС РФ). На наш взгляд, это единственное категоричное ограничение вряд ли можно признать оправданным, поскольку и по данным делам есть вопросы, по которым не должно исключаться примирение сторон (например, вопросы распределения судебных расходов). Распорядительные права могут быть ограничены только с учетом содержания соглашения, отказа, признания и конкретных обстоятельств, но не категории спора. Общее и универсальное для всех категорий административных дел правило заключается в том, что суд не принимает отказ от административного иска, признание административного иска, не утверждает соглашение о примирении, если это нарушает права других лиц (ч. 5–6 ст. 46, ч. 6 ст. 1371 КАС РФ).
Положительно оценивая обновление в 2015 г. процессуальной терминологии (замену терминов «заявление», «заявитель» и «заинтересованное лицо» терминами «административное исковое заявление», «административный истец», «административный ответчик»), мы вместе с тем не понимаем, каким образом такое совершенствование терминологического аппарата позволяет утверждать, что до принятия КАС РФ в судебном процессе отсутствовала активность суда в собирании, исследовании и оценке доказательств по делам, вытекающим из публичных правоотношений49.
Вызывает вопросы также высказанное в литературе по административно-правовой тематике предложение включить в предмет судебной проверки не только законность, но и обоснованность оспариваемых административных актов50, ведь обоснованность давно является предметом судебного контроля по делам, возникающим из публичных правоотношений. Во всяком случае, на это прямо указано в подп. «в» п. 3 ч. 9 ст. 226 КАС РФ.
Соответствующее положение содержалось в проекте этого Кодекса изначально.
И, наконец, последнее, на что представляется важным обратить внимание в рамках краткого критического обсуждения некоторых общих положений теории административной юстиции, разрабатываемой специалистами по административному праву. Современно звучат сегодня высказанные сто лет назад мысли В.А. Рязановского: «Такие классические научные дисциплины, как гражданский процесс и уголовный, нашли признание своей самостоятельности лишь в XIX столетии… молодой административный процесс лишь за последние десятилетия начинает подниматься до подобающего ему самостоятельного места наряду с гражданским и уголовным процессами»51.
Вызывает сожаление, на наш взгляд, то, что по сей день правоведы стремятся, расширив традиционное понимание предмета административного права, включить процессуальную отрасль права (право административного судопроизводства) в состав материально-правовой отрасли (отрасли административного права)52 либо объединить в одну отрасль материальные и процессуальные нормы53. Полагаем, что подобное решение являлось бы шагом назад, в первую половину ХIX в., во времена, когда процессуальное право рассматривалось как составная часть материального права (гражданский процесс рассматривался как часть гражданского права, уголовный процесс – как часть уголовного права)54.
По справедливому замечанию, изложенному в статье А.Б. Зеленцова: «Включение судебного административно-процессуального права в систему административного права в качестве подотрасли ныне равнозначно включению гражданского процессуального права в качестве подотрасли в систему гражданского права»55. Как две самостоятельные отрасли права рассматривает административное право и административно-процессуальное право А.И. Стахов56.
Принимая во внимание также то, что включение процессуального права в состав административного (материального) права на практике отстранило бы от исследования административного судопроизводства специалистов, детально занимавшихся его проблемами многие и многие десятилетия (специалистов по гражданскому процессу), вряд ли соответствующее теоретическое решение можно считать конструктивным, направленным на развитие правовой доктрины, законодательства и судебной практики57.
Сложно согласиться и с широко освещаемой в литературе последних лет идеей объединения одним понятием (понятием административного процесса) совершенно разнородной юридической деятельности органов публичной администрации и судов в рамках так называемого интегративного подхода к административному процессу58. Так, П.П. Серковым убедительно и последовательно продемонстрировано, что административное судопроизводство и административный процесс как деятельность органов исполнительной власти имеют самые существенные различия при сравнении их задач, принципов, организационных основ, правовых статусов субъектов соответствующих отношений59. Аналогичные доводы представлены и в современной процессуальной литературе60.
На наш взгляд, сегодня наибольшего внимания заслуживают вышеизложенные суждения, высказанные еще столетие назад классиком отечественной процессуально-правовой мысли В.А. Рязановским, состоящие в том, что административное судопроизводство и право административного судопроизводства давно заслужили самостоятельный статус наряду, в частности, с гражданским судопроизводством и гражданским процессуальным правом, уголовным судопроизводством и уголовным процессуальным правом. Соответствующая теоретическая проблема будет рассмотрена нами подробнее во второй главе настоящего исследования.
§ 2. Предмет судебной защиты в административном судопроизводстве
Понятие публичного правоотношения является ключевым для характеристики предмета судебной защиты в административном судопроизводстве, а также основных сущностных особенностей процессуальной формы административного судопроизводства.
Несмотря на широкий спектр точек зрения по поводу существенных признаков публичных правоотношений, выделяемых сегодня в литературе61, на наш взгляд, бесспорными являются два из них.
1. Обязательное участие в указанных правоотношениях лиц, наделенных публичными полномочиями, т.е. субъектов, наделенных предусмотренными правом правами и обязанностями совершать действия, принимать решения, носящие обязательный характер для конкретных адресатов таких действий (решений), для неопределенного круга лиц (например, решения о наложении ареста на имущество, о взыскании исполнительского сбора).
При этом заслуживают внимания и анализа со стороны специалистов по материальному праву суждения П.П. Серкова о том, что властный характер не является необходимым признаком публичных правоотношений62.
На первый взгляд, можно было бы предположить, что именно обязательность совершаемых действий, принимаемых решений, а не наличие у одной стороны конкретного правоотношения только прав, а у другой – только обязанностей, свидетельствует о том, что даже публичные правоотношения горизонтального характера, правоотношения, в которых у субъекта публичных полномочий имеются лишь обязанности, а у гражданина, организации наличествуют только права, носят властный характер. Примечательно, что и гражданско-правовые отношения могут являться как простыми, т.е. такими, в которых одна сторона управомочена, а другая сторона лишь несет обязанность перед первой (например, отношения по договору займа, обязательства из причинения вреда), так и сложными63, и это, видимо, само по себе не говорит об их властном либо невластном характере. Вместе с тем, если орган власти или иное лицо, наделенное публичными полномочиями, реализует такие полномочия где-то за рамками спорного материального правоотношения (например, правоотношения по рассмотрению обращения гражданина на основании Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»64), неизбежно возникает вопрос о том, почему такие полномочия должны влиять на характеристику данного правоотношения.
Во всяком случае, стоит отметить, что, в отличие от частных правоотношений, в публичных правоотношениях без действий, решений публичного субъекта зачастую нельзя обойтись, просто не вступая в правоотношения с ним, а вступив в правоотношения с другим субъектом, т.е. у гражданина, организации при определенных обстоятельствах нет выбора в круге субъектов, с которыми можно вступить в правоотношения (субъектов, действиями, решениями которых можно удовлетворить соответствующий интерес, потребность).
Следует также учитывать, что о властном характере публичных правоотношений довольно четко сказано в ч. 4 ст. 4 КАС РФ, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»65.
2. Второй признак заключается в представлении лицами, наделенными публичными полномочиями, в рамках соответствующих правоотношений именно публичных интересов, имея в виду то, что понятие публичных интересов (интересов общества, неопределенного круга лиц) не тождественно понятиям государственных, муниципальных интересов (понятиям интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), а тем более понятию ведомственных интересов66.
Выработанное теорией деление отраслей права на частные и публичные значительно облегчает работу практиков по квалификации тех или иных конкретных материальных правоотношений в качестве частноправовых или публично-правовых. В отдельных случаях сложной в практической деятельности может являться квалификация отношений, регулируемых комплексными отраслями права (например, правом исполнительного производства).
Вместе с тем стоит согласиться с аргументированной точкой зрения П.П. Серкова, согласно которой конкретика механизма правоотношений показывает, что, по существу, не имеется места для моноотраслевых правоотношений67, ведь даже дееспособность участников публичных правоотношений регулируется нормами гражданского права. Как писала Т.Е. Абова: «Частное и публичное начало в семейных, земельных правоотношениях, да и в некоторых гражданских правоотношениях настолько тесно переплетены, что их трудно отделить друг от друга»68.
С учетом изложенного ключевая теоретическая и практическая дилемма понятия предмета судебной защиты в административном судопроизводстве лежит в плоскости соотношения частных и публичных начал (элементов) тех или иных материальных правоотношений.
Ответ на вопрос о том, что является предметом судебной защиты при рассмотрении конкретного административного дела, относящегося к любой категории публично-правовых споров, может видеться очевидным лишь при первом погружении в проблему. Несомненно, предметом судебной защиты в административном судопроизводстве должны выступать права индивидуальных и коллективных субъектов69, вытекающие из административных, налоговых, избирательных и иных публичных правоотношений70, за исключением уголовных правоотношений и правоотношений, выступающих предметом рассмотрения в конституционном судопроизводстве. Отдельные примеры разрешения споров из публичных правоотношений в порядке гражданского судопроизводства (например, дел об оспаривании действий нотариусов, органов ЗАГС), являются, на наш взгляд, исторической случайностью. Эти примеры на протяжении десятилетий подвергались и продолжают подвергаться существенной аргументированной критике в научной литературе (см. § 1 главы I настоящей монографии).
Высказанное утверждение о предмете судебной защиты в административном судопроизводстве сразу же нужно дополнить суждением о том, что предметом судебной защиты являются полномочия71, свободы и законные интересы72, а также публичные интересы73 в соответствующих сферах общественных отношений.
Полагаем уместным сделать определенные оговорки по вопросам использования здесь и далее терминов «интерес», «законный интерес», «свобода». Полемика по поводу понятия интереса в праве носит философско-правовой характер. Именно по этой причине, на наш взгляд, она длится очень долгое время. Спектр мнений на этот счет варьируется от утверждений о теоретической, практической бесполезности понятия «интерес»74 до утверждений, строящихся на придании ему важного значения в понимании явлений правовой действительности75. Не претендуя на окончательное разрешение споров, ведущихся уже многие десятилетия, постараемся кратко обозначить самую общую позицию по соответствующей проблематике.
На наш взгляд, исходным понятием должно являться понятие потребности, т.е. объективной нуждаемости человека как биологического существа и (или) как личности либо общества, социальной группы как совокупности индивидов в получении абстрактных благ (питания, одежды, духовных ценностей и т.д.). Осознание потребности приводит к формированию интереса, и именно интересы, а не потребности, могут по общему правилу учитываться в рамках правового анализа явлений действительности. Во всяком случае интересы индивидов могут быть выявлены с использованием социологических методов исследования, которые применялись и применяются в современных правовых работах. Вопрос же о том, каким образом могут быть выявлены потребности, которые еще не осознаны человеком, остается открытым. На наш взгляд, можно лишь исходить из наличия таких потребностей и оперировать понятием потребности на философско-правовом, но не научном уровне анализа.
Сложно согласиться с тем, что под интересами следует понимать лишь социальные потребности, не относя к ним, в частности, физиологические потребности (например, потребность в пище)76, ведь очевидно, что даже физиологические потребности современного человека приобретают социальное содержание (например, каждый из нас удовлетворяет свою потребность в еде, исходя не только из необходимости выживания, но и из предпочтений, сложившихся у него как личности в определенной социальной среде).
Как сказано выше, интерес представляет собой осознанную потребность. Не могут быть приняты идеи, строящиеся на полном уходе от учета субъективной составляющей правовой деятельности (поведения) путем постановки на передний план якобы совершенно объективных интересов (потребностей). В данном случае сразу же возникает вопрос о том, кто является субъектом познания этих объективных интересов (потребностей). Абсолютный разум, Бог? Видимо, нет. Люди принимают нормативные правовые акты, решения, совершают гражданско-правовые сделки, пишут статьи, монографии и диссертации, исходя из своего субъективного понимания потребностей. Нивелировать это при всем желании (если оно имеется) просто невозможно. Такова действительность (реальность).
В реальном правовом регулировании невозможно с абсолютной достоверностью обнаружить объективные интересы (потребности). Вопрос, как правило, состоит в том, кто выступает субъектом познания, выражения, проведения в жизнь того, что одни назовут объективными интересами, другие – потребностями. Таким образом, объективные интересы (потребности), на наш взгляд, приобретают с точки зрения права какое-либо практическое, в том числе научно-практическое, значение лишь после их осознания людьми. Даже если идеализировать современное право и полагать, что в нем отражены объективные интересы (потребности), нужно понимать, что уяснение этих интересов (потребностей) зависит от субъекта толкования. При этом даже в результате толкования гипотез, диспозиций и санкций правовых норм в теории и правоприменительной практике возникают разные точки зрения, что уж говорить об уяснении содержания интереса, т.е. смысла, прямо не сформулированного в нормативных правовых актах, стоящего за нормами права.
С учетом этого высказанные в советской теории гражданского процесса утверждения об интересе как объективной потребности77, предложения вытеснить из сферы правового анализа понятие «интерес», заменив его понятием потребности, вызывают возражения. В интересе объективное преломляется через субъективное (сознание человека, сознания совокупности людей)78, и это нельзя изменить или проигнорировать.
В процессе познания потребностей (формирования интересов) возможны отклонения, ошибки, в результате которых в сознании формируются идеи не об объективно существующих потребностях, а заблуждения относительно них. В таких случаях люди (иногда даже целые общества) исходят из мнимых, а не реально существующих потребностей, ошибочно возводя их в ранг целей, мотивов своей деятельности (на соответствующих этапах наступает неверное осознание не только самих потребностей, но и предметов, при помощи которых они могут удовлетворяться), а также возводя их в ранг закрепленных правом интересов (не исключено опосредование мнимых потребностей субъективными правами, обязанностями, полномочиями).

