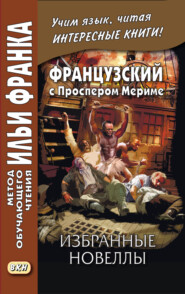По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Партия в триктрак
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1830
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полчаса длилась мертвая тишина. Они оба сидели на софе и ни разу не взглянули друг на друга. Роже встал первый и довольно спокойно пожелал ей спокойной ночи.
– Доброй ночи! – ответила она сухо и холодно.
Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собою тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было покрыто позором.
На следующий день Габриэль была весела, как обычно. Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сделался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не говорил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его печаль чувствительности, вполне законной, но чрезмерной, и несколько раз пробовал его утешить, но он решительно отвергал эти утешения, высказывая полнейшее равнодушие к судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил себе даже яростный выпад против голландской нации и пытался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни одного порядочного человека. А между тем тайком он собирал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ничего не мог ему сообщить.
Месяца полтора спустя после злосчастной партии в триктрак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то гардемарином, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за проявленную к нему благосклонность. Габриэль была воплощенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уверился в этом и пришел в бешенство. Единственными чувствами, способными еще привязать его к жизни, были любовь и остатки гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств внезапно рушилось. Он осыпал оскорблениями надменную комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности он ее не поколотил.
– Должно быть, – говорил он, – этот фатишка вам дорого заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились бы расточать свои ласки самому грязному из наших матросов, лишь бы у него было чем платить.
– А почему бы и нет? – холодно возразила актриса. – Да, я взяла бы деньги у матроса, но… не стала бы его обворовывать.
У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взором; потом, сделав над собою страшное усилие, швырнул оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не поддаться искушению.
В тот вечер я довольно поздно проходил мимо его квартиры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу. Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, едва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письменного стола и стал вглядываться в его черты; они так изменились, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы его с трудом. Вдруг я заметил на столе уже запечатанное письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал на меня различные поручения. Пока я читал, он продолжал писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габриэль… Можете себе представить мое удивление! Пораженный его решением, я воскликнул:
– Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастливый человек?
– Друг мой! – сказал он, запечатывая письмо. – Ты ничего не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник. Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею прибить ее.
Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все, что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришло в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том, что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять наполеондоров.
– Значит, – вскричал он с горькой иронией, – я мелкий вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым воришкой!
И он расхохотался.
Я залился слезами.
Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему на грудь; то была Габриэль.
– Прости меня! – воскликнула она, сжимая его своими руками. – Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хочешь, я тоже украду?.. Я уже украла… Да, я украла: я украла золотые часы… Что может быть хуже?
Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто бы прояснилось.
– Нет, бедное дитя, – сказал он, тихонько отстраняя ее, – я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не в состоянии переносить боль, которую я испытываю.
– Ну, хорошо. Если ты хочешь умереть, Роже, я умру с тобой! Без тебя что значит для меня жизнь? Я не труслива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.
Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фраза заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала улыбку.
– Ты смеешься, мой офицер! – воскликнула она, хлопая в ладоши и целуя его. – Ты не убьешь себя!
Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ругаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся крепких слов.
Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал ему:
– Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, которые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в этой жизни.
Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.
Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибельное намерение, если бы он не получил от министра приказ отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в задачи которого входило пробиться сквозь английскую эскадру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше с честью умереть от английской пули, чем самому прекратить свое существование без славы и без всякой пользы для отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из восьмидесяти тысяч франков он раздал матросам-инвалидам, вдовам и сиротам моряков. Остальное он передал Габриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее были скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч она раздала бедным. На остальные накупила тряпок.
Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатея». Матросы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но командовал нами полнейший невежда, воображающий себя Жаном Бартом только потому, что ругался не хуже каптенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы благополучно вышли из рейда: нам помог сильный ветер, принудивший блокирующую эскадру уйти в открытое море. Наше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португалии спалили английский корвет и судно Ост-Индской компании.
К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал, что от его неловкости наше плавание становилось еще опаснее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь приключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять печальные мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем порту; теперь он ограничивался только исполнением своих служебных обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирался в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги. Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.
Однажды, видя его удрученное состояние, я решился заговорить с ним:
– Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков. Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондоров, а угрызений совести у тебя больше, чем на миллион. А скажи: когда ты был любовником жены префекта в ***, у тебя не было угрызений совести? А между тем она стоила подороже, чем двадцать пять наполеондоров.
Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответив.
Я продолжал:
– В конце концов, у твоего преступления (ведь ты утверждаешь, что это – преступление) был достойный уважения повод, и оно проистекало от возвышенного чувства.
Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло бешенство.
– Конечно. Что сталось бы с Габриэль, если бы ты проиграл? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю рубашку… Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нищету… Именно ради нее, из любви к ней ты сплутовал… Есть люди, которые из-за любви убивают других… убивают себя… Ты же, милый Роже, сделал больше. Людям вроде нас с тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы украсть, чем для того, чтобы покончить с собой.
– Теперь, может быть, я вам кажусь смешным, – обратился ко мне капитан, прерывая рассказ. – Но уверяю вас, что в ту минуту дружеские чувства к Роже придавали мне красноречие, которого в настоящее время я в себе не нахожу. И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!
Роже помолчал, потом протянул мне руку.
– Друг мой, – сказал он, по-видимому, сделав над собой большое усилие. – Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий подлец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров, – вот и все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя презираю… Оценить свою честь меньше, чем в двадцать пять наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль от нищеты»… Нет, нет… о ней я не думал… В ту минуту я не был влюбленным… я был игроком… я был вором… Я украл деньги, чтобы присвоить их… и поступок этот унизил, опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни мужества, ни любви… Я живу и не думаю больше о Габриэль… я – конченый человек.
Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пистолеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.
В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам приближался; было очевидно, что до наступления темноты нам придется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже, и они совещались добрых четверть часа. Роже вернулся на палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.
– Через два часа, – сказал он, – завяжется бой. Наш храбрец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем потерял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благородный, – это подпустить к себе врага, затем, взяв его на абордаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; другим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было – несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканскому берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побоялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возможность уйти от него. Но наш капитан – ни трус, ни герой: он предоставит врагам издали громить нас, с часок продержится, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут портсмутские понтоны. А я, я туда не собираюсь.
– А может быть, – сказал я, – мы первыми же выстрелами причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет прекратить погоню?
– Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым; пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только ранен, дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно быть смертным одром для такого моряка, как я.
– Что за вздор! – воскликнул я. – Хорошие поручения ты мне даешь!
– Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь самоубийством только в надежде, что я буду убит. Ну, обещай мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услугой к подшкиперу, и он не откажет мне.
Подумав, я сказал:
– Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен, без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В этом случае я согласен избавить тебя от мучений.
– Я буду смертельно ранен или просто буду убит.
Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой минуты он стал спокойнее, даже какой-то военный задор заиграл на его лице.
– Доброй ночи! – ответила она сухо и холодно.
Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собою тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было покрыто позором.
На следующий день Габриэль была весела, как обычно. Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сделался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не говорил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его печаль чувствительности, вполне законной, но чрезмерной, и несколько раз пробовал его утешить, но он решительно отвергал эти утешения, высказывая полнейшее равнодушие к судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил себе даже яростный выпад против голландской нации и пытался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни одного порядочного человека. А между тем тайком он собирал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ничего не мог ему сообщить.
Месяца полтора спустя после злосчастной партии в триктрак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то гардемарином, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за проявленную к нему благосклонность. Габриэль была воплощенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уверился в этом и пришел в бешенство. Единственными чувствами, способными еще привязать его к жизни, были любовь и остатки гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств внезапно рушилось. Он осыпал оскорблениями надменную комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности он ее не поколотил.
– Должно быть, – говорил он, – этот фатишка вам дорого заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились бы расточать свои ласки самому грязному из наших матросов, лишь бы у него было чем платить.
– А почему бы и нет? – холодно возразила актриса. – Да, я взяла бы деньги у матроса, но… не стала бы его обворовывать.
У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взором; потом, сделав над собою страшное усилие, швырнул оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не поддаться искушению.
В тот вечер я довольно поздно проходил мимо его квартиры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу. Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, едва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письменного стола и стал вглядываться в его черты; они так изменились, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы его с трудом. Вдруг я заметил на столе уже запечатанное письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал на меня различные поручения. Пока я читал, он продолжал писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габриэль… Можете себе представить мое удивление! Пораженный его решением, я воскликнул:
– Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастливый человек?
– Друг мой! – сказал он, запечатывая письмо. – Ты ничего не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник. Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею прибить ее.
Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все, что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришло в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том, что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять наполеондоров.
– Значит, – вскричал он с горькой иронией, – я мелкий вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым воришкой!
И он расхохотался.
Я залился слезами.
Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему на грудь; то была Габриэль.
– Прости меня! – воскликнула она, сжимая его своими руками. – Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хочешь, я тоже украду?.. Я уже украла… Да, я украла: я украла золотые часы… Что может быть хуже?
Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто бы прояснилось.
– Нет, бедное дитя, – сказал он, тихонько отстраняя ее, – я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не в состоянии переносить боль, которую я испытываю.
– Ну, хорошо. Если ты хочешь умереть, Роже, я умру с тобой! Без тебя что значит для меня жизнь? Я не труслива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.
Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фраза заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала улыбку.
– Ты смеешься, мой офицер! – воскликнула она, хлопая в ладоши и целуя его. – Ты не убьешь себя!
Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ругаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся крепких слов.
Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал ему:
– Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, которые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в этой жизни.
Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.
Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибельное намерение, если бы он не получил от министра приказ отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в задачи которого входило пробиться сквозь английскую эскадру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше с честью умереть от английской пули, чем самому прекратить свое существование без славы и без всякой пользы для отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из восьмидесяти тысяч франков он раздал матросам-инвалидам, вдовам и сиротам моряков. Остальное он передал Габриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее были скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч она раздала бедным. На остальные накупила тряпок.
Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатея». Матросы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но командовал нами полнейший невежда, воображающий себя Жаном Бартом только потому, что ругался не хуже каптенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы благополучно вышли из рейда: нам помог сильный ветер, принудивший блокирующую эскадру уйти в открытое море. Наше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португалии спалили английский корвет и судно Ост-Индской компании.
К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал, что от его неловкости наше плавание становилось еще опаснее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь приключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять печальные мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем порту; теперь он ограничивался только исполнением своих служебных обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирался в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги. Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.
Однажды, видя его удрученное состояние, я решился заговорить с ним:
– Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков. Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондоров, а угрызений совести у тебя больше, чем на миллион. А скажи: когда ты был любовником жены префекта в ***, у тебя не было угрызений совести? А между тем она стоила подороже, чем двадцать пять наполеондоров.
Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответив.
Я продолжал:
– В конце концов, у твоего преступления (ведь ты утверждаешь, что это – преступление) был достойный уважения повод, и оно проистекало от возвышенного чувства.
Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло бешенство.
– Конечно. Что сталось бы с Габриэль, если бы ты проиграл? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю рубашку… Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нищету… Именно ради нее, из любви к ней ты сплутовал… Есть люди, которые из-за любви убивают других… убивают себя… Ты же, милый Роже, сделал больше. Людям вроде нас с тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы украсть, чем для того, чтобы покончить с собой.
– Теперь, может быть, я вам кажусь смешным, – обратился ко мне капитан, прерывая рассказ. – Но уверяю вас, что в ту минуту дружеские чувства к Роже придавали мне красноречие, которого в настоящее время я в себе не нахожу. И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!
Роже помолчал, потом протянул мне руку.
– Друг мой, – сказал он, по-видимому, сделав над собой большое усилие. – Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий подлец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров, – вот и все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя презираю… Оценить свою честь меньше, чем в двадцать пять наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль от нищеты»… Нет, нет… о ней я не думал… В ту минуту я не был влюбленным… я был игроком… я был вором… Я украл деньги, чтобы присвоить их… и поступок этот унизил, опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни мужества, ни любви… Я живу и не думаю больше о Габриэль… я – конченый человек.
Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пистолеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.
В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам приближался; было очевидно, что до наступления темноты нам придется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже, и они совещались добрых четверть часа. Роже вернулся на палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.
– Через два часа, – сказал он, – завяжется бой. Наш храбрец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем потерял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благородный, – это подпустить к себе врага, затем, взяв его на абордаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; другим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было – несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканскому берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побоялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возможность уйти от него. Но наш капитан – ни трус, ни герой: он предоставит врагам издали громить нас, с часок продержится, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут портсмутские понтоны. А я, я туда не собираюсь.
– А может быть, – сказал я, – мы первыми же выстрелами причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет прекратить погоню?
– Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым; пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только ранен, дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно быть смертным одром для такого моряка, как я.
– Что за вздор! – воскликнул я. – Хорошие поручения ты мне даешь!
– Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь самоубийством только в надежде, что я буду убит. Ну, обещай мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услугой к подшкиперу, и он не откажет мне.
Подумав, я сказал:
– Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен, без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В этом случае я согласен избавить тебя от мучений.
– Я буду смертельно ранен или просто буду убит.
Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой минуты он стал спокойнее, даже какой-то военный задор заиграл на его лице.