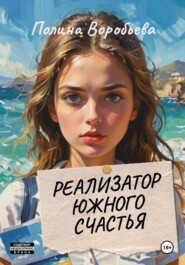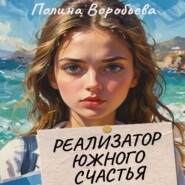По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Московская Швейцария
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алексей Ламберт, титулярный советник, швейцарец, проживший более тридцати лет в России и прослуживший в различных гимназиях преподавателем французского языка, в своих мемуарах говорил о том, что благосостояние страны резко ухудшилось после того, как Швейцария начала сворачивать систему предоставления соседним государствам солдат для службы в армии по найму: «перед гражданами бедной горной страны встает вопрос о том, чем заменить этот серьезный источник национального дохода»[16 - Ламберт А.В. Очевидец революции: мемуары русского швейцарца Алексея Ивановича Ламберта (1863-1942) / Александр Ламберт, Виктор Ламберт. М.: Родина Медиа, 2014.]. Действительно, до XVII века одним из основных источников дохода для маленькой страны, практически не имевшей собственных ископаемых и природных богатств, служила поставка солдат для службы по найму в войска иностранных государств. Швейцарских воинов ценили за их выносливость и неприхотливость в быту.
В научной сфере ситуация приблизительно в это же время тоже обстояла не лучшим образом. До 1833 года в Швейцарии существовал только Базельский университет, основанный в 1460 году. После Реформации в Цюрихе, Берне и Шаффхаузене появились так называемые высшие школы и аналогичные им академии в Женеве и Лозанне. Они ни в коей мере не соответствовали высшим учебным заведениям в современном понимании, еще меньше общего они имели с научными академиями, существовавшими в Берлине, Париже и Санкт-Петербурге. Высшие школы и академии служили, в первую очередь, обучению теологов. Набор предлагаемых дисциплин ограничивался в течение длительного времени теологией и вспомогательными науками. В течение XVIII века эти учреждения постепенно открыли двери общественным и естественным наукам.
Получить профессорскую должность помимо теологов могли очень немногие ученые. Возможности научной деятельности ограничивались как минимум двумя факторами. Соответственно социальному престижу работа профессоров, во-первых, низко оплачивалась. Теолог зарабатывал в Женеве в два раза больше, чем естественник. В Базеле все жаловались на отсутствие мотивации у профессоров, которые, чтобы выжить, вынуждены были давать частные уроки или сдавать комнаты жильцам и этим хоть как-то дополнять свой скудный профессорский заработок. В связи с этим на занятия любимой наукой у них оставалось не так много свободного времени. В богатых городах, конечно, нередко встречались представители уважаемых семейств, которые жили на полученное наследство и поэтому могли себе позволить частным образом заниматься наукой. Основная часть исследований также проводилась приватным образом, так как лучшие лаборатории находились в домах нескольких состоятельных ученых-новаторов.
Во-вторых, эти немногие низкооплачиваемые профессорские должности зачастую «бронировались» для местных жителей, как пишет в своей книге «Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. XVIII век» Рудольф Мументалер[17 - Мументалер Рудольф. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. XVIII век / отв. ред. Л.И. Брылевская. СПб.: Нестор-История, 2009. 236 с.]. В XVIII веке в Базеле профессорами могли быть избраны только граждане Базеля, в Женеве должность профессора могли получить только представители нескольких местных знатных семейств (патрициев), аналогичным образом обстояло дело и в Лозанне. Шансы базельца поступить на место профессора в университете родного города после введения системы жеребьевки превратились в лотерею. Из поступивших заявлений выбирались три. Жребий решал, кто из этих троих займет должность профессора. При еще не развитом разделении наук ученые с энциклопедическим образованием часто соглашались возглавить кафедру, не соответствовавшую их специализации.
В своей книге Рудольф Мументалер приводит интересную таблицу, с помощью которой систематизирует причины, побуждавшие швейцарцев к переезду или, наоборот, отказу от него.
«За» и «против» эмиграции из Швейцарии
Эмиграция – «нет»
Эмиграция – «да»
Швейцария
факторы, удерживающие на родине
семья;
надежная работа;
любовь к родине;
здоровье
факторы, побуждающие к эмиграции
отсутствие должности;
личные проблемы;
отсутствие перспектив;
отсутствие социального престижа
Россия
факторы, побуждающие к отказу
языковые проблемы;
неуверенность;
тяготы путешествия, климат;
риск
факторы привлекательности
карьера;
возможности роста;
приключение, любознательность;
социальный престиж
В принципе, все достаточно понятно, кроме, может быть, социального престижа. Думаю, за разъяснением мы можем обратиться к путеводителю Елены Николаевны, который далеко не всегда содержит только восхитительные описания пейзажей. Елена Водовозова в числе прочего указывает и на те условия жизни в стране, которые она считает в какой-то степени неприемлемыми, даже дикими: «Добросовестно заботясь о благосостоянии своего населения, община стремится, чтобы все ее члены не испытывали особенной нужды, а потому страшно тяготится бедняками. Каждая община обязана содержать стариков, потерявших способность работать, больных, сирот, одним словом, всех несчастных своей общины. Чтобы тратить поменьше денег на их содержание, община отдает своих несчастных или, точнее сказать, продает их с публичного торга всем тем, кто согласится взять их на свое содержание за наименьшую плату. Люди, получившие право за небольшое вознаграждение распоряжаться одним или несколькими бедняками, стараются выжимать из этих несчастных всю выгоду, какую только возможно. В конце концов оказывается, что бедняки, презираемые общиною, становятся настоящими рабами своих новых хозяев, которые кормят и содержат их крайне скаредно и заваливают их непосильной работой»[18 - Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Швейцарцы. изд. 2-е, испр. СПб. 1904.]. Она также рассказывает и о том, что в стране проживали и люди, не принадлежавшие в силу различных причин, ни к одной общине. Таких людей называли гейматлозовами, и порой единственным шансом хоть как-то зацепиться в этой жизни для них был побег за пределы родины.
Миграционный режим
Каких-либо специальных сведений о том, каким был миграционный режим между двумя странами и был ли он вообще, мне найти не удалось. Определенные специальные сведения можно отнести к концу XVIII века, и то только благодаря не слишком приятному для Швейцарии событию. В 1798 году на территорию страны со стороны нынешнего кантона Во вступают французские войска, которые провозглашают здесь Гельветическую республику – республиканское унитарное государство, контролируемое Францией. Из-за новых порядков кантоны конфедерации лишаются независимости и превращаются в административные округа, а сама страна становится ареной борьбы между войсками Наполеона и антифранцузской коалиции. К слову, знаменитый переход Суворова через Альпы относится именно к этой печальной для Швейцарии странице истории.
В это же время, 9 апреля 1798 года, в России при Сенате выходит указ императора Павла Первого, регламентирующий порядок, при котором швейцарцы, бегущие от установившегося нового режима, могут остаться жить в нашей стране.
Указ Павла Первого
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из Правительствующего Сената объявляется всенародно.
В именном Его Императорского Величества Указе, данном Сенату сего апреля 7-ого дня за собственноручным его Величества подписанием изображено: «По беспокойствам в Швейцарии восставшим от беззаконных и возмутительных французских правил повелеваем: Всех наций оной людей, как живущих уже в Империи Нашей, так и впредь пребудущих в пределы оной, на Хранение непричастности к зловредной неподчиненности Законам от Правительства и единоначалия данным приводить к присяге по прилагаемой при сем форме, которую имеет Сенат для надлежащего исполнения, где следует публиковать. Правительствующий Сенат приказали: для должного по сему Высочайшему Его Императорского Величества повелению об исполнении объявить всенародно публичными Указами. О чем сим и публикуется»[19 - Указы государя императора Павла Перваго, самодержца всероссийскаго : [С 1 января по 16 декабря 1798 г.]. М.: Сенатская тип., 1798].
Также указом Павла Первого была установлена форма присяги, которую гражданин Швейцарии, выразивший желание жить в России, должен был произнести. Текст указа и форма присяги сразу приводились на трех языках: русском, французском и немецком.
Форма присяги для швейцарцев
Я нижеименованный сею клятвою моею перед Богом и Святым Его Евангелием произносимою объявляю, что быв не причастен ни делом, ни мыслию правам безбожным и возмутительным во Франции, также в ее окрестностях и в Швейцарии ныне введенным и исповедуемым признаю настоящее правление тамошнее незаконным, и в совести моей нахожу себя убежденным в том, чтоб сохранять Свято Веру Христианскую от предков моих наследованную N:N (сокращение, используемое для подписи выражений в случае, если его автор неизвестен. – Прим. автора): исповедание и быть верным и послушным прежнему образу Правительства; а по тому пользуясь безопасным убежищем от Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского даруемым мне в Империи Его, обязуюся при сохранении как выше сказано природной моей Христианской Веры исповедания N:N: и достодолжном повиновении Законам и Правления Его Величества учрежденным, прервать всякое сношение с одноземцами моими повинующимися настоящему неистовому Правительству, и оного сношения не иметь, доколе с восстановлением Законной власти, тишины и порядка в Швейцарии последует от Его Императорского Величества Высочайшее на то разрешение. В случае противных сему моих поступков подвергаю себя в настоящей времянной жизни казни по Законам, в будущей же Суду Божию. В заключении же клятвы моей целую Слова и Крест Спасителя моего Аминь[20 - Там же.].
На 1843 год существовали такие правила режима. Иностранцы, въезжающие на территорию Российской империи, должны были сдать паспорта, выданные им компетентными властями их страны, взамен чего российские власти выдавали им новые. Однако эта процедура вовсе не являлась нововведением, ее придерживались уже в течение долгого времени. Лица, прибывавшие в Санкт-Петербург морем, иногда обменивали свои паспорта уже в Кронштадте, однако чаще всего в самом Петербурге. Те, кто добирался до России сухопутным путем, сдавали свой паспорт в первом же пограничном русском городе, откуда его отправляли в 3-е Отделение личной канцелярии Его Императорского Величества, а путешественнику выдавали пропуск – временный паспорт – исключительно для того, чтобы он мог продолжить путь до места назначения. Там в обмен на временный паспорт ему выдавали вид на жительство, если только из вышеназванного отдела императорской канцелярии не поступало иных указаний. Эта процедура строго соблюдалась, особенно в отношении иностранцев, прибывавших в Россию через Польшу.
Иногда делались исключения в пользу лиц, которые ранее уже приезжали в Россию и были там известны. Такие лица доезжали со своим иностранным паспортом до Москвы или даже до внутренних районов России. Однако по прибытии на место назначения они обязаны были подчиниться установленным правилам: им выдавали вид на жительство, а их иностранный паспорт отсылали в личную канцелярию императора и больше им не возвращали.
Обычно швейцарские граждане имели при себе документ о происхождении, благодаря которому и в случае необходимости при помощи своего консула могли подтвердить национальную принадлежность. В паспортах и видах на жительство, выдававшихся российскими властями иностранцам, въезжающим на территорию империи или проживающим в ней, национальность указывалась только в общем виде. Хотя швейцарец мог попросить, чтобы в его паспорте был также указан и его кантон. Но российские власти не требовали от швейцарских подданных документ о происхождении, так что последние могли хранить его у себя.
Портрет эмигранта
Генеральный консул Швейцарской Конфедерации в Санкт-Петербурге И. Боненблуст получил в 1843 году от старшины и Государственного совета кантона Люцерн, Федеральной директории некий циркуляр, в сегодняшнем аналоге – обычный опросный лист, – с просьбой ответить на вопросы, касающиеся эмиграции швейцарцев в Россию. Из его ответов, которые он постарался дать наиболее полно, вырисовывается такой портрет типичного швейцарского эмигранта.
В России швейцарцы поступают на должности преподавателей, преподавательниц, гувернеров, гувернанток, кондитеров, архитекторов, скульпторов, художников, сыроваров, часовщиков. Чуть позже в этом же циркуляре Боненблуст добавит, что даже представители этих профессий должны обладать исключительным талантом, чтобы достичь успеха в России. Владеющие иными профессиями швейцарцы не найдут себе места в стране, потому что эту работу могут выполнить местные жители. Устроившиеся в России иногда перевозят к себе свои семьи и знакомых, в целом же это невыгодно, да и приехать в Россию с тем, чтобы заработать на кусок хлеба, можно посоветовать лишь людям старательным и работоспособным. Такой человек может отправиться в наиболее благоприятную по своему положению область.
В новой для себя стране эмигранты устраиваются по-разному в зависимости от своего положения и рода деятельности. Чтобы получить место, швейцарцы обращаются к протестантским пастырям; каждый второй швейцарец прибегает к помощи консула или соотечественников. Те, кто привозит с собой деньги, что случается крайне редко, обычно стараются извлечь из них прибыль у себя на родине в Швейцарии. Обладатели значительного капитала могут вложить его в императорские кредитные учреждения, которые выплачивают 4%, либо участвовать в приносящих прибыль предприятиях. Приехавшие без средств к существованию живут на иждивении других швейцарцев, уже обосновавшихся в России, либо прибегают к помощи Швейцарского благотворительного общества, которое очень часто отправляет их обратно в Швейцарию за свой счет.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: