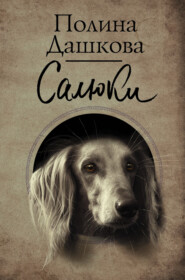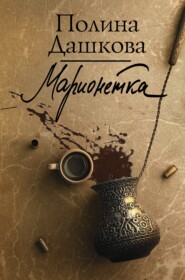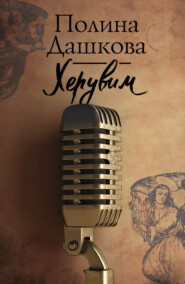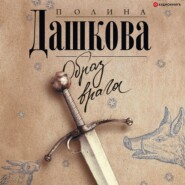По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Небо над бездной
Серия
Год написания книги
2009
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У меня нет времени и сил объяснять вам то, что вы все равно очень скоро узнаете сами. Хот другой.
Не совсем человек. Я хотя бы предупредил вас, меня не предупреждал никто, мне пришлось пережить шок. Потом я, конечно, привык, нашел для себя какие-то приблизительные объяснения, ну, просто, чтобы не свихнуться. Семь лет я был его придворным врачом.
Соня впервые взглянула прямо в глаза Максу и удивилась. Не было в них ни тени безумия. Только тоска и усталость.
– Хорошо, Макс, я готова принять вашу логику. Но вы забыли одну деталь. Когда Хот излагал мне свои планы, речь шла о том, что сначала я должна ввести препарат себе, а потом ему.
– Именно так вы и сделаете.
– Я могу умереть, вам это не приходило в голову?
– Нет, Соня, вы от вливания не умрете.
– Интересно. Стало быть, вы поняли принцип действия?
– Невозможно понять, это не для разума, это скорее из области чувств. Меня бы вливание убило. И Хота убьет. Кстати, Кольта тоже убьет, учтите это, на всякий случай. А вы, Соня, будете жить, очень долго, невероятно долго.
– Спасибо, – Соня усмехнулась, – не уверена, хочу ли я этого. Но все-таки какое-то объяснение должно быть. Приблизительное. Чтобы не свихнуться.
– Оно есть. Перечитайте записи профессора Свешникова. Займитесь нейропептидами.
Они вышли из кофейни. Небо расчистилось, выглянуло солнце.
– Макс, нейропептиды были открыты в конце шестидесятых двадцатого века. Свешников не мог знать о них.
– Не важно. Он выявил биохимический эквивалент эмоций, он назвал это ДДФН. Доказательство для Фомы неверующего. Материальное, биологическое подтверждение первичности Духа.
– Макс, я не помню этого. Я почти наизусть знаю записи Михаила Владимировича, но этого не помню, – тихо заметила Соня.
– Отправляйтесь домой, – сказал Макс, – включите телефоны, позвоните Зубову, скажите, что готовы лететь в Вуду-Шамбальск, готовы работать. Там, в степи, ничего не бойтесь, но будьте внимательны и осторожны. Запомните имя. Дассам. Никогда не произносите его вслух, не пытайтесь искать этого человека. Он сам вас найдет и поможет. Каким бы странным он вам ни показался, знайте: ему можно доверять, он на вашей стороне. Все, Соня, я свяжусь с вами, мы поговорим подробней.
– Макс, где вы остановились? Я провожу вас до метро или лучше давайте поймаю для вас машину.
– Соня, идите домой. Скажите Зубову о жучках, пусть его люди снимут.
Макс обнял ее, сухо поцеловал в щеку, отпрянул, побежал через перекресток.
Это был оживленный и опасный перекресток, без светофора. Машины ехали с трех сторон. Но в воскресенье утром движение было не особенно активным. Макс добежал до середины, встал, чтобы пропустить поток, оглянулся на Соню, помахал рукой. Краем глаза она заметила, как тронулся с места бежевый «Форд-Фокус», припаркованный на противоположной стороне, у ограды торгового центра. Он поехал слишком быстро и не прямо, а как-то наискосок, крутым зигзагом.
Взвизгнули тормоза, несколько других машин отчаянно загудели. Макс метнулся в сторону и вдруг полетел. Мгновение он парил в воздухе, в метре от земли, и упал с глухим тяжелым стуком. «Форд» умчался на невозможной скорости. Соня успела увидеть, что номера его густо замазаны грязью.
Глава третья
Москва, 1921
Когда Михаил Владимирович вошел в палату, больной сел, спустил босые ноги на пол, приветливо заулыбался ему, крепко пожал руку, подмигнул.
– Что-то вы давно не навещали меня, дорогой профессор. Я уж соскучился. Только от одного вашего присутствия боль стихает. Вот что значит настоящий доктор, целитель.
– Вам больно? Где именно?
– Ну, нет, это я, конечно, преувеличил. Уже не больно, только щекотно, будто какие-то насекомые там ползают, – он пошевелил рукой, и толстые его пальцы на мгновение стали похожи на извивающихся червей.
«Каков актер, – восхищенно подумал профессор, – сколько разных личин у него в запасе».
– Щекотно, это хорошо. Стало быть, идет заживление, ткани восстанавливаются. Вы лягте, расслабьтесь. Ну, что ж, все замечательно. Сегодня можно снимать швы, и завтра, пожалуй, я вас выпишу.
– Да уж, пора. Почти неделю тут у вас валяюсь. Непозволительная роскошь.
– Разве роскошь? Необходимость. Ну-ка, язык покажите. Шире рот откройте и повернитесь к свету. А-а!
– А-а!
Звук получился глубокий, на басовой ноте. Язык вывалился до подбородка.
– Вот молодец. Хотя, конечно, никакой вы не молодец. Горло у вас нехорошее, гланды воспаленные. А язык – извольте сами посмотреть, – профессор протянул ему зеркало, – видите, серо-желтый, будто мхом зарос. Теперь представьте, такая же дрянь у вас вдоль пищевода, по всей слизистой.
Коба рассматривал себя довольно долго, прятал и опять высовывал язык, щурился, двигал бровями, наконец отложил зеркало.
– Стало быть, по языку можно судить о внутренностях? Любопытно, а у вас там что, доктор? Разрешите взглянуть?
– Извольте, – Михаил Владимирович усмехнулся и показал Сталину язык.
– Чистый, розовый, – констатировал он с некоторой завистью, – ну и как вам это удается?
– Умеренность во всем, еще древние знали.
– Хотите сказать, я неумерен? Жру, пью, курю много?
– М-м. К тому же сквернословите совершенно свински.
– Это что, тоже влияет?
– А вы думаете, нет?
Коба расхохотался, хлопнул Михаила Владимировича по коленке.
– Не по-нашему, не по-марксистски рассуждаете, профессор.
– Разве у Маркса написано, что сквернословить полезно для здоровья?
Новый взрыв хохота, добродушное покачивание головой, мигание глазом, совсем дружеское, свойское. Поманив профессора пальцем, Сталин горячо дохнул ему в ухо и прошептал:
– А х… его знает, чего там у него написано. Вы лучше с Ильичем об этом поговорите, он «Капитал» наизусть шпарит.
Дыхание показалось огненным. Михаил Владимирович слегка отстранился, тронул кончиками пальцев лоб Кобы.
– У вас жара нет?
Не совсем человек. Я хотя бы предупредил вас, меня не предупреждал никто, мне пришлось пережить шок. Потом я, конечно, привык, нашел для себя какие-то приблизительные объяснения, ну, просто, чтобы не свихнуться. Семь лет я был его придворным врачом.
Соня впервые взглянула прямо в глаза Максу и удивилась. Не было в них ни тени безумия. Только тоска и усталость.
– Хорошо, Макс, я готова принять вашу логику. Но вы забыли одну деталь. Когда Хот излагал мне свои планы, речь шла о том, что сначала я должна ввести препарат себе, а потом ему.
– Именно так вы и сделаете.
– Я могу умереть, вам это не приходило в голову?
– Нет, Соня, вы от вливания не умрете.
– Интересно. Стало быть, вы поняли принцип действия?
– Невозможно понять, это не для разума, это скорее из области чувств. Меня бы вливание убило. И Хота убьет. Кстати, Кольта тоже убьет, учтите это, на всякий случай. А вы, Соня, будете жить, очень долго, невероятно долго.
– Спасибо, – Соня усмехнулась, – не уверена, хочу ли я этого. Но все-таки какое-то объяснение должно быть. Приблизительное. Чтобы не свихнуться.
– Оно есть. Перечитайте записи профессора Свешникова. Займитесь нейропептидами.
Они вышли из кофейни. Небо расчистилось, выглянуло солнце.
– Макс, нейропептиды были открыты в конце шестидесятых двадцатого века. Свешников не мог знать о них.
– Не важно. Он выявил биохимический эквивалент эмоций, он назвал это ДДФН. Доказательство для Фомы неверующего. Материальное, биологическое подтверждение первичности Духа.
– Макс, я не помню этого. Я почти наизусть знаю записи Михаила Владимировича, но этого не помню, – тихо заметила Соня.
– Отправляйтесь домой, – сказал Макс, – включите телефоны, позвоните Зубову, скажите, что готовы лететь в Вуду-Шамбальск, готовы работать. Там, в степи, ничего не бойтесь, но будьте внимательны и осторожны. Запомните имя. Дассам. Никогда не произносите его вслух, не пытайтесь искать этого человека. Он сам вас найдет и поможет. Каким бы странным он вам ни показался, знайте: ему можно доверять, он на вашей стороне. Все, Соня, я свяжусь с вами, мы поговорим подробней.
– Макс, где вы остановились? Я провожу вас до метро или лучше давайте поймаю для вас машину.
– Соня, идите домой. Скажите Зубову о жучках, пусть его люди снимут.
Макс обнял ее, сухо поцеловал в щеку, отпрянул, побежал через перекресток.
Это был оживленный и опасный перекресток, без светофора. Машины ехали с трех сторон. Но в воскресенье утром движение было не особенно активным. Макс добежал до середины, встал, чтобы пропустить поток, оглянулся на Соню, помахал рукой. Краем глаза она заметила, как тронулся с места бежевый «Форд-Фокус», припаркованный на противоположной стороне, у ограды торгового центра. Он поехал слишком быстро и не прямо, а как-то наискосок, крутым зигзагом.
Взвизгнули тормоза, несколько других машин отчаянно загудели. Макс метнулся в сторону и вдруг полетел. Мгновение он парил в воздухе, в метре от земли, и упал с глухим тяжелым стуком. «Форд» умчался на невозможной скорости. Соня успела увидеть, что номера его густо замазаны грязью.
Глава третья
Москва, 1921
Когда Михаил Владимирович вошел в палату, больной сел, спустил босые ноги на пол, приветливо заулыбался ему, крепко пожал руку, подмигнул.
– Что-то вы давно не навещали меня, дорогой профессор. Я уж соскучился. Только от одного вашего присутствия боль стихает. Вот что значит настоящий доктор, целитель.
– Вам больно? Где именно?
– Ну, нет, это я, конечно, преувеличил. Уже не больно, только щекотно, будто какие-то насекомые там ползают, – он пошевелил рукой, и толстые его пальцы на мгновение стали похожи на извивающихся червей.
«Каков актер, – восхищенно подумал профессор, – сколько разных личин у него в запасе».
– Щекотно, это хорошо. Стало быть, идет заживление, ткани восстанавливаются. Вы лягте, расслабьтесь. Ну, что ж, все замечательно. Сегодня можно снимать швы, и завтра, пожалуй, я вас выпишу.
– Да уж, пора. Почти неделю тут у вас валяюсь. Непозволительная роскошь.
– Разве роскошь? Необходимость. Ну-ка, язык покажите. Шире рот откройте и повернитесь к свету. А-а!
– А-а!
Звук получился глубокий, на басовой ноте. Язык вывалился до подбородка.
– Вот молодец. Хотя, конечно, никакой вы не молодец. Горло у вас нехорошее, гланды воспаленные. А язык – извольте сами посмотреть, – профессор протянул ему зеркало, – видите, серо-желтый, будто мхом зарос. Теперь представьте, такая же дрянь у вас вдоль пищевода, по всей слизистой.
Коба рассматривал себя довольно долго, прятал и опять высовывал язык, щурился, двигал бровями, наконец отложил зеркало.
– Стало быть, по языку можно судить о внутренностях? Любопытно, а у вас там что, доктор? Разрешите взглянуть?
– Извольте, – Михаил Владимирович усмехнулся и показал Сталину язык.
– Чистый, розовый, – констатировал он с некоторой завистью, – ну и как вам это удается?
– Умеренность во всем, еще древние знали.
– Хотите сказать, я неумерен? Жру, пью, курю много?
– М-м. К тому же сквернословите совершенно свински.
– Это что, тоже влияет?
– А вы думаете, нет?
Коба расхохотался, хлопнул Михаила Владимировича по коленке.
– Не по-нашему, не по-марксистски рассуждаете, профессор.
– Разве у Маркса написано, что сквернословить полезно для здоровья?
Новый взрыв хохота, добродушное покачивание головой, мигание глазом, совсем дружеское, свойское. Поманив профессора пальцем, Сталин горячо дохнул ему в ухо и прошептал:
– А х… его знает, чего там у него написано. Вы лучше с Ильичем об этом поговорите, он «Капитал» наизусть шпарит.
Дыхание показалось огненным. Михаил Владимирович слегка отстранился, тронул кончиками пальцев лоб Кобы.
– У вас жара нет?