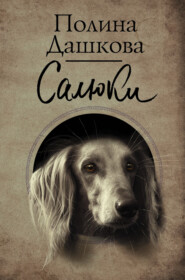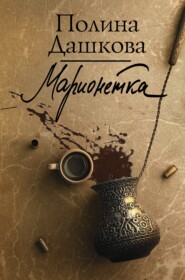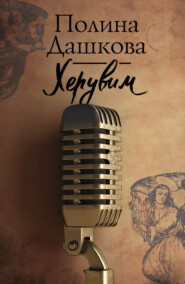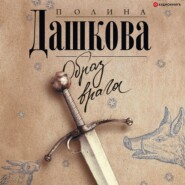По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Точка невозврата (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На премьеру «Телеграммы» в Дом кино мне разрешили привести человек пять друзей. Мы напряженно ждали сцену в физкультурном зале.
Наверное, секунды две в кадре, на заднем плане, был виден тощий черненький мальчик, сидящий на гимнастическом козле. Слова «Третий звонок» прозвучали, но как-то отдельно. Когда все хором повторяли «субчик-супчик», меня в кадре уже не было.
На свой гонорар я купила красивую лампу, похожую на старинный газовый фонарь, теплые тапочки для прабабушки, резиновую игрушку с пищалкой для Геллы и очень много мороженого.
Брюки дев
На фоне убогого ширпотреба семидесятых школьная форма казалась шедевром дизайнерского искусства. Коричневое платье и черный фартук выглядели не так уродливо и даже по своему стильно. Наверное, потому, что сохранились почти неизменными с дореволюционных, гимназических времен.
Форма моего детства отличалась удивительным разнообразием. Было два варианта платьев. Прямое, как мешок, и отрезное, с юбкой в складку. Бретели фартуков с крылышками и без. Крылышки, в свою очередь, могли быть обычными и плиссированными. Впрочем, плиссированные крылышки считались дефицитом. К платью полагалось пришивать белый воротничок и манжеты, тоже разнообразные, простые и кружевные. Выглядело это вполне симпатично, во всяком случае, лучше, чем любая другая одежда, доступная ребенку из средней советской семьи.
Я помню душный ужас «Детского мира». Пудовые пальто в серую елочку, на ватине. Войлочные черные ботинки. Их называли «прощай молодость» и выпускали всех размеров, от самого маленького, детского, до самого большого, мужского. Унылая фланель платьев цвета хаки в красных и желтых цветочках. Хлопчатобумажные колготки, темно-коричневые и мышиные. Коленки вытягивались и отвисали. Верхняя часть была широкой, как у кавалерийских галифе. Такой фасон объяснялся тем, что хорошая девочка непременно наденет под них теплые панталоны, или, как говорила моя бабушка, «трико».
Сей уважаемый предмет туалета остался в далеком прошлом, когда колготок никто еще не знал, а носили чулки на подвязках. Но почему-то детские колготки продолжали выпускать в виде галифе вплоть до конца восьмидесятых.
«Трико» я, к счастью, никогда не носила. Зато у меня была другая беда. Рейтузы. Без них ребенка зимой из дома не выпускали. Обычно я шла пешком вниз с девятого этажа, где-нибудь между пятым и шестым рейтузы быстро снимала и запихивала за батарею на лестничной площадке. А на обратном пути надевала, и никто ничего не знал.
Мой друг одноклассник Дрюня поступал так же. Его заставляли носить рейтузы под школьные брюки. Застегивались брюки на пуговицы, Дрюня спешил, пуговицы отлетали, и долго скрывать тайну своих лестничных переодеваний он не мог. Находчивая Дрюнина бабушка в качестве альтернативы предложила ему кальсоны, голубые, белые и сиреневые, на выбор. Но для Дрюни это было еще хуже, чем рейтузы. В итоге пришли к компромиссу в виде «треников». По сути, те же кальсоны, но из тонкого трикотажа, темно-синего или черного цвета.
Кстати, именно «треники» были в моем детстве чуть ли не единственным вариантом брюк, доступных девочке. Довольно долго советская швейная промышленность никаких женских брюк вообще не производила, по очень серьезным идеологическим соображениям.
Но вдруг появилось нечто невероятное. Называлось оно «брюки дев.». Из жесткого тугого эластика василькового цвета какая-то храбрая умница догадалась сшить несметное количество штанов с простроченными выпуклыми стрелками и даже с легким намеком на модный клеш.
На самых разных фигурах, независимо от размера, это загадочное изделие сидело одинаково. Резинка пояса оказывалась высоко, у подмышек, штанины едва достигали щиколоток. Сзади и спереди жесткий эластик вздувался двумя объемными упругими пузырями.
Где она теперь, та изначальная «дева», для которой произвели и размножили в десятках тысяч экземпляров эту красоту? Существовала ли она в реальности или была лишь эфемерным плодом воображения талантливых советских модельеров?
«Брюки дев.» висели бесконечными васильковыми рядами на вешалках в «Детском мире», в магазине «Пионер» на ул. Горького. Они вполне прилично выглядели на детях-манекенах в витринах. Наверное, их как-то ловко подкалывали сзади. Но клянусь – никогда ни на одной живой девочке я их не видела.
Моими первыми полноценными брюками были джинсы. Они достались мне чудом, благодаря Дрюне. Кто-то из его родственников привез ему настоящий американский «Левайс», но ошибся с размером. Упитанному Дрюне они оказались безнадежно малы. Дрюнина бабушка хотела распороть, сделать по бокам вставки, вроде широких лампасов. Однако рука не поднялась испортить импортную вещь, и джинсы были великодушно отданы мне.
Они сидели на мне идеально, как будто там, за океаном, в ином, волшебном и свободном мире, их сшили специально для меня. Я носила их с папиным офицерским ремнем из грубой коричневой кожи. У меня была ужасная привычка повсюду раскидывать свои скомканные вещи, но джинсы я аккуратно складывала возле кровати, на стуле, и даже ночью иногда просыпалась, чтобы погладить их, как котенка. На улице я смотрелась во все витрины. Я не ходила, а летала, мне хотелось прыгать и петь.
Когда они стали мне коротки, я обрезала штанины, сделала шорты и еще довольно долго щеголяла в них летом на даче, пока они окончательно не истлели и не канули в небытие.
С тех пор прошло много лет. Я успела сносить и забыть уйму разных вещей, среди них были очень красивые, элегантные, уютные, идеально сидящие, милые, добрые, способные поднять настроение, согреть, выручить и морально поддержать в трудную минуту. Однако ни одну из этих вещей я не любила так нежно и преданно, ни одна не дарила мне такого острого яркого счастья.
Наверное, те джинсы стоило сохранить, как хранят младенческие чепчики и подвенечные платья, чтобы иногда доставать из сундука, вздыхать, задумчиво улыбаться.
Впрочем, сундука у меня нет, а джинсы, которые я носила с девяти до одиннадцати лет, ничем не отличались от миллионов других джинсов. И дело вовсе не в них, а в загадочном васильковом изделии под названием «брюки дев.».
Точка невозврата
Когда вышел второй том «Источника счастья», на встрече с читателями в книжном магазине ко мне подошла старушка и тихо, на ухо, спросила:
– Деточка, вас кошмары не мучают? Вожди не снятся?
Я ответила:
– Мучают. Снятся.
– И что вы делаете?
– Молюсь.
– Правильно. – Старушка кивнула и исчезла в толпе.
Вожди мне действительно снились, и сны с их участием были кошмарны. Не помню, кому из советских поэтов принадлежит строчка: «И я сегодня думаю о Ленине, как он когда-то думал обо мне». Вот примерно это со мной происходило на протяжении долгих лет жизни.
В детском саду висело и стояло по меньшей мере штук десять его изображений. Круглолицый ребенок, такой аккуратный и строгий, что невозможно представить, как «он тоже бегал в валенках по горке ледяной». Юноша в косоворотке, весь куда-то вдаль устремленный. Лысый дядька с бородкой, с маленькими недобрыми глазками. Кроме портретов были еще белый бюст в кабинете заведующей и статуя на клумбе во дворе, в тусклой серебрянке, с большой башкой и недоразвитыми ручонками, правая вытянута вперед, указывает направление к Рижскому вокзалу, левая спрятана в карман.
Вроде бы я знала его с младенчества, но наше первое знакомство состоялось, когда на детсадовском утреннике 7 ноября меня обязали громко произнести: мы внучата Ильича. Я подумала, что моим родным дедушкам, Леше и Васе, будет обидно, если я назову себя чьей-то чужой внучкой. Я очень любила своих дедушек, мне вовсе не хотелось их обижать. К тому же врать нехорошо. Но что-то заставило меня это сделать. Я послушно произнесла свою часть речевки, сначала на репетиции, потом на утреннике. Мне было стыдно. Я соврала, впервые в жизни. И ничего не произошло. Все хлопали в ладоши.
Вот так мы с ним познакомились. В память об этом знаменательном событии даже сохранилась фотография. Под огромным его портретом строй нарядных детей с шариками в руках. Все дети, как положено на праздничном утреннике, веселые, только я, третья слева, пришибленная всеобщим ликованием и собственным гнусным враньем, напряженная и озадаченная.
Да, он меня уже тогда озадачил. Мне захотелось узнать – кто он такой? Любопытство мое разгоралось еще больше оттого, что я чувствовала невозможность, немыслимость прямого вопроса: кто такой Владимир Ильич Ленин? Он повсюду: во дворах и на площадях, на деньгах и в газетах. О нем пели песни, показывали фильмы, писали книжки.
Я рано научилась читать. Меня многое интересовало, например дельфины, шаровая молния и космические «черные дыры». Я нашла кучу информации о них и читала с удовольствием. Ленин меня тоже интересовал, но читать, говорить и даже думать о нем было невозможно. Во первых, нестерпимо скучно, во-вторых, всякий раз у меня возникало чувство подмены, надувательства. Я понимала – авторы врут, так же, как врала я на утреннике в детском саду, называя себя и других детей средней группы «внучатами Ильича». Да, они врут так же, но только значительно многословней и уверенней.
В десять лет я совершила преступление. У меня имелось оружие. Пластмассовая трубка, сделанная из корпуса шариковой ручки. Через нее удобно было плевать в цель комочками жеваной бумаги. В сообщники я выбрала Дрюню, моего лучшего друга. Мы дежурили после уроков, мыли пол в классе и заодно упражнялись в стрельбе. Мишенью стал портрет Ленина. Жеваная бумага не оставляла следов на стекле. Мы с Дрюней соревновались, у кого больше получится попаданий в кончик носа, в центр лба, в узел галстука. Мы так возбужденно спорили, что чуть не подрались. Наверное, наша энергичная возня вызвала сотрясение пола и стен, иначе как объяснить внезапный разрыв шнура и падение портрета на пол?
Стекло разбилось. Мы застыли у доски, я с веником, Дрюня со шваброй. Сквозь осколки глядели на нас снизу вверх маленькие сощуренные глазки. Что в них было? Обида? Упрек? Злорадство? Со страху мы могли вообразить что угодно. Он расскажет нашей классной и всему педсовету, как мы плевали ему в лицо жеваной бумагой. Или ночью сойдет с пьедестала мраморная статуя, украшающая школьный вестибюль, и явится к кому-нибудь из нас домой. Мы как раз недавно прочитали «Маленькие трагедии» Пушкина. А тут еще песня Александра Галича «Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники».
Мы с Дрюней были детьми начитанными и впечатлительными. Песни запрещенного Галича звучали и в его, и в моем доме. Мы ясно представили себе, как мраморный вестибюльный Ленин с гордо поднятой головой, с вытянутой вперед и вниз правой рукой медленно зашагает по ночной улице Горького, и запертые двери его не остановят. Дрюня заявил дрожащим шепотом, что мой дом ближе, чем его. Это было малодушно и вовсе не по-мужски. Я ответила: зато я живу на девятом этаже, а ты на четвертом. Мы горячо заспорили, влезет ли статуя в лифт или станет подниматься по лестнице. В этот момент вошла классная и спокойно заметила, что шнурок давно следовало поменять, портрет, дескать, держался на соплях и хорошо, что грохнулся не на чью-то голову.
Преступление осталось латентным. Осколки смели, над доской повесили новый портрет, на крепком шнурке. Статуя по сей день стоит в школьном вестибюле, ни ко мне, ни к Дрюне домой так и не явилась.
Наши квартиры были своего рода убежищем, личным пространством, малогабаритным, но свободным от Ленина. Ни портретов, ни бюстов, ни книг. Стоило выйти во внешний мир, и великий вождь в своих бесчисленных воплощениях сразу вставал на пути.
Годам к пятнадцати он мне порядком надоел. Его оказалось слишком много в моей маленькой жизни. Помимо портретов, бюстов, статуй, денег, газет, изречений, он обильно присутствовал в школьной программе в виде текстов, не только на русском, но и на английском языке. Приходилось учить наизусть стихи о нем, на уроках пения петь о нем песни, после уроков в обязательном порядке смотреть о нем фильмы, документальные и художественные.
Он заполнял собой огромные куски пространства и времени, но выглядел менее убедительно, чем Кощей Бессмертный или Баба Яга. И в отличие от сказочных персонажей он был нестерпимо скучен. От него веяло смертельной скукой. Его образ был безнадежно мертв. Я стала подозревать, что такой человек вообще никогда не жил на свете.
Сомнения в реальности его существования только усиливались оттого, что все вокруг с поразительным упорством пыталось убедить, будто он не просто человек и не просто живой, а «самый человечный человек» и «живее всех живых».
Мумию в мавзолее я увидела лет в восемнадцать. На Всесоюзном совещании молодых писателей я была старостой семинара поэзии. Посещение знаменитой усыпальницы входило в культурную программу для участников совещания, гостей из союзных республик. Мне пришлось сопровождать группу.
Труп выглядел еще менее убедительно, чем бюсты, статуи и портреты. Мне показалось, что лицо и руки отлиты из папье-маше, а волоски у висков подрисованы простым карандашом. Представить себе земной путь этой маленькой некрасивой куклы я не могла. И еще труднее было вообразить, каким образом эта кукла умудрилась организовать такое грандиозное событие – Великую Октябрьскую социалистическую революцию (ВОСР)?
* * *
В жизни каждого советского учащегося ВОСР происходила минимум дважды – в восьмом и в десятом классе. У тех, кто получил высшее образование, ВОСР случалась четыре раза. Чем больше я узнавала, тем меньше понимала. ВОСР притягивала меня, как притягивает то, чего боишься.
Да, я боялась ее, Великую Октябрьскую социалистическую. Боялась так сильно и серьезно, словно это событие что-то значило для меня лично. Смертный ужас, чувство абсолютной беззащитности, сиротства, насилия и физической гибели – вот чем она для меня была.
Прабабушки, бабушки, дедушки скупо делились воспоминаниями. Бабушке Липе в семнадцатом было семь. Для нее ВОСР началась так: «Мы сидим, обедаем. Вдруг жуткий грохот, топот, крики. Распахивается дверь, вваливаются какие-то пьяные люди, упирают в нас штыки, кричат: буржуи, встать! Мы встаем. Они хватают со стола скатерть, вместе со всем, что на ней, с тарелками, супницей, соусниками. Связывают скатерть в огромный узел и убегают. Мама, папа, брат Даня, гувернантка немка, няня, горничные – все стоят и молчат. Тишина чудовищная, но недолгая. Опять грохот и крики. Опять влетают со штыками, хватают стулья и убегают. Я спросила папу: что это такое? Он ответил: это революция, Липонька».
Прабабушка Лена к семнадцатому успела закончить Бестужевские курсы и Сорбонну. О ВОСР предпочитала молчать. Иногда что-нибудь прорывалось случайно. Железная дорога, поезд, станция. Пассажиры выходят, чтобы набрать кипятку. В станционном буфете сутолока, никто не решается подойти к баку с кипятком. У бака сидит нечто невообразимое. Серая шевелящаяся масса. Облако, состоящее из миллионов вшей. Внутри, под слоями насекомых, человека не видно. Так и поехали дальше, без кипятку, до следующей станции.