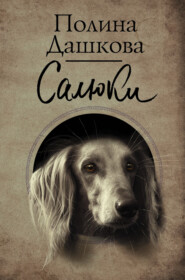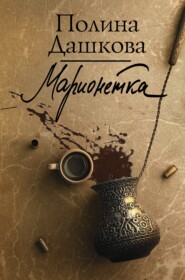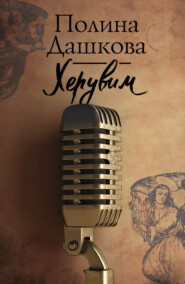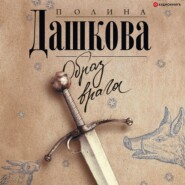По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чувство реальности. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русоволосый румяный мальчик схватился руками за чугунные прутья, смотрел на Григорьева и улыбался. Андрей Евгеньевич шагнул на мостовую, поймал мяч. Это оказалась голова чудовища из популярного мультсериала. Не дай Бог приснится во сне такая глумливая гадина.
– Сэр, пожалуйста, верните наш мяч! – рядом с мальчиком у ограды стояла девочка, изящная, игрушечная девочка с большими карими глазами и такими гладкими блестящими волосами, что голова ее напоминала облизанный апельсиновый леденец. Минуту назад она носилась и прыгала, а волосы у нее остались в полном порядке, как у настоящей киногероини. Лишь металлическая пластинка на передних зубах нарушала голливудскую гармонию кадра.
Григорьев размахнулся, чтобы перебросить монстра через ограду, но замер в нелепой позе. Ему вдруг почудилось, что вместо мяча в руках у него бомба, и через секунду живая картинка, подернутая теплым диетическим туманом, распадется на тысячу кровавых клочьев. Сверху на него смотрел фантастический урод, отштампованный на мячике, и усмехался гигантским злобным ртом. Григорьев попытался вспомнить имя мультяшного маньяка, но не сумел.
В Японии детишки бьются в судорогах и выбрасываются из окон, насмотревшись мультиков про таких вот веселых ублюдков. Здесь, в Америке, младшие школьники таскают пистолеты у родителей и стреляют в одноклассников.
– Это не я сошел с ума от страха за Машку. Это мир сошел с ума, – пробормотал Григорьев и перекинул мяч.
– Спасибо, сэр! – румяный мальчик поймал голову монстра, прижал к груди и, прежде чем бросить леденцовой девочке, смачно поцеловал маньяка в нарисованную вампирскую пасть.
Андрей Евгеньевич побежал дальше, не оглядываясь. Ему не хватало воздуха. Обычно здоровый американский бег трусцой по этим тихим красивым улицам успокаивал его, но сейчас сердце разбухло и пульсировало у горла, как будто собиралось лопнуть.
– Возьми себя в руки! – повторял Григорьев. – Возьми себя в руки, бережно отнеси в свою гостиную, к камину, к дивану, к теплому халату, к карликовой японской яблоньке во внутреннем дворе. Как раз сегодня утром она зацвела, раскрыла нежнейшие бело-розовые бутоны. Что может быть важней и значительней такой красоты? Да ничего на свете!
Андрей Евгеньевич уже не бежал, а шел, очень медленно, сгорбившись, считая каждый шаг. До дома оставалось не больше пятидесяти метров. Свернув на свою улицу, он почти сразу увидел сиреневый спортивный «Форд». Машина стояла возле ворот его гаража, и ворота медленно ползли вверх.
– Мерзавка! – прошептал Григорьев. – Я тебе покажу Москву! Я тебе устрою спецоперацию! Прощаться приехала? Сказать гудбай и поцеловать любимого папочку в лобик? Благословения попросить? Хрен тебе, Машка! Я тебя на это не благословляю! – Он сжал кулаки в бессильной ярости и сам не заметил, как распрямилась спина. Он уже не плелся, не шаркал. Он шагал пружинистым сильным шагом, и глаза его сверкали сквозь последние легкие клочья тумана.
Когда он приблизился к воротам, гневный монолог иссяк, затих, словно шипение воды на раскаленных углях. Тонкая фигурка в белых узких джинсах и свободном бледно-голубом пуловере ждала его на высоком крыльце. Туман окончательно рассеялся.
– Привет, – сказала она и шагнула вниз, ему навстречу, – привет, папа. Тебе очень идет этот свитер.
Ее волосы, такие же светлые, как у ее матери, блестели на солнце. Большие глаза, тоже материнские, меняли цвет в зависимости от погоды, освещения и цвета одежды. Сейчас она была в голубом, и глаза казались совершенно небесными, ангельскими. Она смотрела на него сверху вниз, ласково и насмешливо, как умела смотреть ее мать, и уже потянулась, чтобы чмокнуть его в колючую щеку, но он грубо отстранил ее и принялся молча, сосредоточенно шарить в карманах.
– У меня есть ключи, – Маша протянула ему свою связку, – если ты будешь злиться, я сейчас уеду.
– Скатертью дорожка, катись отсюда, маленькая засранка, – проворчал он и добавил по-английски: – Вы спешите, леди, у вас много дел, я вас не задерживаю.
– Папа, кончай валять дурака. – Она вошла вслед за ним в дом и все-таки чмокнула его в щеку. – Ты почему такой мокрый? Бежал?
– Отстань, – он прошагал мимо нее в гостиную, плюхнулся на свой любимый диван.
Но она и не приставала больше. Она отправилась на кухню, захлопала дверцами, зашуршала пакетами. Он сидел на диване, смотрел, как преломляется солнечный свет в каждом яблоневом цветке. Сказочная красота вызывала острое, странное раздражение.
«Машка улетит и исчезнет, – думал он, – она точно исчезнет в этой опасной, непредсказуемой стране. Никакие мои связи, заслуги, возможности не помогут. А стало быть, ничего уже не важно и не нужно. Волшебное деревце со своим бескорыстным радужным трепетом, с переливами тени и света не спасет от смертельной тоски».
– Ты завтракал? – негромко крикнула Маша из кухни.
Григорьев подпрыгнул на диване, схватил пульт, включил телевизор и до предела увеличил звук. Дом наполнился визгом, грохотом, утробным бульканьем. Шел тот самый японский мультфильм, герой которого был отштампован на детском мячике. Маша, морщась, зажав ладонями уши, влетела в гостиную, выключила телевизор и села на диван рядом с ним.
– Я знаю, почему ты злишься, – сказала она тихо, – ты мне завидуешь. Ты бы сам с удовольствием слетал на родину. Верно? Там так сейчас интересно…
Григорьев ничего не ответил. Он смотрел в погасший телеэкран. В нем отражались два смутных, искаженных силуэта. У Маши получалась огромная голова и маленькое тело. Она напоминала бело-голубого головастика. У него, наоборот, голова уменьшилась, шея вытянулась, а корпус вырос в бесформенную массу. Он стал похож на динозавра, на старого, давно вымершего тупицу, у которого капелька вялого мозга и тонны жизнерадостного мяса.
– Нет, я понимаю, не стоило впутывать в наши семейные дела чужого человека, но ты же знаешь Макмерфи. Я вообще не собиралась с ним это обсуждать. Он сам затеял разговор, спросил, знаешь ли ты уже и почему я тебе до сих пор не сказала?
– Кстати, почему?
– Потому!
– Можно конкретней?
– Боялась, – чуть повысила голос Маша, – предвидела, какая будет реакция. И, между прочим, не ошиблась.
– Спасибо, доченька, – процедил Григорьев сквозь зубы, – большое тебе спасибо, мне, конечно, было очень приятно услышать такую новость от Макмерфи, а не от тебя, да еще за сутки до твоего отлета.
– За десять часов, – мягко уточнила она.
– Как – за десять? То есть что, прямо сегодня? Практически сейчас?
– Да, папочка. Так даже лучше. Меньше разговоров, переживаний, – Маша встала, гибко потянулась и подошла к стеклянной двери, ведущей во внутренний двор. – Смотри, твое деревце зацвело, а ты говорил, яблонька должна засохнуть к весне. Слушай, ты будешь пить кофе или я одна? Я, между прочим, еще не завтракала.
– Десять часов, говоришь? Ладно, Машка, у нас действительно очень мало времени, – Григорьев зажмурился и слегка тряхнул головой, – как давно возникла идея отправить тебя туда?
– Думаю, Макмерфи начал готовить меня пару месяцев назад.
– Что значит – думаю?
– Ты же знаешь, как это происходит. Вначале ничего не говорится прямо. Идет отбор. Даются одинаковые задания разным людям, сверяются результаты. Вероятно, я справилась лучше других. Ну и потом, им нужно отправить туда очень молодого человека, лет двадцати пяти, – она шагнула к овальному зеркалу, расстегнула заколку и запустила пальцы в свои мягкие прямые волосы, – как тебе кажется, если я подстригусь под мальчика, я буду выглядеть моложе? Макмерфи просил меня подстричься. А мне жалко.
– Что за чушь? Они тебя легендируют, что ли? – Григорьев нервно усмехнулся и отшвырнул зажигалку, которая так и не зажглась.
– Ну, не совсем, – она подняла волосы вверх и прижала их ладонями ко лбу, – челка мне, конечно, не пойдет. Но если подстричься совсем коротко, чтобы лоб был открыт, получится неплохо. В России это называется «тифози». Между прочим, модно сейчас. Знаешь, сзади совсем ничего, практически голый затылок, до макушки. Шея кажется длинней. Правда, щетина вылезает быстро, и это выглядит довольно противно. Надо постоянно подбривать.
– Почему именно ты? – тоскливо пробормотал Григорьев.
– Потому, что я такая умная, красивая и талантливая. Потому, что четыре года назад, когда господин Рязанцев читал лекции в Гарварде, он явно выделял меня среди прочих студентов. Ему нравится такой тип людей, такой тип женщин. Мне будет несложно наладить с ним доверительные отношения. Компьютерный анализ это подтвердил, – Маша в очередной раз повернулась перед зеркалом и тряхнула волосами. – Все-таки стричься мне или нет, как ты думаешь?
– В чем заключались проверочные задания? В каком качестве ты туда летишь? Какие доверительные отношения? Почему ты должна быть младше самой себя?
– Не младше, – улыбнулась Маша, – наивней. Я должна быть восторженной и трогательной дурочкой. Ну, не двадцати восьми, а двадцати пяти лет. Подумаешь, какие-то три года… В России вообще не принято говорить о женском возрасте. Между прочим, это правильно.
– Кончай морочить мне голову! – закричал он и тут же прикусил язык, вспомнив, что позавчера в его доме перегорели пробки и приходил веселый пожилой электрик Оскар. Это случалось всякий раз после того, как он обнаруживал и снимал «жучки». Оскар, добродушный толстяк, балагур, проверял проводку и лепил новые «жучки», выбирая для них более укромные места. Чтобы Маша не успела ответить на вопрос тупого жирного динозавра, он искусственно закашлялся. Она тут же отняла у него сигарету, загасила, сбегала на кухню и вернулась со стаканом воды.
– Знаешь что, пойдем завтракать к «Ореховой Кларе», – сказал Андрей Евгеньевич, сделав несколько глотков, – у меня только хлеб, масло, яйца и бекон. Никаких фруктов, ничего вегетарианского для тебя.
Она лишь слегка сдвинула брови. Ни удивления, ни испуга не мелькнуло в ее ангельских ясных глазах, и Григорьев мысленно поздравил себя. Не так уж туп жирный динозавр, если сумел научить своего хрупкого головастика такой железной выдержке. Она ведь была на кухне, заглядывала в буфет и в холодильник. В его доме всегда, в любое время суток, имелся специально для нее запас вегетарианской еды: орешки, фрукты, свежий йогурт. Конечно, она отлично знала, что дом ее отца прослушивается. Однако верила, что это делают свои. Так положено, для безопасности. От своих не может быть секретов. Он сам внушил ей это. Тоже для безопасности.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
– Каждый действующий политик может быть подвержен дестабилизации. И чем активней он действует, тем больше нарабатывает факторов риска, – Евгений Николаевич Рязанцев с мягкой, снисходительной улыбкой смотрел в глазок телекамеры и пытался представить, что перед ним живые глаза, внимательные и восторженные женские глаза. Он всегда чувствовал себя отлично в женском обществе, намного уютней и уверенней, чем в мужском. И то, что к нему приехала одна из самых эффектных леди российского экрана, должно было бодрить. Но не бодрило.
Звезда тележурналистики Надежда Круглова, может, и родилась девочкой, но уже в младенчестве стала бабой, теткой, вечно голодной щучкой, готовой вцепиться зубами не только в чужой съедобный кусок, но и в несъедобную часть чужого тела.
– И часто вас подвергают дестабилизации? – ехидно спросила Круглова, изящным движением откинув белокурую прядь.
Работали две телекамеры. Рязанцева снимали жестко, широкоугольным объективом. Он знал, что на экране пропорции лица будут искажены. Нос и губы получатся огромные, глаза маленькие, лоб низкий, скошенный назад. Каждая пора, каждая родинка и морщинка вылезут особенно грубо, грубее, чем в жизни.
– Сэр, пожалуйста, верните наш мяч! – рядом с мальчиком у ограды стояла девочка, изящная, игрушечная девочка с большими карими глазами и такими гладкими блестящими волосами, что голова ее напоминала облизанный апельсиновый леденец. Минуту назад она носилась и прыгала, а волосы у нее остались в полном порядке, как у настоящей киногероини. Лишь металлическая пластинка на передних зубах нарушала голливудскую гармонию кадра.
Григорьев размахнулся, чтобы перебросить монстра через ограду, но замер в нелепой позе. Ему вдруг почудилось, что вместо мяча в руках у него бомба, и через секунду живая картинка, подернутая теплым диетическим туманом, распадется на тысячу кровавых клочьев. Сверху на него смотрел фантастический урод, отштампованный на мячике, и усмехался гигантским злобным ртом. Григорьев попытался вспомнить имя мультяшного маньяка, но не сумел.
В Японии детишки бьются в судорогах и выбрасываются из окон, насмотревшись мультиков про таких вот веселых ублюдков. Здесь, в Америке, младшие школьники таскают пистолеты у родителей и стреляют в одноклассников.
– Это не я сошел с ума от страха за Машку. Это мир сошел с ума, – пробормотал Григорьев и перекинул мяч.
– Спасибо, сэр! – румяный мальчик поймал голову монстра, прижал к груди и, прежде чем бросить леденцовой девочке, смачно поцеловал маньяка в нарисованную вампирскую пасть.
Андрей Евгеньевич побежал дальше, не оглядываясь. Ему не хватало воздуха. Обычно здоровый американский бег трусцой по этим тихим красивым улицам успокаивал его, но сейчас сердце разбухло и пульсировало у горла, как будто собиралось лопнуть.
– Возьми себя в руки! – повторял Григорьев. – Возьми себя в руки, бережно отнеси в свою гостиную, к камину, к дивану, к теплому халату, к карликовой японской яблоньке во внутреннем дворе. Как раз сегодня утром она зацвела, раскрыла нежнейшие бело-розовые бутоны. Что может быть важней и значительней такой красоты? Да ничего на свете!
Андрей Евгеньевич уже не бежал, а шел, очень медленно, сгорбившись, считая каждый шаг. До дома оставалось не больше пятидесяти метров. Свернув на свою улицу, он почти сразу увидел сиреневый спортивный «Форд». Машина стояла возле ворот его гаража, и ворота медленно ползли вверх.
– Мерзавка! – прошептал Григорьев. – Я тебе покажу Москву! Я тебе устрою спецоперацию! Прощаться приехала? Сказать гудбай и поцеловать любимого папочку в лобик? Благословения попросить? Хрен тебе, Машка! Я тебя на это не благословляю! – Он сжал кулаки в бессильной ярости и сам не заметил, как распрямилась спина. Он уже не плелся, не шаркал. Он шагал пружинистым сильным шагом, и глаза его сверкали сквозь последние легкие клочья тумана.
Когда он приблизился к воротам, гневный монолог иссяк, затих, словно шипение воды на раскаленных углях. Тонкая фигурка в белых узких джинсах и свободном бледно-голубом пуловере ждала его на высоком крыльце. Туман окончательно рассеялся.
– Привет, – сказала она и шагнула вниз, ему навстречу, – привет, папа. Тебе очень идет этот свитер.
Ее волосы, такие же светлые, как у ее матери, блестели на солнце. Большие глаза, тоже материнские, меняли цвет в зависимости от погоды, освещения и цвета одежды. Сейчас она была в голубом, и глаза казались совершенно небесными, ангельскими. Она смотрела на него сверху вниз, ласково и насмешливо, как умела смотреть ее мать, и уже потянулась, чтобы чмокнуть его в колючую щеку, но он грубо отстранил ее и принялся молча, сосредоточенно шарить в карманах.
– У меня есть ключи, – Маша протянула ему свою связку, – если ты будешь злиться, я сейчас уеду.
– Скатертью дорожка, катись отсюда, маленькая засранка, – проворчал он и добавил по-английски: – Вы спешите, леди, у вас много дел, я вас не задерживаю.
– Папа, кончай валять дурака. – Она вошла вслед за ним в дом и все-таки чмокнула его в щеку. – Ты почему такой мокрый? Бежал?
– Отстань, – он прошагал мимо нее в гостиную, плюхнулся на свой любимый диван.
Но она и не приставала больше. Она отправилась на кухню, захлопала дверцами, зашуршала пакетами. Он сидел на диване, смотрел, как преломляется солнечный свет в каждом яблоневом цветке. Сказочная красота вызывала острое, странное раздражение.
«Машка улетит и исчезнет, – думал он, – она точно исчезнет в этой опасной, непредсказуемой стране. Никакие мои связи, заслуги, возможности не помогут. А стало быть, ничего уже не важно и не нужно. Волшебное деревце со своим бескорыстным радужным трепетом, с переливами тени и света не спасет от смертельной тоски».
– Ты завтракал? – негромко крикнула Маша из кухни.
Григорьев подпрыгнул на диване, схватил пульт, включил телевизор и до предела увеличил звук. Дом наполнился визгом, грохотом, утробным бульканьем. Шел тот самый японский мультфильм, герой которого был отштампован на детском мячике. Маша, морщась, зажав ладонями уши, влетела в гостиную, выключила телевизор и села на диван рядом с ним.
– Я знаю, почему ты злишься, – сказала она тихо, – ты мне завидуешь. Ты бы сам с удовольствием слетал на родину. Верно? Там так сейчас интересно…
Григорьев ничего не ответил. Он смотрел в погасший телеэкран. В нем отражались два смутных, искаженных силуэта. У Маши получалась огромная голова и маленькое тело. Она напоминала бело-голубого головастика. У него, наоборот, голова уменьшилась, шея вытянулась, а корпус вырос в бесформенную массу. Он стал похож на динозавра, на старого, давно вымершего тупицу, у которого капелька вялого мозга и тонны жизнерадостного мяса.
– Нет, я понимаю, не стоило впутывать в наши семейные дела чужого человека, но ты же знаешь Макмерфи. Я вообще не собиралась с ним это обсуждать. Он сам затеял разговор, спросил, знаешь ли ты уже и почему я тебе до сих пор не сказала?
– Кстати, почему?
– Потому!
– Можно конкретней?
– Боялась, – чуть повысила голос Маша, – предвидела, какая будет реакция. И, между прочим, не ошиблась.
– Спасибо, доченька, – процедил Григорьев сквозь зубы, – большое тебе спасибо, мне, конечно, было очень приятно услышать такую новость от Макмерфи, а не от тебя, да еще за сутки до твоего отлета.
– За десять часов, – мягко уточнила она.
– Как – за десять? То есть что, прямо сегодня? Практически сейчас?
– Да, папочка. Так даже лучше. Меньше разговоров, переживаний, – Маша встала, гибко потянулась и подошла к стеклянной двери, ведущей во внутренний двор. – Смотри, твое деревце зацвело, а ты говорил, яблонька должна засохнуть к весне. Слушай, ты будешь пить кофе или я одна? Я, между прочим, еще не завтракала.
– Десять часов, говоришь? Ладно, Машка, у нас действительно очень мало времени, – Григорьев зажмурился и слегка тряхнул головой, – как давно возникла идея отправить тебя туда?
– Думаю, Макмерфи начал готовить меня пару месяцев назад.
– Что значит – думаю?
– Ты же знаешь, как это происходит. Вначале ничего не говорится прямо. Идет отбор. Даются одинаковые задания разным людям, сверяются результаты. Вероятно, я справилась лучше других. Ну и потом, им нужно отправить туда очень молодого человека, лет двадцати пяти, – она шагнула к овальному зеркалу, расстегнула заколку и запустила пальцы в свои мягкие прямые волосы, – как тебе кажется, если я подстригусь под мальчика, я буду выглядеть моложе? Макмерфи просил меня подстричься. А мне жалко.
– Что за чушь? Они тебя легендируют, что ли? – Григорьев нервно усмехнулся и отшвырнул зажигалку, которая так и не зажглась.
– Ну, не совсем, – она подняла волосы вверх и прижала их ладонями ко лбу, – челка мне, конечно, не пойдет. Но если подстричься совсем коротко, чтобы лоб был открыт, получится неплохо. В России это называется «тифози». Между прочим, модно сейчас. Знаешь, сзади совсем ничего, практически голый затылок, до макушки. Шея кажется длинней. Правда, щетина вылезает быстро, и это выглядит довольно противно. Надо постоянно подбривать.
– Почему именно ты? – тоскливо пробормотал Григорьев.
– Потому, что я такая умная, красивая и талантливая. Потому, что четыре года назад, когда господин Рязанцев читал лекции в Гарварде, он явно выделял меня среди прочих студентов. Ему нравится такой тип людей, такой тип женщин. Мне будет несложно наладить с ним доверительные отношения. Компьютерный анализ это подтвердил, – Маша в очередной раз повернулась перед зеркалом и тряхнула волосами. – Все-таки стричься мне или нет, как ты думаешь?
– В чем заключались проверочные задания? В каком качестве ты туда летишь? Какие доверительные отношения? Почему ты должна быть младше самой себя?
– Не младше, – улыбнулась Маша, – наивней. Я должна быть восторженной и трогательной дурочкой. Ну, не двадцати восьми, а двадцати пяти лет. Подумаешь, какие-то три года… В России вообще не принято говорить о женском возрасте. Между прочим, это правильно.
– Кончай морочить мне голову! – закричал он и тут же прикусил язык, вспомнив, что позавчера в его доме перегорели пробки и приходил веселый пожилой электрик Оскар. Это случалось всякий раз после того, как он обнаруживал и снимал «жучки». Оскар, добродушный толстяк, балагур, проверял проводку и лепил новые «жучки», выбирая для них более укромные места. Чтобы Маша не успела ответить на вопрос тупого жирного динозавра, он искусственно закашлялся. Она тут же отняла у него сигарету, загасила, сбегала на кухню и вернулась со стаканом воды.
– Знаешь что, пойдем завтракать к «Ореховой Кларе», – сказал Андрей Евгеньевич, сделав несколько глотков, – у меня только хлеб, масло, яйца и бекон. Никаких фруктов, ничего вегетарианского для тебя.
Она лишь слегка сдвинула брови. Ни удивления, ни испуга не мелькнуло в ее ангельских ясных глазах, и Григорьев мысленно поздравил себя. Не так уж туп жирный динозавр, если сумел научить своего хрупкого головастика такой железной выдержке. Она ведь была на кухне, заглядывала в буфет и в холодильник. В его доме всегда, в любое время суток, имелся специально для нее запас вегетарианской еды: орешки, фрукты, свежий йогурт. Конечно, она отлично знала, что дом ее отца прослушивается. Однако верила, что это делают свои. Так положено, для безопасности. От своих не может быть секретов. Он сам внушил ей это. Тоже для безопасности.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
– Каждый действующий политик может быть подвержен дестабилизации. И чем активней он действует, тем больше нарабатывает факторов риска, – Евгений Николаевич Рязанцев с мягкой, снисходительной улыбкой смотрел в глазок телекамеры и пытался представить, что перед ним живые глаза, внимательные и восторженные женские глаза. Он всегда чувствовал себя отлично в женском обществе, намного уютней и уверенней, чем в мужском. И то, что к нему приехала одна из самых эффектных леди российского экрана, должно было бодрить. Но не бодрило.
Звезда тележурналистики Надежда Круглова, может, и родилась девочкой, но уже в младенчестве стала бабой, теткой, вечно голодной щучкой, готовой вцепиться зубами не только в чужой съедобный кусок, но и в несъедобную часть чужого тела.
– И часто вас подвергают дестабилизации? – ехидно спросила Круглова, изящным движением откинув белокурую прядь.
Работали две телекамеры. Рязанцева снимали жестко, широкоугольным объективом. Он знал, что на экране пропорции лица будут искажены. Нос и губы получатся огромные, глаза маленькие, лоб низкий, скошенный назад. Каждая пора, каждая родинка и морщинка вылезут особенно грубо, грубее, чем в жизни.