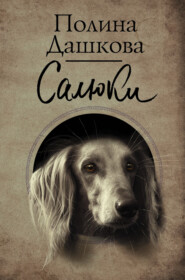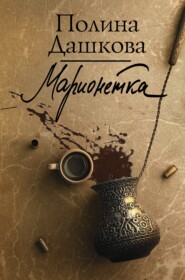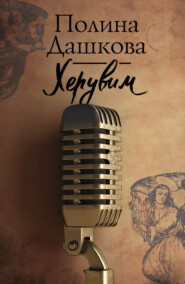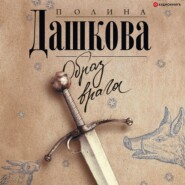По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Соотношение сил
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доктор протянул ему платок. Митя шумно высморкался, произнес по-немецки:
– Спасибо. Это от мороза… – он сморщился и заговорил по-русски: – Не могу я больше. Там было тошно, вернулся, а тут… Фуражка в отделе на вешалке висит вторую неделю, никто тронуть не решается.
– Какая фуражка?
– Кирпетпо. – Митя ударил палкой по еловой ветке так сильно, что сбитый снег взвился маленькой вьюгой. – Вызвали к руководству, и все, исчез. Ладно, ежовскую сволоту вычищают, отлично, туда и дорога. Но Кирпетпо при чем? Честнейший человек, специалист бесценный, шифры японские, английские, немецкие как орешки щелкал.
– Позволь, я видел его совсем недавно, – доктор наморщил лоб под шапочкой.
– Когда?
Точно Карл Рихардович вспомнить не мог, но, чтобы успокоить Митю, соврал:
– Дней пять назад, тут, в школе, и в расписании значится его предмет. Так что не выдумывай. Наверное, перевели куда-то, а фуражку он просто забыл на вешалке по рассеянности.
Митя помотал головой.
– Я заходил к нему домой… Не понимаю… Ладно, был заговор в самом главном органе, фашисты-троцкисты. А теперь новый заговор? Или все тот же, только под видом официального договора? Он опять не знает? Молотов подписал, его не спросил?
– Прекрати! – жестко одернул доктор.
Но Митя не услышал, продолжал возбужденно, перескакивая с немецкого на русский:
– Что же получается? Фашистам золото вагонами, зерно, уголь, стратегическое сырье, а своих, лучших, в расход?
– Разберутся и отпустят, – кашлянув, быстро произнес доктор по-немецки.
– В тридцать седьмом так же говорили.
– В тридцать седьмом молчали и тряслись.
– Домолчались. Вступили в мировую войну на стороне Гитлера.
– Что ты несешь? СССР ни с кем не воюет!
В голове вспыхнуло: «Финляндия!» – он поспешно добавил:
– Никаких боевых действий на стороне Гитлера. – Но сразу подумал о Польше и закончил раздраженно: – Все, хватит об этом!
– Не могу! – Митя провел рукой возле горла. – Оно душит меня, надо выговориться, иначе задохнусь, свихнусь. Я не машина, живой человек, с мозгами, с совестью. Подъезжал к Москве, минуты считал. Там все чужое, не знаешь, кто опасней, немцы или свои в торгпредстве. Слово не с кем молвить. А тут вместо Кирпетпо – фуражка… Только вы остались, больше никого. Мама пуганая-перепуганая, сердце у нее, чуть занервничает, сразу приступ. Я ей даже про Кирпетпо сказать не решился.
– Ну и правильно, – кивнул доктор, – вот увидишь, выпустят.
– Вряд ли. Про Хирурга знаете?
– Что именно? – спросил доктор и вспомнил мрачное лицо красавца капитана.
– То самое. – Митя зло оскалился. – Уволили из органов, из партии собираются исключать. В школе пока оставили.
«Хорош бы я был, подкатив к товарищу капитану с урановым разговором», – подумал доктор, загнул край варежки, взглянул на часы.
– Митя, пора. Надо еще переодеться. Теперь помолчи, послушай. С такими мыслями и чувствами ты работать не сможешь. Да, ты человек, не машина, и у тебя есть мозги, чтобы думать. Союз с Гитлером – вынужденная мера, единственный способ выиграть время. Из курицы, несущей золотые яйца, бульон варить невыгодно. Может, золото, которое ты туда привез, отсрочит нападение и спасет тысячи жизней?
– Нет, – Митя упрямо помотал головой, – не спасет, погубит, потому что будет потрачено на танки и самолеты, которые вдарят по нам.
– Вдарят, – кивнул доктор, – и довольно скоро. Поэтому хватит ныть, соберись. Исстрадался: золото вагонами, уголь, стратегическое сырье… Вон англичане и французы Гитлеру уже пол-Европы подарили, и ничего, совесть не мучает. Политики всего лишь люди. Глупые, лживые, жестокие. Разные. Но уж точно не лучшие из людей. Среди них умных мало, честных еще меньше, добрых вообще нет. Попробуй сменить угол зрения, взгляни на это здраво, без детских иллюзий, без презумпции идеальности. Человек у власти и страна, которой он руководит, – не одно и то же. Просто делай, что можешь, для своей страны, а не для… в общем, ты меня понял.
Стемнело. Они подъехали к воротам, из будки вылез охранник. В ярком фонарном свете доктор поймал изумленный взгляд Мити, брови под шапочкой напряженно сдвинулись.
– Презумпция идеальности, – повторил он, – а ведь правда… Почему мне это никогда в голову не приходило?
Глава пятая
Весь сентябрь 1939 года Ося мотался по Европе и в своих репортажах убедительно доказывал, что никакой войны нет. Его шеф Чиано, министр иностранных дел Италии и зять Муссолини, четко сформулировал задачу и выдал стержневой тезис: германская армия улаживает локальный конфликт.
Слово «война» не употреблялось. Немецкая сторона заменила его выражением «борьба за мир в Европе». Советская – «защитой братских народов», без уточнения от кого. Итальянская пресса факт нападения Гитлера на Польшу называла «выполнением миротворческой миссии».
Муссолини был обязан выступить на стороне Гитлера. Дуче смертельно боялся, что Англия и Франция ударят по нему, как по союзнику Германии, призывал к перемирию, предлагал собрать конференцию и всячески подчеркивал свой нейтралитет. Настроение его менялось каждую минуту. То он кричал, что надо порвать с Гитлером, то надувал щеки и заявлял, что ему судьбой предназначено идти с фюрером до конца.
В последние дни августа Чиано подсказал ему хитрый ход – передать немцам список того, что нужно итальянской армии для участия в боевых действиях. Тысячи тонн угля, нефти, стали, сотни самолетов и танков. Требования были очевидно невыполнимы и означали отказ от союзнических обязательств. Фюрер великодушно простил своего робкого друга и заверил в официальной ноте, что Германия справится собственными силами. Телеграмму фюрера дуче лично зачитал по радио, чтобы успокоить итальянцев, которые совершенно не хотели воевать и уже начали тихо ненавидеть немцев.
Конечно, Германия справилась. Фюрер легко обошелся без римских легионов, вооруженных ружьями образца 1891 года, способных сражаться лишь с босоногими эфиопами и албанцами. От Муссолини требовалась только моральная поддержка. Но и это оказалось для дуче слишком тяжким испытанием. Повторять нацистскую пропаганду, будто поляки напали первыми, он не мог, не хотел раздражать англичан и французов. Они и так были раздражены, настолько сильно, что 3 сентября объявили Германии войну.
В Лондоне копали траншеи. Из США в Британию поступали партии детских противогазов в виде Микки-Мауса. Во Франции шла мобилизация, новобранцы бегали по лужайкам и кололи штыками соломенные чучела. Британские парламентарии обращались к военным: «Почему мы не бомбим Германию?» Министр авиации отвечал: «Потому что германские стратегические объекты – частная собственность, мы обязаны уважать частную собственность».
Джованни Касолли в своих репортажах не врал. Войны действительно не было. Она существовала лишь на бумаге, в официальных нотах правительств Англии и Франции. То, что происходило в реальности, то, что он видел своими глазами в Польше, называлось как-то иначе. Он не мог подобрать точного определения. В голове крутились слова: подлость, трусость, тупость, ужас, безумие. Подлость англичан. Трусость французов. Тупость и тех и других. Ужас поляков и всеобщее безумие.
1 сентября, в четыре утра, без предупреждения, без объявления войны, первая бомба люфтваффе упала на городскую больницу польского городка Велюнь в двадцати километрах от немецкой границы. Велюнь, старинный, тихий, с костелами, монастырями и мирно спящими жителями, не имел никакого стратегического значения. Его разбомбили, чтобы посеять ужас.
Поляки не успели мобилизовать свою армию. В небе ревели истребители и бомбардировщики люфтваффе. По земле со скоростью тридцать миль в день катилось чудовище, гигантский сплав смертоносного железа и людей, убежденных в своем биологическом праве убивать. Польские кавалерийские бригады с пиками наперевес неслись под гусеницы немецких танковых дивизий. Дымились развалины городов, торчали печные трубы сгоревших деревень, повсюду лежали трупы солдат, женщин, детей, лошадей. Погорельцы копошились у пепелищ, искали уцелевшие пожитки, беженцы шли на восток. Но еще оставалась надежда. Польская армия продолжала сражаться. Впервые после бескровных триумфов в Рейнской зоне, в Австрии и Чехословакии, вермахт встретил сопротивление и нес потери. Ни один польский город не сдавался без боя.
Окруженная, зажатая в клещи Варшава держалась. Информационные агентства рейха твердили, что Варшава пала, а варшавское радио продолжало играть государственный гимн Польши. Надеяться было не на что, но надежда еще жила. Она угасла в шесть утра 17 сентября, когда с востока в Польшу вошла Красная армия. Через двенадцать часов несколько уцелевших членов польского правительства покинули страну через румынскую границу.
22 сентября Ося стоял в небольшой группе журналистов на центральной улице польского города Брест-Литовска и снимал на свою «Аймо» совместный парад девятнадцатого мотострелкового корпуса вермахта и двадцать девятой отдельной танковой бригады Красной армии.
Сводный военный оркестр играл нацистские и советские марши. В объектив попало рукопожатие генерала Гудериана и комбрига Кривошеина. Они принимали парад, стоя на импровизированном постаменте, сколоченном из досок, вроде низкого стола с толстыми ножками. Они улыбались друг другу и говорили по-французски.
– У этого русского гитлеровские усики, – ехидно заметила корреспондентка «Нью-Йорк таймс» Кейт Баррон.
– Этот русский – еврей, – интимным шепотом сообщил пожилой толстяк в зеленой шляпе.
– Откуда вы знаете? – удивился Ося.
– Я хороший физиономист, – ответил толстяк и кивнул на Кейт: – Молодая леди полукровка, среди американцев таких все больше. Рене Тибо, радио Брюсселя.
Ося представился и пожал протянутую пухлую кисть.
Оркестр играл громко, но Кейт расслышала слова бельгийца, смерила его надменным взглядом.
– Спасибо. Это от мороза… – он сморщился и заговорил по-русски: – Не могу я больше. Там было тошно, вернулся, а тут… Фуражка в отделе на вешалке висит вторую неделю, никто тронуть не решается.
– Какая фуражка?
– Кирпетпо. – Митя ударил палкой по еловой ветке так сильно, что сбитый снег взвился маленькой вьюгой. – Вызвали к руководству, и все, исчез. Ладно, ежовскую сволоту вычищают, отлично, туда и дорога. Но Кирпетпо при чем? Честнейший человек, специалист бесценный, шифры японские, английские, немецкие как орешки щелкал.
– Позволь, я видел его совсем недавно, – доктор наморщил лоб под шапочкой.
– Когда?
Точно Карл Рихардович вспомнить не мог, но, чтобы успокоить Митю, соврал:
– Дней пять назад, тут, в школе, и в расписании значится его предмет. Так что не выдумывай. Наверное, перевели куда-то, а фуражку он просто забыл на вешалке по рассеянности.
Митя помотал головой.
– Я заходил к нему домой… Не понимаю… Ладно, был заговор в самом главном органе, фашисты-троцкисты. А теперь новый заговор? Или все тот же, только под видом официального договора? Он опять не знает? Молотов подписал, его не спросил?
– Прекрати! – жестко одернул доктор.
Но Митя не услышал, продолжал возбужденно, перескакивая с немецкого на русский:
– Что же получается? Фашистам золото вагонами, зерно, уголь, стратегическое сырье, а своих, лучших, в расход?
– Разберутся и отпустят, – кашлянув, быстро произнес доктор по-немецки.
– В тридцать седьмом так же говорили.
– В тридцать седьмом молчали и тряслись.
– Домолчались. Вступили в мировую войну на стороне Гитлера.
– Что ты несешь? СССР ни с кем не воюет!
В голове вспыхнуло: «Финляндия!» – он поспешно добавил:
– Никаких боевых действий на стороне Гитлера. – Но сразу подумал о Польше и закончил раздраженно: – Все, хватит об этом!
– Не могу! – Митя провел рукой возле горла. – Оно душит меня, надо выговориться, иначе задохнусь, свихнусь. Я не машина, живой человек, с мозгами, с совестью. Подъезжал к Москве, минуты считал. Там все чужое, не знаешь, кто опасней, немцы или свои в торгпредстве. Слово не с кем молвить. А тут вместо Кирпетпо – фуражка… Только вы остались, больше никого. Мама пуганая-перепуганая, сердце у нее, чуть занервничает, сразу приступ. Я ей даже про Кирпетпо сказать не решился.
– Ну и правильно, – кивнул доктор, – вот увидишь, выпустят.
– Вряд ли. Про Хирурга знаете?
– Что именно? – спросил доктор и вспомнил мрачное лицо красавца капитана.
– То самое. – Митя зло оскалился. – Уволили из органов, из партии собираются исключать. В школе пока оставили.
«Хорош бы я был, подкатив к товарищу капитану с урановым разговором», – подумал доктор, загнул край варежки, взглянул на часы.
– Митя, пора. Надо еще переодеться. Теперь помолчи, послушай. С такими мыслями и чувствами ты работать не сможешь. Да, ты человек, не машина, и у тебя есть мозги, чтобы думать. Союз с Гитлером – вынужденная мера, единственный способ выиграть время. Из курицы, несущей золотые яйца, бульон варить невыгодно. Может, золото, которое ты туда привез, отсрочит нападение и спасет тысячи жизней?
– Нет, – Митя упрямо помотал головой, – не спасет, погубит, потому что будет потрачено на танки и самолеты, которые вдарят по нам.
– Вдарят, – кивнул доктор, – и довольно скоро. Поэтому хватит ныть, соберись. Исстрадался: золото вагонами, уголь, стратегическое сырье… Вон англичане и французы Гитлеру уже пол-Европы подарили, и ничего, совесть не мучает. Политики всего лишь люди. Глупые, лживые, жестокие. Разные. Но уж точно не лучшие из людей. Среди них умных мало, честных еще меньше, добрых вообще нет. Попробуй сменить угол зрения, взгляни на это здраво, без детских иллюзий, без презумпции идеальности. Человек у власти и страна, которой он руководит, – не одно и то же. Просто делай, что можешь, для своей страны, а не для… в общем, ты меня понял.
Стемнело. Они подъехали к воротам, из будки вылез охранник. В ярком фонарном свете доктор поймал изумленный взгляд Мити, брови под шапочкой напряженно сдвинулись.
– Презумпция идеальности, – повторил он, – а ведь правда… Почему мне это никогда в голову не приходило?
Глава пятая
Весь сентябрь 1939 года Ося мотался по Европе и в своих репортажах убедительно доказывал, что никакой войны нет. Его шеф Чиано, министр иностранных дел Италии и зять Муссолини, четко сформулировал задачу и выдал стержневой тезис: германская армия улаживает локальный конфликт.
Слово «война» не употреблялось. Немецкая сторона заменила его выражением «борьба за мир в Европе». Советская – «защитой братских народов», без уточнения от кого. Итальянская пресса факт нападения Гитлера на Польшу называла «выполнением миротворческой миссии».
Муссолини был обязан выступить на стороне Гитлера. Дуче смертельно боялся, что Англия и Франция ударят по нему, как по союзнику Германии, призывал к перемирию, предлагал собрать конференцию и всячески подчеркивал свой нейтралитет. Настроение его менялось каждую минуту. То он кричал, что надо порвать с Гитлером, то надувал щеки и заявлял, что ему судьбой предназначено идти с фюрером до конца.
В последние дни августа Чиано подсказал ему хитрый ход – передать немцам список того, что нужно итальянской армии для участия в боевых действиях. Тысячи тонн угля, нефти, стали, сотни самолетов и танков. Требования были очевидно невыполнимы и означали отказ от союзнических обязательств. Фюрер великодушно простил своего робкого друга и заверил в официальной ноте, что Германия справится собственными силами. Телеграмму фюрера дуче лично зачитал по радио, чтобы успокоить итальянцев, которые совершенно не хотели воевать и уже начали тихо ненавидеть немцев.
Конечно, Германия справилась. Фюрер легко обошелся без римских легионов, вооруженных ружьями образца 1891 года, способных сражаться лишь с босоногими эфиопами и албанцами. От Муссолини требовалась только моральная поддержка. Но и это оказалось для дуче слишком тяжким испытанием. Повторять нацистскую пропаганду, будто поляки напали первыми, он не мог, не хотел раздражать англичан и французов. Они и так были раздражены, настолько сильно, что 3 сентября объявили Германии войну.
В Лондоне копали траншеи. Из США в Британию поступали партии детских противогазов в виде Микки-Мауса. Во Франции шла мобилизация, новобранцы бегали по лужайкам и кололи штыками соломенные чучела. Британские парламентарии обращались к военным: «Почему мы не бомбим Германию?» Министр авиации отвечал: «Потому что германские стратегические объекты – частная собственность, мы обязаны уважать частную собственность».
Джованни Касолли в своих репортажах не врал. Войны действительно не было. Она существовала лишь на бумаге, в официальных нотах правительств Англии и Франции. То, что происходило в реальности, то, что он видел своими глазами в Польше, называлось как-то иначе. Он не мог подобрать точного определения. В голове крутились слова: подлость, трусость, тупость, ужас, безумие. Подлость англичан. Трусость французов. Тупость и тех и других. Ужас поляков и всеобщее безумие.
1 сентября, в четыре утра, без предупреждения, без объявления войны, первая бомба люфтваффе упала на городскую больницу польского городка Велюнь в двадцати километрах от немецкой границы. Велюнь, старинный, тихий, с костелами, монастырями и мирно спящими жителями, не имел никакого стратегического значения. Его разбомбили, чтобы посеять ужас.
Поляки не успели мобилизовать свою армию. В небе ревели истребители и бомбардировщики люфтваффе. По земле со скоростью тридцать миль в день катилось чудовище, гигантский сплав смертоносного железа и людей, убежденных в своем биологическом праве убивать. Польские кавалерийские бригады с пиками наперевес неслись под гусеницы немецких танковых дивизий. Дымились развалины городов, торчали печные трубы сгоревших деревень, повсюду лежали трупы солдат, женщин, детей, лошадей. Погорельцы копошились у пепелищ, искали уцелевшие пожитки, беженцы шли на восток. Но еще оставалась надежда. Польская армия продолжала сражаться. Впервые после бескровных триумфов в Рейнской зоне, в Австрии и Чехословакии, вермахт встретил сопротивление и нес потери. Ни один польский город не сдавался без боя.
Окруженная, зажатая в клещи Варшава держалась. Информационные агентства рейха твердили, что Варшава пала, а варшавское радио продолжало играть государственный гимн Польши. Надеяться было не на что, но надежда еще жила. Она угасла в шесть утра 17 сентября, когда с востока в Польшу вошла Красная армия. Через двенадцать часов несколько уцелевших членов польского правительства покинули страну через румынскую границу.
22 сентября Ося стоял в небольшой группе журналистов на центральной улице польского города Брест-Литовска и снимал на свою «Аймо» совместный парад девятнадцатого мотострелкового корпуса вермахта и двадцать девятой отдельной танковой бригады Красной армии.
Сводный военный оркестр играл нацистские и советские марши. В объектив попало рукопожатие генерала Гудериана и комбрига Кривошеина. Они принимали парад, стоя на импровизированном постаменте, сколоченном из досок, вроде низкого стола с толстыми ножками. Они улыбались друг другу и говорили по-французски.
– У этого русского гитлеровские усики, – ехидно заметила корреспондентка «Нью-Йорк таймс» Кейт Баррон.
– Этот русский – еврей, – интимным шепотом сообщил пожилой толстяк в зеленой шляпе.
– Откуда вы знаете? – удивился Ося.
– Я хороший физиономист, – ответил толстяк и кивнул на Кейт: – Молодая леди полукровка, среди американцев таких все больше. Рене Тибо, радио Брюсселя.
Ося представился и пожал протянутую пухлую кисть.
Оркестр играл громко, но Кейт расслышала слова бельгийца, смерила его надменным взглядом.