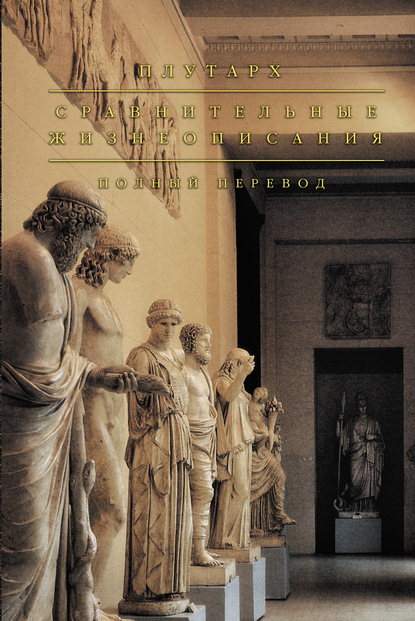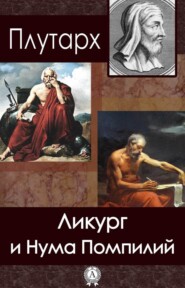По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сравнительные жизнеописания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алкивиад говорил таким образом и советовал полководцам перевести флот свой к Сесту; но они не обращали на его слова никакого внимания. Тидей, один из них, с ругательством велел ему удалиться, говоря, что уже не он, а другие начальствуют. Алкивиад, заметя в них и некоторую склонность к измене, удалился и между тем говорил провожавшим его из стана приятелям своим, что когда бы полководцы не поступили с ним столь нагло, то через несколько дней принудил бы лакедемонян или против воли своей сразиться с ними, или оставить корабли. Некоторым казались слова эти хвастовством; другие их находили вероятными, когда бы он привел довольно фракийских стрелков и конных с твердой земли, стал бы сражаться с лакедемонянами и тем бы привел их стан в расстройство. Вскоре самые дела доказали, что он хорошо познал ошибки афинян. Лисандр напал на них вдруг и неожиданно. Только восемь триер спаслись с Кононом; другие, в числе почти двухсот, достались неприятелю; в плен попались три тысяч воинов, которых Лисандр велел умертвить. Вскоре завладел он Афинами, сжег корабли, срыл длинные стены.
Алкивиад, устрашась лакедемонян, обладавших уже морем и твердой землей, переправился в Вифинию, имея при себе великое богатство и оставив еще большее в своей крепости. В Вифинии лишился он немалой части своего богатства от разбойников фракийских. Это подало ему мысль отправиться к Артаксерксу в надежде, что царь при свидании с ним оценит его не ниже Фемистокла, имея притом благороднейшее к тому побуждение, ибо не та была его цель, чтобы, подобно Фемистоклу, возбудить царя против сограждан своих, но оказать им услугу и просить царской помощи против их неприятелей. Думая, что Фарнабаз доставит ему удобность и безопасность в путешествии, он отправился к нему во Фригию и жил у него, льстя ему и будучи им уважаем.
Афинянам было несносно лишение прежнего их могущества; но когда Лисандр отнял у них самую вольность и город предал во власть тридцати тираннов, когда уже все погибло, тогда приходило им на мысль то, чего они не употребили в то время, пока могли еще спастись; они оплакивали свои бедствия и исчисляли свои ошибки и безрассудства. Самым же большим почитали они последний гнев свой на Алкивиада, который был отвержен ими, хотя не причинил им ни малейшего зла; а они, негодуя на подчиненного, безумно потерявшего немного кораблей, еще безумнее лишили республику храбрейшего и искуснейшего в военных делах полководца.
Однако слабый луч надежды оживлял их в настоящем положении: они думали, что не все погибло, пока Алкивиад еще жив; что он и в первом изгнании не любил жить в бездействии и покое и теперь, если только в состоянии, не снесет надменности лакедемонян, ни несправедливости тридцати тираннов. Небезрассудно, таким образом, мечтал народ, когда и тридцать тираннов не переставали заботиться и расспрашивать тщательно о том, что Алкивиад делал и предпринимал. Наконец, Критий представил Лисандру, что лакедемоняне не могут безопасно начальствовать над Грецией, пока в Афинах народоправление; что хотя афиняне охотно покорятся олигархии, однако же, пока Алкивиад жив, не оставит их в покое при настоящем положении. Лисандр, однако, согласился с этими доводами не прежде как по получении от правителей Спарты скиталы, в которой повелевали ему погубить Алкивиада, или боясь великого и предприимчивого духа сего мужа, или угождая Агису.
Лисандр писал Фарнабазу исполнить приказание Спарты. Этот сатрап препоручил исполнение сего дела Багею, своему брату, и дяде Сузамитре. Алкивиад остановился тогда в некотором местечке во Фригии вместе с гетерой Тимандрой. Ему представилось во сне, что надел платье своей любовницы и что она держала голову его в объятиях своих, убирала его, румянила и белила, как женщину. Другие говорят, что он видел во сне, будто отсек у него голову Багей и что тело его было сожжено. Это сновидение случилось незадолго перед его смертью.
Посланные умертвить его не осмелились войти к нему в дом, но обступили оный и зажгли. Алкивиад, приметив пожар, собрал большую часть платьев и ковров и бросил их в огонь. Обернув левую руку епанчой, а правой держа меч, вырвался невредим сквозь огонь, прежде нежели платье сгорело, и, показавшись варварам, рассеял их. Никто из них не снес его вида; никто не осмелился напасть на него; они отступили и издали бросали на него дротики и стрелы. Он пал; варвары удалились. Тимандра подняла мертвое тело и, обвернувши в свое платье, сколько положение ее позволяло, похоронила великолепным образом*.
Говорят, что дочерью Тимандры была Лаида, прозванная Коринфянкой, которая взята в плен в Гиккарах*, сицилийском городке.
Некоторые писатели, хотя и согласны во всем этом касательно смерти Алкивиада, но только уверяют, что не Фарнабаз и не Лисандр и лакедемоняне были тому причиной, но сам он, обольстив девушку некоторых своих знакомых и держа ее у себя. Братья ее не стерпели обиды, зажгли ночью дом, в котором Алкивиад остановился, и умертвили его, как сказано, когда он выскочил из огня*.
Гай Марций
Патрицианский род Марциев в Риме произвел многих славных мужей. От него произошел Анк Марций*, внук Нумы, царствовавший после Тулла Гостилия. Марциева рода были Публий и Квинт, проведшие в Рим прекрасную воду в большем количестве, и Цензорин, дважды римским народом избранный цензором* и потом сам убедивший его утвердить законом, чтобы впредь никому не было позволено искать дважды цензорского достоинства.
Гай Марций, которого жизнь здесь описывается, потеряв отца, был воспитан вдовой матерью и собой показал, что хотя сиротство сопряжено со многими бедствиями, однако нимало не препятствует сделаться хорошим и отличным человеком, и что люди недостойные ложно и неосновательно жалуются на оное как на причину своей испорченности – за неимением надзора. Равным образом он же утвердил собою мнение тех, кто думает, что лучшие и благороднейшие свойства, не будучи образованы, вместе с хорошим производят много дурного, подобно плодоносной земле, не обработанной земледельцем с надлежащим старанием. Твердость и неколебимость его души рождали в нем великие и деятельные порывы к славным подвигам; с другой стороны, предавшись неукротимому гневу и непреклонному упорству, был он неприятен в общежитии и не способен примениться к другим. Удивляясь его терпению в трудах, равнодушию к наслаждениям и богатству и называя эти его качества воздержанием, справедливостью, доблестью, не терпели его в гражданских делах как неприятного, ненавистного и властолюбивого. В самом деле, самая большая польза, которую род человеческий приобретает от благосклонности Муз, есть та, что они смягчают словесностью и учением дикую природу; через них она получает умеренность и очищается от всякого излишества.
Вообще в те времена Рим прославлял более всего те добродетели, которые относятся к войне и военным деяниям. Это доказывается тем, что добродетель и храбрость называли римляне одним и тем же именем и что слово, означающее добродетель вообще, было одно и то же с тем, которым называется храбрость в особенности.
Марций, пристрастившись более всякого к военным упражнениям, с самого малолетства начал действовать оружием. Но, почитая приобретенные оружия бесполезными для тех, кто не старается изощрять и усовершенствовать своего природного и врожденного оружия, он приготовил свое тело ко всякому роду сражения и борьбы. Он приобрел привычку бегать с великой легкостью; в схватке и борьбе мог обнаруживать непреодолимую силу. Состязающиеся с ним в твердости духа и храбрости приписывали телесной его крепости, непреоборимой и все труды переносить способной, те преимущества, в которых долженствовали ему уступать.
Будучи еще очень молод, ратоборствовал он в первый раз, когда Тарквиний, царствовавший в Риме, потом сверженный с престола, после многих битв и поражений решился в последний раз испытать свое счастье*. К нему присоединились многие из латинян и других италийцев, которые двинулись против Рима не столько из привязанности своей к Тарквинию, сколько из страха и зависти к возникающему счастью римлян, желая оное ниспровергнуть. В битве, которая с обеих сторон имела различные перемены счастья, Марций, сражаясь с великой смелостью перед глазами диктатора*, увидел римлянина, падшего подле себя; он не оставил его без помощи, но, став пред ним, защищал его и убил устремившегося на него неприятеля. По одержании победы полководец наградил его первого из отличнейших дубовым венком; по закону таковой венок определен тому, кто спасет на войне жизнь гражданина. Это предпочтение оказывается дубу или из уважения к аркадянам, названными прорицалищем желудоедами*, или потому, что дубовый венок, посвященный Зевсу, покровителю городов, есть приличная награда за спасение жизни гражданина. Дуб изо всех диких деревьев дает лучший плод; из домашних это самое крепкое дерево. В древние времена люди получали от него в пищу желуди, в питье – мед. Дуб доставлял им мясо разных животных и птиц, производя клей, – это орудие, столь полезное в охоте.
Уверяют, что в оном сражении показались и Диоскуры и что вскоре после того они были видимы на конях, покрытых потом, на форуме, возвещая победу, на том месте, где теперь, подле источника, стоит их храм. По этой причине этот день, победный в июльских идах, посвящен Диоскурам*.
Кажется, почести и отличия, получаемые молодыми людьми слишком рано, в душах малочестолюбивых вскоре погашают жажду к славе и производят в них пресыщение. Но души высокие и постоянные еще более возбуждаются и воспламеняются почестями, как устремленные вихрем к тому, что кажется им похвальным. Как будто бы не получали награды, но сами давали залог, они стыдятся изменить своей славе и не превзойти ее большими подвигами. Такими чувствами был одушевлен и Марций. Он поставил себя соперником себе самому в великих предприятиях и, желая проявлять себя в новых деяниях, к славным подвигам присоединял славнейшие; к корыстям прибавлял корысти; последние его начальники спорили всегда с прежними в оказывании ему почестей, старались превзойти друг друга засвидетельствованием о его храбрости. В тогдашнее время римляне вели частые войны и давали многие сражения; Марция ни с одного не возвращался, не получив венка, или иной какой-нибудь награды. Цель храбрости других юношей была слава; цель славы Марция – материнская радость; чтобы мать слышала, как его хвалили, видела, как его венчали, и обнимала его с радостными слезами, это было для него величайшей славой, верховным блаженством. В подобных чувствах признавался, конечно, и Эпаминонд; он почитал величайшим для себя счастьем то, что его отец и мать были еще живы, видели его поход и победу, одержанную им при Левктрах. Эпаминонд наслаждался тем счастьем, что отец и мать разделяли с ним его радости и благополучие. Но Марций, почитая себя обязанным оказывать матери благодарность, которую должен был отцу, не мог насытиться, производя в ней радость и оказывая ей почтение. Он женился по ее просьбе и желанию и, прижив детей, жил всегда с матерью в одном доме*.
Он имел уже в Риме великую славу и силу по причине храбрости своей, когда сенат, защищая богатых, был в раздоре с народом, который, казалось, претерпевал от заимодавцев жестокие притеснения. Те, кто имел какое-нибудь состояние, лишались всего закладами и публичной продажей; совершенно же не имеющие были сами влекомы и заключаемы в темницы, несмотря на раны их и труды, за отечество понесенные в походах; особенно в последнем походе против сабинян. Богатые тогда обещались умерить свои требования от народа, и сенат определил, чтобы Маний Валерий*, диктатор, поручился в том. Народ сражался с отличной храбростью и победил неприятеля. Но заимодавцы не сделались мягкосерднее в своих изысканиях, а сенат притворялся, что забыл данное обещание и не обращал никакого внимания к должникам, которых заимодавцы влекли в темницы или держали вместо залога. В городе происходили жестокие беспокойства и мятежи. Неприятели республики, от которых не укрылся раздор народа, вступили в римскую область и опустошали ее огнем и мечом. Консулы призывали к оружию взрослых молодых людей, но никто не повиновался. Мнения правителей вновь разделились; одни думали, что должно уступить бедным и смягчить в рассуждении их такое жестокосердие и суровость; другие тому противоречили. В числе последних был и Марций; хотя он не полагал великой важности в деньгах, однако советовал сенаторам, если они благоразумны, укротить при самом начале и при первых покушениях надменность и дерзость народа, восстающего против законов.
Сенат по сему случаю много раз собирался за короткое время, но ничего не решил. Вдруг собрались бедные и, увещевая друг друга, оставили город; заняв гору, называемую ныне Священной, стали они при реке Аниена. Они не производили никакого насилия и мятежа, но только кричали, что давно изгнаны из города богатыми; что Италия везде доставит им воздух, воду и место для погребения; что, живши в Риме и сражаясь за богатых, они более ничего не получали, кроме ран и смерти. Сенат, от того устрашенный, выслал к ним снисходительнейших и более приверженных к народу старцев*. Менений Агриппа первый начал говорить, просил народ, защищал смело сенат и кончил речь следующей известной басней: все части человеческого тела возмутились однажды против желудка и обвиняли его в том, что он один в теле находился без дела, ничего не платя, между тем как они, для удовлетворения его прихотей, работают и претерпевают великие хлопоты. Желудок смеялся их глупости и незнанию того, что, хотя он в себя принимает всю пищу, но возвращает ее назад и распределяет между остальными. «Таков и сенат в отношении к вам, граждане, – продолжал он, – дела и предприятия, с надлежащим благоразумием им управляемые, наделяют вас всем тем, что нужно и полезно».
Речь эта склонила народ к примирению. Он требовал от сената позволения избрать предстателями для беспомощных граждан пять человек, которых теперь называют народными трибунами*. Сенат на то согласился. Народ избрал первыми трибунами тех, кто был его предводителями в том возмущении, Юния Брута* и Сициния Беллута. По прекращении раздора народ тотчас принялся за оружие и охотно следовал за своими начальниками на войну. Марций, будучи недоволен возрастающей силой народа и уступкой аристократов и зная притом, что многие патриции были одного с ним мнения, увещевал их не уступать народу в трудах, за отечество предприемлемых, и более храбростью, нежели могуществом, отличаться перед народом.
В то время римляне вели войну против вольсков, которых знатнейший город был Кориолы. Консул Коминий окружил его войском. Другие вольски, боясь, чтобы город не был взят римлянами, отовсюду спешили к нему на помощь, дабы под его стенами дать сражение и напасть на римлян с двух сторон. Коминий разделил свое войско; сам пошел навстречу вольскам, на него наступившим извне; а Тита Ларция, храбрейшего из римлян, оставил при осаде. Кориолане, пренебрегши этим оставшимся войском, сделали вылазку и, сражаясь, сначала побеждали и гнали римлян в окопы; но Марций с небольшим числом воинов вышел из стана, поразил первых вольсков, вступивших с ним в бой, других стремление остановил и громогласно призывал римлян возвратиться к сражению. Он имел все то, чего требует Катон от воина; руку крепкую, удар тяжелый, голос и вид лица, страшные и нестерпимые для неприятеля. Многие воины собирались, толпились вокруг него; устрашенные неприятели отступали; но Марций, не довольствуясь этим, погнался за ними и преследовал их до самых ворот города, когда они бежали уже опрометью. Здесь, видя, что римляне удерживаются от погони, ибо стрелы сыпались со стен на них градом, а ворваться вместе с бегущими в город, наполненный храбрыми воинами и держащими в руках оружие, никто не дерзал, – Марций остановился, просил и ободрял их, крича, что город отворен, по счастью, более для преследующих, нежели для бегущих. Не многие хотели за ним последовать; Марций, пробравшись сквозь неприятелей, бросился в ворота и ворвался в город вместе с жителями. Сперва никто не смел противиться ему или устоять против него; но после, видя, что внутри города римлян было не много, кориолане стекались на помощь к своим и сражались с неприятелем. Тогда-то, говорят, Марций среди смешанной толпы своих сограждан и неприятелей оказал в самом городе невероятную храбрость крепостью руки, быстротой ног и смелостью духа; все ниспровергал, на что ни устремлялся; одних прогнал на край города, других принудил сложить оружие и сдаться и тем дал время Ларцию, из стана ведущему войско, вступить в город.
Таким образом, город Кориолы был взят, большая часть воинов занялась расхищением и грабежом. Марций негодовал, кричал, называл недостойным делом, что воины грабили и расхищали город в то самое время, когда, может быть, консул и при нем находящиеся граждане где-нибудь вступают в бой и сражаются с неприятелем. Однако не многие ему внимали. Марций, взяв с собою тех, кто охотно хотел следовать за ним, шел той дорогой, которой, казалось ему, шло войско. Между тем он то ободрял воинов и просил не ослабевать духом, то молил богов, чтобы ему не опоздать, но прийти вовремя, дабы сразиться и разделить опасности вместе со своими согражданами.
Римляне в то время имели обыкновение, встав в строй и готовясь взяться за оружие, препоясать тогу, делать завещания изустные при трех или четырех свидетелях и назначать по себе наследника. Марций застал уже войско в таком занятии в виду неприятеля. Сначала некоторые приведены были в смятение, видя, что он, покрытый потом и кровью, шел с малым числом воинов. Когда же он прибежал к консулу в чрезмерной радости, простер к нему руку, возвестил о взятии города и Коминий обнял и облобызал его; когда одни узнали о сем великом подвиге, другие о том догадывались, то получили новую бодрость и с шумом требовали, чтобы их вели против неприятеля. Марций спросил Коминия, как расположены неприятельские силы и где стоят лучшие их войска. Консул отвечал, что, как ему кажется, средние полки состоят из антийцев, народа воинственного и никому в храбрости не уступающего. «Итак, прошу тебя, – отвечал тогда Марций, – поставь нас против этих самых воинов». Консул исполнил его желание, удивляясь такому рвению. При первом ударе копьями Марций устремился впереди всех с такой силой, что против него стоявшие вольски не выдержали такого нападения. Он разорял ту часть строя, на которую ударил. Но неприятели обратились с обеих сторон и обошли его. Консул, заботясь о жизни его, отрядил к нему на помощь отборнейших своих воинов. Битва вокруг Марция была самая жестокая; в короткое время пало с обеих сторон великое число воинов. Римляне, сильно нападая, теснили неприятелей, обратили в бегство и погнались за ним, прося ослабшего от ран и трудов Марция удалиться в стан. Но он сказал им: «Побеждающие не могут уставать» – и преследовал бегущих. Неприятельское войско было разбито и в других местах; число убитых и взятых в плен было велико.
На другой день Ларций пришел к консулу, вокруг которого собралось все войско; тогда Коминий, взойдя на трибуну и воздав должную богам благодарность за столь великую победу, обратился к Марцию. Во-первых, он превознес его удивительными похвалами, ибо иных из его деяний был в сражении сам свидетелем, о других свидетельствовал Ларций. Потом велел ему из великого числа людей и лошадей, взятых у неприятеля, выбрать себе десятую долю, прежде нежели добыча разделена будет между воинами. Сверх того он подарил ему за отличие богато убранного коня. Римляне одобрили решение консула. Марций выступил вперед и говорил, что приемлет коня и радуется, заслужив такую похвалу начальника; но что, почитая все прочее более платой, нежели почестью, отказывается от того, довольствуясь равной с другими частью. «Одной только милости прошу у тебя, – продолжал Марций, – и неотступно требую. Среди вольсков был у меня знакомый и друг, человек добрый и честный. Он попался ныне в плен и из богатого и счастливого сделался невольником. Из стольких зол, его угнетающих, по крайней мере избавьте от одного – от продажи». В ответ на эту речь войско наполнило воздух громкими восклицаниями. Более было таких, которые удивлялись его бескорыстию, нежели великой храбрости в сражениях. Даже питавшие некоторую ревность и зависть за оказываемые ему отличия почести, находили его достойным большей награды за то, что он не принял ничего; они более уважали добродетель, пренебрегшую богатством, нежели заслужившую оное. В самом деле, славнее хорошо употреблять богатство, нежели хорошо действовать оружием, и выше самого лучшего употребления богатства то, чтобы не иметь в нем нужды.
Когда крики и шум воинов прекратились, то Коминий начал опять говорить: «Соратники! Вы не можете принудить Марция принять даров, которых он не хочет и не приемлет; но мы дадим ему награду, которой он отвергнуть не может. Определим, чтобы он назывался Кориоланом, если самый его подвиг уже прежде нас не дал ему этого прозвища». С тех пор Марций назывался третьим именем – Кориолан. Отсюда ясно видно, что его собственное имя было Гай; второе, Марций, было общее семейству, или роду; третье, которое он после принял, знаменует или подвиг, или вид, или счастье, или отличные свойства. Так и у греков давались прозвания по деяниям, как-то: Сотер (спаситель), Каллиник (победитель); по виду: Фискон, Грип (востроносый); по добродетели: Эвергет (благодетель), Филадельф (братолюб); по счастью: Эвдемон (благополучный) (так назван второй из Баттов). Некоторым государям даны прозвания на смех: Антигон Досон, Птолемей Лафир (горох)*. Такого рода прозвания более еще в употреблении у римлян. Они назвали Диадематом, то есть носящим диадему, одного из Метеллов, который долгое время по причине раны ходил с перевязанной головой. Другого назвали Целером, то есть «скорым», за то, что после смерти отца своего поспешил почтить погребение его зрелищем гладиаторов, так что скорости и поспешности сего приготовления все удивились. Некоторым и поныне дают прозвания по случаю рождения. Родившегося в отсутствие отца называют Проклом; по смерти отца – Постумом. Близнеца, пережившего своего брата, называют Вописком. Также дают прозвания по телесным недостаткам. Не только называют Суллой (рябым), Нигром (черным), Руфом (рыжим), но еще Цеком (слепым) и Клодием (хромым). Этим они благоразумно научают не почитать стыдом или бесчестием ни слепоты, ни другого телесного недостатка, но слышать оные равнодушно, как собственные имена. Однако это принадлежит к другому роду сочинений.
По окончании войны демагоги вскоре возобновили беспокойства. Они не имели к тому никакой новой причины или справедливого предлога, но только приписывали патрициям бедствия, которые были необходимым следствием прежних мятежей их и раздоров. Большая часть земли осталась незасеянной и необработанной, а во время войны обстоятельства не позволили запастись хлебом из чужой страны*. Недостаток был весьма чувствителен. Трибуны, видя, что не было хлеба в продаже, да хотя и был, народ не имел денег, чтобы купить его, рассеивали вредные слухи и клеветы на богатых, будто бы они были причиной голода в народе по злобе своей к нему.
Между тем прибыло посольство от велитрийцев*, которые предлагали предать римлянам свой город и просили, чтобы к ним отправлены были поселенцы, ибо зараза истребила столь много людей, что едва оставалась десятая часть из всего народа. Благоразумнейшие в республике думали, что к счастью их и кстати случилось у велитрийцев такая нужда, ибо по недостатку в хлебе потребно было городу облегчение; притом надеялись они, что укротится раздор, если город очистится от беспокойной и вместе с демагогами бунтующей толпы, как от излишних вредных и заразительных соков. Консулы записывали таковых граждан и назначали к переселению; других готовились послать в поход против вольсков, желая укротить междоусобные мятежи и надеясь, что бедные и богатые, простолюдины и патриции, принявшись за оружие, имея один стан, подвергаясь общим опасностям, сделаются спокойнее и одни к другим будут благосклоннее.
Но трибуны Сициний и Брут восстали против такого решения; они кричали, что консулы дело самое жестокое называют приятным именем переселения; что бедных людей ввергают как бы в бездну, посылая их в город, зараженный чумой и наполненный непогребенными телами, дабы жить вместе с чужим, враждебным духом; и не довольствуясь тем, что одних губят голодом, других предают чуме, они еще возбуждают против них войну произвольную, дабы гражданам не недоставало никакого бедствия за то, что не хотели более рабствовать богатым. При таких словах возмущенный народ не хотел идти на войну и оказывал отвращение от переселения.
Сенат был в недоумении. Марций, исполненный уже надменности, вознесенный духом и привлекая к себе уважение отличнейших мужей, более всех восставал против народных возмутителей. Те, кому по жребию досталось идти на поселение, были принуждены выступить из города посредством строгих наказаний. Но другая часть народа совершенно отреклась от похода. Тогда Марций, взяв с собой своих клиентов и сколько мог других, вторгся во владения антийцев. Он нашел великое количество хлеба и пшена и получил в добычу много людей и скота. Себе ничего из того не оставил, но привел обратно в Рим воинов своих, обремененных добычей. Другие раскаивались, завидовали обогатившимся в походе, досадовали на Марция и не терпели его силы и славы, как возрастающих к вреду народа.
По прошествии краткого времени Марций домогался консульства. Большая часть граждан склонялась на его требование. Народ стыдился обидеть отказом мужа, первого по роду и храбрости, и унизить его после стольких заслуг. В тогдашнее время было в обыкновении, чтобы домогающиеся власти просили и брали за руку граждан, ходя по площади в тоге, без нижней одежды (туники), или для того, чтобы придать себе более смиренный вид, или для показания рубцов от ран, у кого оные были, как явных знаков своей храбрости. Народ хотел, чтобы проситель был не опоясан и без туники не потому, что он мог его подозревать в раздаче денег и покупке голосов. Таковая продажа и покупка обнаружились в народе только в позднейшие времена, и деньги в Народном собрании стали иметь влияние на подачу голосов. Дароприятие от площади проникло в суды и станы и превратило народоправление в единоначалие, поработивши оружие деньгами. Итак, справедливо рассуждал тот, кто сказал, что первый погубил свободу народа, тот кто первый угощал его и раздавал ему деньги. Кажется, это зло вкрадывалось неприметно и мало-помалу и не вдруг сделалось в Риме явным. Нам не известен тот, кто первый в Риме подкупил судей или народ. Но в Афинах первый, подкупивший деньгами судей, был Анит*, сын Антемиона, судимый за предательство Пилоса перед окончанием Пелопоннесской войны, когда еще золотой и неиспорченный век царствовал на римском форуме.
Марций показывал народу многие раны, полученные им во многих сражениях, в которых он отличился, бывши семнадцать лет беспрестанно в походах. Граждане, уважая его храбрость, давали друг другу слово избрать его консулом. Когда настал день, в который надлежало подать голоса, Марций пришел в Собрание торжественно, сопровождаемый сенатом. Все патриции, окружавшие его, явно показывали, что никогда ни о ком они столько не прилагали старания. Это обстоятельство лишило его благосклонности народа, которого любовь превратилась в зависть и вражду. К этим чувствам присоединилось еще третье – страх, чтобы муж сей, так приверженный к аристократии, столь много уважаемый патрициями, приняв в руки консульскую власть, не отнял совершенно вольности у народа. Рассуждая таким образом, граждане отвергнули Марция и избрали консулами других.
Все это было неприятно сенату, который почитал более оскорбленным себя, нежели Марция. Сам Марций был чрезвычайно огорчен сим случаем и не мог того перенести равнодушно, ибо он более всего предавался гневу и упорству души, как свойствам, имеющим в себе величие и высокость; твердость его не была посредством учения и образования соединена с кротостью – в чем преимущественно состоит гражданская добродетель; он не знал, что тот, кто имеет дело с людьми и занимается общественными делами, должен более всего избегать упрямства, по словам Платона, спутника уединения*; что надлежит ему любить терпеливость, столь много некоторыми осмеиваемую. Но Марций, будучи всегда суров и непреклонен; думая, что побеждать и превозмогать все и во всяком случае есть дело мужества, а не слабости, которая в болезнующей и страждущей душе производит гнев, как некоторую опухоль, – удалился от Собрания в великом негодовании и злобе против народа. Молодые патриции и все те, кто в городе гордился благородством своим и всегда показывал сему мужу чрезвычайную приверженность, в то время к вреду его к нему присоединялись; печалясь с ним и принимая участие в его неудовольствии, еще более воспламеняли его гнев. В походах был он их вождем и в военном искусстве снисходительным наставником; он умел производить в них соревнование в славных делах, не возбуждая зависти одного к другому.
В это время получено в Риме великое количество пшеницы, частью купленной в Италии, частью же посланной из Сиракуз в подарок республике от царя Гелона. Большая часть граждан льстились надеждой, что вместе с недостатком хлеба пресекутся и раздоры, возмущавшие республику. Сенаторы собрались для совещания. Народ обступил сенат и ожидал окончания дела, надеясь, что хлеб продан будет за умеренную цену и что он без платы получит то, что прислано в подарок от Гелона, как и в самом сенате многие думали. Тогда Марций встал и сильно говорил против угождающих народу; он называл их демагогами и предателями аристократии, утверждая, что они питали против себя самих посеянные в народе пагубные семена наглости и надменности, которые благоразумие требовало бы подавить при самом зародыше, не позволяя народу усилиться полученной властью; что он уже страшен и потому, что получает все, чего хочет; не делает ничего против своей воли; не повинуется консулам, но, пребывая в безначалии, называет начальниками собственных своих предводителей. «Если вы, – говорил он, – будете советоваться о раздаче народу хлеба, как в греческих совершенно демократически управляемых городах, то вы будете тем самым питать, к общей погибели, его непокорность. Граждане не скажут, что получают хлеб за походы, в которые они отреклись идти; за возмущение, которым предали свое отечество; за клеветы на сенат, которые охотно слушают; но, мечтая, что мы уступаем им из робости, что даем все из лести, они никогда не ограничат своей непокорности и не перестанут производить мятежи и беспокойства. Не безрассудно ли поступать таким образом? Если мы благоразумны, то должны отнять у них трибунат, ниспровергающий консульство, поселяющий раздор в республике, которая уже не одна, как была прежде, но претерпевает разрыв, не допускающий нас ни соединиться, ни мыслить одно, ни перестать страдать внутренней болезнью и быть терзаемыми друг другом».
Марций долго еще говорил в том же духе, молодые люди и почти все богачи восторженно кричали, что в республике он один непобедим и чужд лести. Однако некоторые из старейших противоречили ему, боясь последствий. В самом деле, ничего хорошего не воспоследовало. Присутствующие в сенате трибуны*, видя, что Марциево мнение превозмогло, выбежали с великим криком к народу, повелевая ему собираться и помогать им. Граждане собрались с шумом; трибуны объявили им речи Марция; народ, воспалясь яростью, едва не ворвался в сенат. Трибуны обвиняли во всем одного Марция и послали взять его с тем, чтобы он оправдал себя; но Марций выгнал с ругательством присланных служителей. Тогда трибуны сами пришли к нему с эдилами*, чтобы насильно взять его. Уже налагали на него руки; но патриции, соединившись, отразили трибунов и побили эдилов. Наступающий вечер прекратил смятение.
На рассвете следующего дня консулы, видя, что народ свирепствовал и стекался отовсюду на площадь, страшась о судьбе города, собрали сенат. Они предлагали рассмотреть, какими умеренными представлениями и полезными постановлениями можно было бы укротить и успокоить народ; говорили, что теперь не время спорить о честолюбии, состязаться о достоинстве; что обстоятельства опасны и требуют управления благоразумного и снисходительного. Большая часть на то согласилась. Консулы предстали пред народом, говорили ему со всей кротостью и старались его успокоить; они отвергали с умеренностью клеветы, употребляли наставления и выговоры не жестокие, уверяя, что в цене и покупке хлеба между сенатом и народом не будет разногласия.
Народ большей частью уступал им. Тишина и спокойствие, с которыми слушал их, явно доказывали, что он был доволен и что речи консулов были ему приятны. Тогда восстали трибуны; они говорили, что народ будет повиноваться благоразумию сената во всем хорошем и полезном; но требовали, чтобы Марций оправдался. Не к ниспровержению ли правления и уничтожению народной свободы, говорили они, возбуждал он сенат и не повиновался, когда мы его призывали? Наконец, ударив и обругав на площади эдилов, не хотел ли он, сколько от него зависело, произвести междоусобную войну и заставить граждан поднять друг на друга оружие? Они говорили таким образом, желая или унизить Марция, когда бы он стал, вопреки своей гордости, льстить народу, или когда бы он последовал влечению своих природных свойств, то сделать против него неукротимым гнев сограждан. Они более надеялись последнего, зная хорошо его качества.
Марций предстал как будто бы для оправдания себя. Народ умолк и успокоился; все ожидали, что Марций будет просить у народа извинения. Когда ж он начал говорить не только с неприятной вольностью и с обвинениями, превышающими самую сию вольность; но звуком голоса и видом лица показывая неустрашимость, столь близкую к небрежению и презрению, то народ ожесточился, явно показывал свое неудовольствие и не мог удержать своего негодования. Сициний, самый наглый из трибунов, поговорив несколько с товарищами своими, объявил пред народом, что трибуны осуждают Марция на смерть, и тотчас приказал эдилам привести его на вершину Тарпейской скалы и с оной немедленно низвергнуть его в пропасть. Эдилы хотели уже его взять. Такой поступок показался ужасным и наглым самому народу. Патриции в исступлении и в ужасе бросились с криком на помощь Марцию. Одни удерживали желавших захватить его и стерегли, составив круг около него; другие, простирая руки, упрашивали тем народ, ибо слова и голос были бесполезны при таком бесчинстве и мятеже. Наконец приятели и родственники трибунов, рассудив, что без великого убийства патрициев невозможно отнять у них и наказать Марция, уговорили их смягчить странность и жестокость этого наказания, не убивать его насильственно и без суда, но предать суду народа. Сициний, сделавшись спокойнее, спрашивал у патрициев: «По какой причине отнимаете вы Марция у народа, хотящего его наказать?» Патриции, напротив того, спрашивали: «С каким намерением и по какой причине хотите вы без суда предать наказанию беззаконному и жестокому одного из знаменитейших граждан римских?» – «Не полагайте это предлогом для ваших раздоров и разногласий с народом, – отвечал Сициний, – вашему требованию народ уступает; гражданина этого будут судить. Тебе же, Марций, – продолжал он, – объявляем: в третье Народное собрание предстать перед народом и убедить в своей невинности граждан, которые произведут над тобой суд».
Патрициям было то приятно; они разошлись с удовольствием, взяв с собой Марция. В продолжение до третьего Народного собрания (которое бывает у римлян каждый девятый день и называется нундинами) случившийся поход против антийцев* подавал патрициям надежду к отсрочке. Они думали, что война будет продолжительна, что между тем народ укротится и ярость его утихнет или даже совсем погаснет среди военных занятий. Но с антийцами скоро был заключен мир, и граждане возвратились в город. Патриции, будучи в страхе, много раз собирались и советовались между собой, каким бы образом не предавать Марция, а трибунам не подать повода возмутить народ. Аппий Клавдий, известный по своей великой ненависти к плебеям, говорил в сильных выражениях, что они уничтожат сенат и совершенно предадут республику, если допустят народ господствовать в подаче голосов против патрициев. Но старейшие и более приверженные к народу, напротив того, утверждали, что народ от уступаемого ему права не будет жесток, но кроток и снисходителен; что он не презирает сенат, но, почитая себя презираемым от него, приимет суд сей за честь и утешение, ему изъявляемое, и что с позволением подавать голоса свои он оставит весь свой гнев.
Марций, видя, что сенат находится в недоумении между благосклонностью к нему и страхом к народу, спросил трибунов, в чем обвиняют его и за что представляют его суду народа. Они отвечали, что обвиняют его в искании самодержавной власти и докажут, что он промышляет о достижении оной. Услышав это, Марций встал и заявил, что уже он сам предстанет пред народом для своего оправдания; что не откажется ни от какого суда и, если будет изобличен, – от любого наказания. «Но только в этом обвините меня, – продолжал он, – и не обманите сенат!» Они обещали и с этим уговором начали производить суд.
Народ уже собрался, и трибуны, во-первых, насильственно произвели то, что голоса были подаваемы не по центуриям, а по трибам; дабы бедный, беспокойный, ни о чем похвальном не помышляющий народ имел перевес над богатыми, знатными и военными*. Потом, оставя обвинение в искании верховной власти*, которого доказать не могли, опять они стали напоминать о том, что прежде говорил Марций в сенате, не допуская продавать дешевле хлеба и советуя уничтожить народное трибунство. Они выдумали еще новое обвинение – раздел выбранной в Антийской области добычи, которую он не внес в общественную казну, но роздал между теми, которые с ним были в походе. Это обвинение более всего смутило Марция, ибо он не был к тому предуготовлен и не мог тотчас прилично отвечать. Он начал хвалить тех, кто провожал его в походе, отчего зашумели те, кто за ним тогда не последовал и которых было гораздо больше. Наконец, трибы стали подавать голоса. Осудивших было три; он был приговорен на вечное изгнание*.
По объявлении решения народ разошелся с такою гордостью и радостью, каких не оказывал никогда по одержании победы над неприятелем. Сенат был погружен в горесть и уныние; он раскаивался и жалел, что не решился испытать все средства и все претерпеть, прежде нежели допустить народ ругаться над собой и обнаруживать такую власть. Не было нужды в то время в одежде или других знаках, чтобы распознать патриция и простолюдина; радующийся был простолюдин, печалящийся – патриций.
Лишь один Марций, непоколебимый, не униженный, с твердым видом, лицом и поступью, между всеми жалеющими о нем, сам о себе не жалел, не был тронут. Но это не происходило от силы рассудка, или кротости сердца, или от того, чтобы он терпеливо сносил происшедшее, но от того, что предался ярости и негодованию. Многие не ведают того, что это состояние души есть печаль. Когда она, как бы воспалившись, превратится в гнев, то теряет свою слабость и недеятельность. От этого то разгневанный кажется деятельным, так, как больной горячкой – огненным, потому что душа его воспалена, напряжена и приведена в волнение. Такое состояние души Марций тогда же обнаружил своими поступками. Он пришел домой, обнял мать и жену, плачущих и рыдающих, увещевал их сносить терпеливо случившееся* и тотчас удалился, направил стопы свои к городским воротам, куда все почти патриции провожали его. Он ничего с собой не взял, ничего ни у кого не просил; вышел из Рима, имея при себе трех из своих клиентов. Несколько дней провел он один в поместьях своих, волнуемый разными мыслями, какие внушала ему ярость. Она не вела его ни к чему хорошему и полезному; но устремляла единственно к тому, чтобы наказать римлян и возбудить против них жестокую войну, с каким-либо из соседственных народов. Он решился прежде испытать вольсков, ведая о богатстве их и крепости войск и полагая, что прежние их поражения не столько уменьшили их силы, сколько умножили ревность их и ярость против римлян.
Среди вольсков в то время имел власть почти царскую, по причине богатства, храбрости и знатного рода своего, некто по имени Тулл Аттий. Марций знал, что Тулл ненавидел его более всякого другого римлянина. Много раз в сражениях, грозя один другому, вызывали к бою друг друга, как обыкновенно бывает у молодых воинов, одушевленных славолюбием и соревнованием; к народной вражде они еще присоединили один к другому вражду частную. При всем том Марций приметил в Тулле некоторую высокость духа; знал также, что Тулл более всех вольсков желает сделать римлянам зло и ищет к тому случая. Марций подтвердил мнение того, кто сказал:
Как трудно укротить свой гнев! Он жизнью покупает то, чего желает!
Он надел платье, в котором нельзя было его узнать, и, подобно Одиссею, по словам Гомера:
Вступил во град мужей враждебных*.
Это было вечером; многие встречались с ним, но никто его не узнал. Он пошел прямо в дом Тулла и, вступив в оный, вдруг сел спокойно у очага*, покрыл голову и был в безмолвии. Домашние тому удивлялись, но не смели заставить его встать, ибо в его виде и в самом молчании видно было некоторое величие. Они возвестили о странном случае Туллу, который тогда ужинал. Тулл встал, пошел к нему и спросил у него, кто он и чего хочет. Тогда Марций открыл голову и, несколько помолчав, сказал: «Тулл! Если ты еще не узнаешь меня и, видя меня, не веришь глазам своим, то мне должно быть самому на себя доносчиком. Я Гай Марций, вольскам столь много зла причинивший и носящий название, не позволяющее мне от него отрекаться, – название Кориолана. За все свои труды и опасности я не приобрел другой награды, как это имя, знаменующее мою к вам ненависть, и оно одно остается у меня неотъемлемым. Все прочее я потерял по причине зависти и гордости народа, робости и предательства управляющих и мне равных. Я изгнан; прибегаю как умоляющий к твоему домашнему жертвеннику не ради безопасности, не ради спасения жизни своей – для чего бы идти сюда, если бы боялся смерти? – но для наказания гонителей моих; я уже наказываю их тем самым, что тебя делаю над собой начальником. Если ты столько смел, что можешь предпринять что-либо против неприятелей, великодушный человек, воспользуйся моими напастями! Сделай мое несчастье общим благом для вольсков. Я буду воевать в пользу вашу с большим успехом, нежели против вас: несравненно лучше ведет войну тот, кому известно, что происходит у неприятелей, нежели тот, кто этого совсем не знает. Но если ты не осмеливаешься начать войну, я не хочу более жить, и тебе неприлично спасать человека, издавна тебе враждебного, а теперь для тебя ненужного и бесполезного».
Тулл, услыша такие слова, чрезвычайно был обрадован. Он простер к нему руку, говоря: «Встань, Марций, и ободрись! Великое для нас счастье то, что ты к нам пришел и предал себя! Надейся большей помощи от вольсков». После того дружески угостил Марция; в следующие дни они советовались о войне между собой.
В то самое время неудовольствие патрициев к народу, происходившее особенно от осуждения Марция, возмущало Рим. Прорицатели, жрецы и частные лица говорили о предзнаменованиях, достойных особенного внимания. Одно из таковых было и следующее. Некто по имени Тит Латиний, человек незнатный, провождавший спокойную и честную жизнь, нимало не преданный суеверию, а еще менее тщеславию, видел во сне, будто Юпитер явился ему и велел сказать сенату, что послали ему пред священным шествием дурного и весьма неприятного плясуна. Тит, как сам говорил, в первый раз не обратил большого внимания на это видение. Когда же он оставил оное без уважения в другой и третий раз, то увидел смерть достойного любви сына, и собственное его тело так вдруг ослабло, что он не мог им более владеть. Он объявил о том сенату, будучи принесен туда на носилках. Как скоро все рассказал, то, говорят, почувствовал он возобновляющуюся крепость своего тела, встал и самостоятельно пошел домой.
Сенаторы были поражены и учинили великие разыскания в этом деле. Вот в чем оно состояло. Некто предал своего невольника другим невольникам с приказанием гнать его бичом через всю площадь, потом умертвить. Они исполнили его приказание и били несчастного, который между тем от боли вертелся, кривлялся и делал движения, обнаруживавшие претерпеваемые им муки. По случаю следовало за ними священное торжество. Многие из присутствующих показывали свое неудовольствие, не видя приятного лица и приличных торжеству движений; однако никто не воспрепятствовал мучителям бить его; только бранили и проклинали того, кто столь жестокое предписал наказание. В то время господа обходились весьма милостиво с рабами своими, ибо сами работали и сходство в образе жизни делало их ласковее к ним и снисходительнее. Самое большое наказание для провинившегося раба было то, чтобы заставить его поднять ту часть телеги, на которую опирается дышло, и ходить с нею по околотку. К рабу, наказанному таким образом перед глазами товарищей и соседей, никто не имел более никакого доверия; его называли фуркифером; «фурка» у римлян значит «подпорка» или «вилы».
Когда Латиний возвестил видение и сенаторы не могли понять, кто был этот неприятный и дурной плясун, предшествовавший торжеству, то некоторые вспомнили, по причине странности приключения, о наказании того невольника, которого били бичами, гоня через площадь, потом умертвили. Жрецы были согласны с таким мнением; господин невольника был наказан; торжественное шествие и зрелище вновь были совершаемы.
Алкивиад, устрашась лакедемонян, обладавших уже морем и твердой землей, переправился в Вифинию, имея при себе великое богатство и оставив еще большее в своей крепости. В Вифинии лишился он немалой части своего богатства от разбойников фракийских. Это подало ему мысль отправиться к Артаксерксу в надежде, что царь при свидании с ним оценит его не ниже Фемистокла, имея притом благороднейшее к тому побуждение, ибо не та была его цель, чтобы, подобно Фемистоклу, возбудить царя против сограждан своих, но оказать им услугу и просить царской помощи против их неприятелей. Думая, что Фарнабаз доставит ему удобность и безопасность в путешествии, он отправился к нему во Фригию и жил у него, льстя ему и будучи им уважаем.
Афинянам было несносно лишение прежнего их могущества; но когда Лисандр отнял у них самую вольность и город предал во власть тридцати тираннов, когда уже все погибло, тогда приходило им на мысль то, чего они не употребили в то время, пока могли еще спастись; они оплакивали свои бедствия и исчисляли свои ошибки и безрассудства. Самым же большим почитали они последний гнев свой на Алкивиада, который был отвержен ими, хотя не причинил им ни малейшего зла; а они, негодуя на подчиненного, безумно потерявшего немного кораблей, еще безумнее лишили республику храбрейшего и искуснейшего в военных делах полководца.
Однако слабый луч надежды оживлял их в настоящем положении: они думали, что не все погибло, пока Алкивиад еще жив; что он и в первом изгнании не любил жить в бездействии и покое и теперь, если только в состоянии, не снесет надменности лакедемонян, ни несправедливости тридцати тираннов. Небезрассудно, таким образом, мечтал народ, когда и тридцать тираннов не переставали заботиться и расспрашивать тщательно о том, что Алкивиад делал и предпринимал. Наконец, Критий представил Лисандру, что лакедемоняне не могут безопасно начальствовать над Грецией, пока в Афинах народоправление; что хотя афиняне охотно покорятся олигархии, однако же, пока Алкивиад жив, не оставит их в покое при настоящем положении. Лисандр, однако, согласился с этими доводами не прежде как по получении от правителей Спарты скиталы, в которой повелевали ему погубить Алкивиада, или боясь великого и предприимчивого духа сего мужа, или угождая Агису.
Лисандр писал Фарнабазу исполнить приказание Спарты. Этот сатрап препоручил исполнение сего дела Багею, своему брату, и дяде Сузамитре. Алкивиад остановился тогда в некотором местечке во Фригии вместе с гетерой Тимандрой. Ему представилось во сне, что надел платье своей любовницы и что она держала голову его в объятиях своих, убирала его, румянила и белила, как женщину. Другие говорят, что он видел во сне, будто отсек у него голову Багей и что тело его было сожжено. Это сновидение случилось незадолго перед его смертью.
Посланные умертвить его не осмелились войти к нему в дом, но обступили оный и зажгли. Алкивиад, приметив пожар, собрал большую часть платьев и ковров и бросил их в огонь. Обернув левую руку епанчой, а правой держа меч, вырвался невредим сквозь огонь, прежде нежели платье сгорело, и, показавшись варварам, рассеял их. Никто из них не снес его вида; никто не осмелился напасть на него; они отступили и издали бросали на него дротики и стрелы. Он пал; варвары удалились. Тимандра подняла мертвое тело и, обвернувши в свое платье, сколько положение ее позволяло, похоронила великолепным образом*.
Говорят, что дочерью Тимандры была Лаида, прозванная Коринфянкой, которая взята в плен в Гиккарах*, сицилийском городке.
Некоторые писатели, хотя и согласны во всем этом касательно смерти Алкивиада, но только уверяют, что не Фарнабаз и не Лисандр и лакедемоняне были тому причиной, но сам он, обольстив девушку некоторых своих знакомых и держа ее у себя. Братья ее не стерпели обиды, зажгли ночью дом, в котором Алкивиад остановился, и умертвили его, как сказано, когда он выскочил из огня*.
Гай Марций
Патрицианский род Марциев в Риме произвел многих славных мужей. От него произошел Анк Марций*, внук Нумы, царствовавший после Тулла Гостилия. Марциева рода были Публий и Квинт, проведшие в Рим прекрасную воду в большем количестве, и Цензорин, дважды римским народом избранный цензором* и потом сам убедивший его утвердить законом, чтобы впредь никому не было позволено искать дважды цензорского достоинства.
Гай Марций, которого жизнь здесь описывается, потеряв отца, был воспитан вдовой матерью и собой показал, что хотя сиротство сопряжено со многими бедствиями, однако нимало не препятствует сделаться хорошим и отличным человеком, и что люди недостойные ложно и неосновательно жалуются на оное как на причину своей испорченности – за неимением надзора. Равным образом он же утвердил собою мнение тех, кто думает, что лучшие и благороднейшие свойства, не будучи образованы, вместе с хорошим производят много дурного, подобно плодоносной земле, не обработанной земледельцем с надлежащим старанием. Твердость и неколебимость его души рождали в нем великие и деятельные порывы к славным подвигам; с другой стороны, предавшись неукротимому гневу и непреклонному упорству, был он неприятен в общежитии и не способен примениться к другим. Удивляясь его терпению в трудах, равнодушию к наслаждениям и богатству и называя эти его качества воздержанием, справедливостью, доблестью, не терпели его в гражданских делах как неприятного, ненавистного и властолюбивого. В самом деле, самая большая польза, которую род человеческий приобретает от благосклонности Муз, есть та, что они смягчают словесностью и учением дикую природу; через них она получает умеренность и очищается от всякого излишества.
Вообще в те времена Рим прославлял более всего те добродетели, которые относятся к войне и военным деяниям. Это доказывается тем, что добродетель и храбрость называли римляне одним и тем же именем и что слово, означающее добродетель вообще, было одно и то же с тем, которым называется храбрость в особенности.
Марций, пристрастившись более всякого к военным упражнениям, с самого малолетства начал действовать оружием. Но, почитая приобретенные оружия бесполезными для тех, кто не старается изощрять и усовершенствовать своего природного и врожденного оружия, он приготовил свое тело ко всякому роду сражения и борьбы. Он приобрел привычку бегать с великой легкостью; в схватке и борьбе мог обнаруживать непреодолимую силу. Состязающиеся с ним в твердости духа и храбрости приписывали телесной его крепости, непреоборимой и все труды переносить способной, те преимущества, в которых долженствовали ему уступать.
Будучи еще очень молод, ратоборствовал он в первый раз, когда Тарквиний, царствовавший в Риме, потом сверженный с престола, после многих битв и поражений решился в последний раз испытать свое счастье*. К нему присоединились многие из латинян и других италийцев, которые двинулись против Рима не столько из привязанности своей к Тарквинию, сколько из страха и зависти к возникающему счастью римлян, желая оное ниспровергнуть. В битве, которая с обеих сторон имела различные перемены счастья, Марций, сражаясь с великой смелостью перед глазами диктатора*, увидел римлянина, падшего подле себя; он не оставил его без помощи, но, став пред ним, защищал его и убил устремившегося на него неприятеля. По одержании победы полководец наградил его первого из отличнейших дубовым венком; по закону таковой венок определен тому, кто спасет на войне жизнь гражданина. Это предпочтение оказывается дубу или из уважения к аркадянам, названными прорицалищем желудоедами*, или потому, что дубовый венок, посвященный Зевсу, покровителю городов, есть приличная награда за спасение жизни гражданина. Дуб изо всех диких деревьев дает лучший плод; из домашних это самое крепкое дерево. В древние времена люди получали от него в пищу желуди, в питье – мед. Дуб доставлял им мясо разных животных и птиц, производя клей, – это орудие, столь полезное в охоте.
Уверяют, что в оном сражении показались и Диоскуры и что вскоре после того они были видимы на конях, покрытых потом, на форуме, возвещая победу, на том месте, где теперь, подле источника, стоит их храм. По этой причине этот день, победный в июльских идах, посвящен Диоскурам*.
Кажется, почести и отличия, получаемые молодыми людьми слишком рано, в душах малочестолюбивых вскоре погашают жажду к славе и производят в них пресыщение. Но души высокие и постоянные еще более возбуждаются и воспламеняются почестями, как устремленные вихрем к тому, что кажется им похвальным. Как будто бы не получали награды, но сами давали залог, они стыдятся изменить своей славе и не превзойти ее большими подвигами. Такими чувствами был одушевлен и Марций. Он поставил себя соперником себе самому в великих предприятиях и, желая проявлять себя в новых деяниях, к славным подвигам присоединял славнейшие; к корыстям прибавлял корысти; последние его начальники спорили всегда с прежними в оказывании ему почестей, старались превзойти друг друга засвидетельствованием о его храбрости. В тогдашнее время римляне вели частые войны и давали многие сражения; Марция ни с одного не возвращался, не получив венка, или иной какой-нибудь награды. Цель храбрости других юношей была слава; цель славы Марция – материнская радость; чтобы мать слышала, как его хвалили, видела, как его венчали, и обнимала его с радостными слезами, это было для него величайшей славой, верховным блаженством. В подобных чувствах признавался, конечно, и Эпаминонд; он почитал величайшим для себя счастьем то, что его отец и мать были еще живы, видели его поход и победу, одержанную им при Левктрах. Эпаминонд наслаждался тем счастьем, что отец и мать разделяли с ним его радости и благополучие. Но Марций, почитая себя обязанным оказывать матери благодарность, которую должен был отцу, не мог насытиться, производя в ней радость и оказывая ей почтение. Он женился по ее просьбе и желанию и, прижив детей, жил всегда с матерью в одном доме*.
Он имел уже в Риме великую славу и силу по причине храбрости своей, когда сенат, защищая богатых, был в раздоре с народом, который, казалось, претерпевал от заимодавцев жестокие притеснения. Те, кто имел какое-нибудь состояние, лишались всего закладами и публичной продажей; совершенно же не имеющие были сами влекомы и заключаемы в темницы, несмотря на раны их и труды, за отечество понесенные в походах; особенно в последнем походе против сабинян. Богатые тогда обещались умерить свои требования от народа, и сенат определил, чтобы Маний Валерий*, диктатор, поручился в том. Народ сражался с отличной храбростью и победил неприятеля. Но заимодавцы не сделались мягкосерднее в своих изысканиях, а сенат притворялся, что забыл данное обещание и не обращал никакого внимания к должникам, которых заимодавцы влекли в темницы или держали вместо залога. В городе происходили жестокие беспокойства и мятежи. Неприятели республики, от которых не укрылся раздор народа, вступили в римскую область и опустошали ее огнем и мечом. Консулы призывали к оружию взрослых молодых людей, но никто не повиновался. Мнения правителей вновь разделились; одни думали, что должно уступить бедным и смягчить в рассуждении их такое жестокосердие и суровость; другие тому противоречили. В числе последних был и Марций; хотя он не полагал великой важности в деньгах, однако советовал сенаторам, если они благоразумны, укротить при самом начале и при первых покушениях надменность и дерзость народа, восстающего против законов.
Сенат по сему случаю много раз собирался за короткое время, но ничего не решил. Вдруг собрались бедные и, увещевая друг друга, оставили город; заняв гору, называемую ныне Священной, стали они при реке Аниена. Они не производили никакого насилия и мятежа, но только кричали, что давно изгнаны из города богатыми; что Италия везде доставит им воздух, воду и место для погребения; что, живши в Риме и сражаясь за богатых, они более ничего не получали, кроме ран и смерти. Сенат, от того устрашенный, выслал к ним снисходительнейших и более приверженных к народу старцев*. Менений Агриппа первый начал говорить, просил народ, защищал смело сенат и кончил речь следующей известной басней: все части человеческого тела возмутились однажды против желудка и обвиняли его в том, что он один в теле находился без дела, ничего не платя, между тем как они, для удовлетворения его прихотей, работают и претерпевают великие хлопоты. Желудок смеялся их глупости и незнанию того, что, хотя он в себя принимает всю пищу, но возвращает ее назад и распределяет между остальными. «Таков и сенат в отношении к вам, граждане, – продолжал он, – дела и предприятия, с надлежащим благоразумием им управляемые, наделяют вас всем тем, что нужно и полезно».
Речь эта склонила народ к примирению. Он требовал от сената позволения избрать предстателями для беспомощных граждан пять человек, которых теперь называют народными трибунами*. Сенат на то согласился. Народ избрал первыми трибунами тех, кто был его предводителями в том возмущении, Юния Брута* и Сициния Беллута. По прекращении раздора народ тотчас принялся за оружие и охотно следовал за своими начальниками на войну. Марций, будучи недоволен возрастающей силой народа и уступкой аристократов и зная притом, что многие патриции были одного с ним мнения, увещевал их не уступать народу в трудах, за отечество предприемлемых, и более храбростью, нежели могуществом, отличаться перед народом.
В то время римляне вели войну против вольсков, которых знатнейший город был Кориолы. Консул Коминий окружил его войском. Другие вольски, боясь, чтобы город не был взят римлянами, отовсюду спешили к нему на помощь, дабы под его стенами дать сражение и напасть на римлян с двух сторон. Коминий разделил свое войско; сам пошел навстречу вольскам, на него наступившим извне; а Тита Ларция, храбрейшего из римлян, оставил при осаде. Кориолане, пренебрегши этим оставшимся войском, сделали вылазку и, сражаясь, сначала побеждали и гнали римлян в окопы; но Марций с небольшим числом воинов вышел из стана, поразил первых вольсков, вступивших с ним в бой, других стремление остановил и громогласно призывал римлян возвратиться к сражению. Он имел все то, чего требует Катон от воина; руку крепкую, удар тяжелый, голос и вид лица, страшные и нестерпимые для неприятеля. Многие воины собирались, толпились вокруг него; устрашенные неприятели отступали; но Марций, не довольствуясь этим, погнался за ними и преследовал их до самых ворот города, когда они бежали уже опрометью. Здесь, видя, что римляне удерживаются от погони, ибо стрелы сыпались со стен на них градом, а ворваться вместе с бегущими в город, наполненный храбрыми воинами и держащими в руках оружие, никто не дерзал, – Марций остановился, просил и ободрял их, крича, что город отворен, по счастью, более для преследующих, нежели для бегущих. Не многие хотели за ним последовать; Марций, пробравшись сквозь неприятелей, бросился в ворота и ворвался в город вместе с жителями. Сперва никто не смел противиться ему или устоять против него; но после, видя, что внутри города римлян было не много, кориолане стекались на помощь к своим и сражались с неприятелем. Тогда-то, говорят, Марций среди смешанной толпы своих сограждан и неприятелей оказал в самом городе невероятную храбрость крепостью руки, быстротой ног и смелостью духа; все ниспровергал, на что ни устремлялся; одних прогнал на край города, других принудил сложить оружие и сдаться и тем дал время Ларцию, из стана ведущему войско, вступить в город.
Таким образом, город Кориолы был взят, большая часть воинов занялась расхищением и грабежом. Марций негодовал, кричал, называл недостойным делом, что воины грабили и расхищали город в то самое время, когда, может быть, консул и при нем находящиеся граждане где-нибудь вступают в бой и сражаются с неприятелем. Однако не многие ему внимали. Марций, взяв с собою тех, кто охотно хотел следовать за ним, шел той дорогой, которой, казалось ему, шло войско. Между тем он то ободрял воинов и просил не ослабевать духом, то молил богов, чтобы ему не опоздать, но прийти вовремя, дабы сразиться и разделить опасности вместе со своими согражданами.
Римляне в то время имели обыкновение, встав в строй и готовясь взяться за оружие, препоясать тогу, делать завещания изустные при трех или четырех свидетелях и назначать по себе наследника. Марций застал уже войско в таком занятии в виду неприятеля. Сначала некоторые приведены были в смятение, видя, что он, покрытый потом и кровью, шел с малым числом воинов. Когда же он прибежал к консулу в чрезмерной радости, простер к нему руку, возвестил о взятии города и Коминий обнял и облобызал его; когда одни узнали о сем великом подвиге, другие о том догадывались, то получили новую бодрость и с шумом требовали, чтобы их вели против неприятеля. Марций спросил Коминия, как расположены неприятельские силы и где стоят лучшие их войска. Консул отвечал, что, как ему кажется, средние полки состоят из антийцев, народа воинственного и никому в храбрости не уступающего. «Итак, прошу тебя, – отвечал тогда Марций, – поставь нас против этих самых воинов». Консул исполнил его желание, удивляясь такому рвению. При первом ударе копьями Марций устремился впереди всех с такой силой, что против него стоявшие вольски не выдержали такого нападения. Он разорял ту часть строя, на которую ударил. Но неприятели обратились с обеих сторон и обошли его. Консул, заботясь о жизни его, отрядил к нему на помощь отборнейших своих воинов. Битва вокруг Марция была самая жестокая; в короткое время пало с обеих сторон великое число воинов. Римляне, сильно нападая, теснили неприятелей, обратили в бегство и погнались за ним, прося ослабшего от ран и трудов Марция удалиться в стан. Но он сказал им: «Побеждающие не могут уставать» – и преследовал бегущих. Неприятельское войско было разбито и в других местах; число убитых и взятых в плен было велико.
На другой день Ларций пришел к консулу, вокруг которого собралось все войско; тогда Коминий, взойдя на трибуну и воздав должную богам благодарность за столь великую победу, обратился к Марцию. Во-первых, он превознес его удивительными похвалами, ибо иных из его деяний был в сражении сам свидетелем, о других свидетельствовал Ларций. Потом велел ему из великого числа людей и лошадей, взятых у неприятеля, выбрать себе десятую долю, прежде нежели добыча разделена будет между воинами. Сверх того он подарил ему за отличие богато убранного коня. Римляне одобрили решение консула. Марций выступил вперед и говорил, что приемлет коня и радуется, заслужив такую похвалу начальника; но что, почитая все прочее более платой, нежели почестью, отказывается от того, довольствуясь равной с другими частью. «Одной только милости прошу у тебя, – продолжал Марций, – и неотступно требую. Среди вольсков был у меня знакомый и друг, человек добрый и честный. Он попался ныне в плен и из богатого и счастливого сделался невольником. Из стольких зол, его угнетающих, по крайней мере избавьте от одного – от продажи». В ответ на эту речь войско наполнило воздух громкими восклицаниями. Более было таких, которые удивлялись его бескорыстию, нежели великой храбрости в сражениях. Даже питавшие некоторую ревность и зависть за оказываемые ему отличия почести, находили его достойным большей награды за то, что он не принял ничего; они более уважали добродетель, пренебрегшую богатством, нежели заслужившую оное. В самом деле, славнее хорошо употреблять богатство, нежели хорошо действовать оружием, и выше самого лучшего употребления богатства то, чтобы не иметь в нем нужды.
Когда крики и шум воинов прекратились, то Коминий начал опять говорить: «Соратники! Вы не можете принудить Марция принять даров, которых он не хочет и не приемлет; но мы дадим ему награду, которой он отвергнуть не может. Определим, чтобы он назывался Кориоланом, если самый его подвиг уже прежде нас не дал ему этого прозвища». С тех пор Марций назывался третьим именем – Кориолан. Отсюда ясно видно, что его собственное имя было Гай; второе, Марций, было общее семейству, или роду; третье, которое он после принял, знаменует или подвиг, или вид, или счастье, или отличные свойства. Так и у греков давались прозвания по деяниям, как-то: Сотер (спаситель), Каллиник (победитель); по виду: Фискон, Грип (востроносый); по добродетели: Эвергет (благодетель), Филадельф (братолюб); по счастью: Эвдемон (благополучный) (так назван второй из Баттов). Некоторым государям даны прозвания на смех: Антигон Досон, Птолемей Лафир (горох)*. Такого рода прозвания более еще в употреблении у римлян. Они назвали Диадематом, то есть носящим диадему, одного из Метеллов, который долгое время по причине раны ходил с перевязанной головой. Другого назвали Целером, то есть «скорым», за то, что после смерти отца своего поспешил почтить погребение его зрелищем гладиаторов, так что скорости и поспешности сего приготовления все удивились. Некоторым и поныне дают прозвания по случаю рождения. Родившегося в отсутствие отца называют Проклом; по смерти отца – Постумом. Близнеца, пережившего своего брата, называют Вописком. Также дают прозвания по телесным недостаткам. Не только называют Суллой (рябым), Нигром (черным), Руфом (рыжим), но еще Цеком (слепым) и Клодием (хромым). Этим они благоразумно научают не почитать стыдом или бесчестием ни слепоты, ни другого телесного недостатка, но слышать оные равнодушно, как собственные имена. Однако это принадлежит к другому роду сочинений.
По окончании войны демагоги вскоре возобновили беспокойства. Они не имели к тому никакой новой причины или справедливого предлога, но только приписывали патрициям бедствия, которые были необходимым следствием прежних мятежей их и раздоров. Большая часть земли осталась незасеянной и необработанной, а во время войны обстоятельства не позволили запастись хлебом из чужой страны*. Недостаток был весьма чувствителен. Трибуны, видя, что не было хлеба в продаже, да хотя и был, народ не имел денег, чтобы купить его, рассеивали вредные слухи и клеветы на богатых, будто бы они были причиной голода в народе по злобе своей к нему.
Между тем прибыло посольство от велитрийцев*, которые предлагали предать римлянам свой город и просили, чтобы к ним отправлены были поселенцы, ибо зараза истребила столь много людей, что едва оставалась десятая часть из всего народа. Благоразумнейшие в республике думали, что к счастью их и кстати случилось у велитрийцев такая нужда, ибо по недостатку в хлебе потребно было городу облегчение; притом надеялись они, что укротится раздор, если город очистится от беспокойной и вместе с демагогами бунтующей толпы, как от излишних вредных и заразительных соков. Консулы записывали таковых граждан и назначали к переселению; других готовились послать в поход против вольсков, желая укротить междоусобные мятежи и надеясь, что бедные и богатые, простолюдины и патриции, принявшись за оружие, имея один стан, подвергаясь общим опасностям, сделаются спокойнее и одни к другим будут благосклоннее.
Но трибуны Сициний и Брут восстали против такого решения; они кричали, что консулы дело самое жестокое называют приятным именем переселения; что бедных людей ввергают как бы в бездну, посылая их в город, зараженный чумой и наполненный непогребенными телами, дабы жить вместе с чужим, враждебным духом; и не довольствуясь тем, что одних губят голодом, других предают чуме, они еще возбуждают против них войну произвольную, дабы гражданам не недоставало никакого бедствия за то, что не хотели более рабствовать богатым. При таких словах возмущенный народ не хотел идти на войну и оказывал отвращение от переселения.
Сенат был в недоумении. Марций, исполненный уже надменности, вознесенный духом и привлекая к себе уважение отличнейших мужей, более всех восставал против народных возмутителей. Те, кому по жребию досталось идти на поселение, были принуждены выступить из города посредством строгих наказаний. Но другая часть народа совершенно отреклась от похода. Тогда Марций, взяв с собой своих клиентов и сколько мог других, вторгся во владения антийцев. Он нашел великое количество хлеба и пшена и получил в добычу много людей и скота. Себе ничего из того не оставил, но привел обратно в Рим воинов своих, обремененных добычей. Другие раскаивались, завидовали обогатившимся в походе, досадовали на Марция и не терпели его силы и славы, как возрастающих к вреду народа.
По прошествии краткого времени Марций домогался консульства. Большая часть граждан склонялась на его требование. Народ стыдился обидеть отказом мужа, первого по роду и храбрости, и унизить его после стольких заслуг. В тогдашнее время было в обыкновении, чтобы домогающиеся власти просили и брали за руку граждан, ходя по площади в тоге, без нижней одежды (туники), или для того, чтобы придать себе более смиренный вид, или для показания рубцов от ран, у кого оные были, как явных знаков своей храбрости. Народ хотел, чтобы проситель был не опоясан и без туники не потому, что он мог его подозревать в раздаче денег и покупке голосов. Таковая продажа и покупка обнаружились в народе только в позднейшие времена, и деньги в Народном собрании стали иметь влияние на подачу голосов. Дароприятие от площади проникло в суды и станы и превратило народоправление в единоначалие, поработивши оружие деньгами. Итак, справедливо рассуждал тот, кто сказал, что первый погубил свободу народа, тот кто первый угощал его и раздавал ему деньги. Кажется, это зло вкрадывалось неприметно и мало-помалу и не вдруг сделалось в Риме явным. Нам не известен тот, кто первый в Риме подкупил судей или народ. Но в Афинах первый, подкупивший деньгами судей, был Анит*, сын Антемиона, судимый за предательство Пилоса перед окончанием Пелопоннесской войны, когда еще золотой и неиспорченный век царствовал на римском форуме.
Марций показывал народу многие раны, полученные им во многих сражениях, в которых он отличился, бывши семнадцать лет беспрестанно в походах. Граждане, уважая его храбрость, давали друг другу слово избрать его консулом. Когда настал день, в который надлежало подать голоса, Марций пришел в Собрание торжественно, сопровождаемый сенатом. Все патриции, окружавшие его, явно показывали, что никогда ни о ком они столько не прилагали старания. Это обстоятельство лишило его благосклонности народа, которого любовь превратилась в зависть и вражду. К этим чувствам присоединилось еще третье – страх, чтобы муж сей, так приверженный к аристократии, столь много уважаемый патрициями, приняв в руки консульскую власть, не отнял совершенно вольности у народа. Рассуждая таким образом, граждане отвергнули Марция и избрали консулами других.
Все это было неприятно сенату, который почитал более оскорбленным себя, нежели Марция. Сам Марций был чрезвычайно огорчен сим случаем и не мог того перенести равнодушно, ибо он более всего предавался гневу и упорству души, как свойствам, имеющим в себе величие и высокость; твердость его не была посредством учения и образования соединена с кротостью – в чем преимущественно состоит гражданская добродетель; он не знал, что тот, кто имеет дело с людьми и занимается общественными делами, должен более всего избегать упрямства, по словам Платона, спутника уединения*; что надлежит ему любить терпеливость, столь много некоторыми осмеиваемую. Но Марций, будучи всегда суров и непреклонен; думая, что побеждать и превозмогать все и во всяком случае есть дело мужества, а не слабости, которая в болезнующей и страждущей душе производит гнев, как некоторую опухоль, – удалился от Собрания в великом негодовании и злобе против народа. Молодые патриции и все те, кто в городе гордился благородством своим и всегда показывал сему мужу чрезвычайную приверженность, в то время к вреду его к нему присоединялись; печалясь с ним и принимая участие в его неудовольствии, еще более воспламеняли его гнев. В походах был он их вождем и в военном искусстве снисходительным наставником; он умел производить в них соревнование в славных делах, не возбуждая зависти одного к другому.
В это время получено в Риме великое количество пшеницы, частью купленной в Италии, частью же посланной из Сиракуз в подарок республике от царя Гелона. Большая часть граждан льстились надеждой, что вместе с недостатком хлеба пресекутся и раздоры, возмущавшие республику. Сенаторы собрались для совещания. Народ обступил сенат и ожидал окончания дела, надеясь, что хлеб продан будет за умеренную цену и что он без платы получит то, что прислано в подарок от Гелона, как и в самом сенате многие думали. Тогда Марций встал и сильно говорил против угождающих народу; он называл их демагогами и предателями аристократии, утверждая, что они питали против себя самих посеянные в народе пагубные семена наглости и надменности, которые благоразумие требовало бы подавить при самом зародыше, не позволяя народу усилиться полученной властью; что он уже страшен и потому, что получает все, чего хочет; не делает ничего против своей воли; не повинуется консулам, но, пребывая в безначалии, называет начальниками собственных своих предводителей. «Если вы, – говорил он, – будете советоваться о раздаче народу хлеба, как в греческих совершенно демократически управляемых городах, то вы будете тем самым питать, к общей погибели, его непокорность. Граждане не скажут, что получают хлеб за походы, в которые они отреклись идти; за возмущение, которым предали свое отечество; за клеветы на сенат, которые охотно слушают; но, мечтая, что мы уступаем им из робости, что даем все из лести, они никогда не ограничат своей непокорности и не перестанут производить мятежи и беспокойства. Не безрассудно ли поступать таким образом? Если мы благоразумны, то должны отнять у них трибунат, ниспровергающий консульство, поселяющий раздор в республике, которая уже не одна, как была прежде, но претерпевает разрыв, не допускающий нас ни соединиться, ни мыслить одно, ни перестать страдать внутренней болезнью и быть терзаемыми друг другом».
Марций долго еще говорил в том же духе, молодые люди и почти все богачи восторженно кричали, что в республике он один непобедим и чужд лести. Однако некоторые из старейших противоречили ему, боясь последствий. В самом деле, ничего хорошего не воспоследовало. Присутствующие в сенате трибуны*, видя, что Марциево мнение превозмогло, выбежали с великим криком к народу, повелевая ему собираться и помогать им. Граждане собрались с шумом; трибуны объявили им речи Марция; народ, воспалясь яростью, едва не ворвался в сенат. Трибуны обвиняли во всем одного Марция и послали взять его с тем, чтобы он оправдал себя; но Марций выгнал с ругательством присланных служителей. Тогда трибуны сами пришли к нему с эдилами*, чтобы насильно взять его. Уже налагали на него руки; но патриции, соединившись, отразили трибунов и побили эдилов. Наступающий вечер прекратил смятение.
На рассвете следующего дня консулы, видя, что народ свирепствовал и стекался отовсюду на площадь, страшась о судьбе города, собрали сенат. Они предлагали рассмотреть, какими умеренными представлениями и полезными постановлениями можно было бы укротить и успокоить народ; говорили, что теперь не время спорить о честолюбии, состязаться о достоинстве; что обстоятельства опасны и требуют управления благоразумного и снисходительного. Большая часть на то согласилась. Консулы предстали пред народом, говорили ему со всей кротостью и старались его успокоить; они отвергали с умеренностью клеветы, употребляли наставления и выговоры не жестокие, уверяя, что в цене и покупке хлеба между сенатом и народом не будет разногласия.
Народ большей частью уступал им. Тишина и спокойствие, с которыми слушал их, явно доказывали, что он был доволен и что речи консулов были ему приятны. Тогда восстали трибуны; они говорили, что народ будет повиноваться благоразумию сената во всем хорошем и полезном; но требовали, чтобы Марций оправдался. Не к ниспровержению ли правления и уничтожению народной свободы, говорили они, возбуждал он сенат и не повиновался, когда мы его призывали? Наконец, ударив и обругав на площади эдилов, не хотел ли он, сколько от него зависело, произвести междоусобную войну и заставить граждан поднять друг на друга оружие? Они говорили таким образом, желая или унизить Марция, когда бы он стал, вопреки своей гордости, льстить народу, или когда бы он последовал влечению своих природных свойств, то сделать против него неукротимым гнев сограждан. Они более надеялись последнего, зная хорошо его качества.
Марций предстал как будто бы для оправдания себя. Народ умолк и успокоился; все ожидали, что Марций будет просить у народа извинения. Когда ж он начал говорить не только с неприятной вольностью и с обвинениями, превышающими самую сию вольность; но звуком голоса и видом лица показывая неустрашимость, столь близкую к небрежению и презрению, то народ ожесточился, явно показывал свое неудовольствие и не мог удержать своего негодования. Сициний, самый наглый из трибунов, поговорив несколько с товарищами своими, объявил пред народом, что трибуны осуждают Марция на смерть, и тотчас приказал эдилам привести его на вершину Тарпейской скалы и с оной немедленно низвергнуть его в пропасть. Эдилы хотели уже его взять. Такой поступок показался ужасным и наглым самому народу. Патриции в исступлении и в ужасе бросились с криком на помощь Марцию. Одни удерживали желавших захватить его и стерегли, составив круг около него; другие, простирая руки, упрашивали тем народ, ибо слова и голос были бесполезны при таком бесчинстве и мятеже. Наконец приятели и родственники трибунов, рассудив, что без великого убийства патрициев невозможно отнять у них и наказать Марция, уговорили их смягчить странность и жестокость этого наказания, не убивать его насильственно и без суда, но предать суду народа. Сициний, сделавшись спокойнее, спрашивал у патрициев: «По какой причине отнимаете вы Марция у народа, хотящего его наказать?» Патриции, напротив того, спрашивали: «С каким намерением и по какой причине хотите вы без суда предать наказанию беззаконному и жестокому одного из знаменитейших граждан римских?» – «Не полагайте это предлогом для ваших раздоров и разногласий с народом, – отвечал Сициний, – вашему требованию народ уступает; гражданина этого будут судить. Тебе же, Марций, – продолжал он, – объявляем: в третье Народное собрание предстать перед народом и убедить в своей невинности граждан, которые произведут над тобой суд».
Патрициям было то приятно; они разошлись с удовольствием, взяв с собой Марция. В продолжение до третьего Народного собрания (которое бывает у римлян каждый девятый день и называется нундинами) случившийся поход против антийцев* подавал патрициям надежду к отсрочке. Они думали, что война будет продолжительна, что между тем народ укротится и ярость его утихнет или даже совсем погаснет среди военных занятий. Но с антийцами скоро был заключен мир, и граждане возвратились в город. Патриции, будучи в страхе, много раз собирались и советовались между собой, каким бы образом не предавать Марция, а трибунам не подать повода возмутить народ. Аппий Клавдий, известный по своей великой ненависти к плебеям, говорил в сильных выражениях, что они уничтожат сенат и совершенно предадут республику, если допустят народ господствовать в подаче голосов против патрициев. Но старейшие и более приверженные к народу, напротив того, утверждали, что народ от уступаемого ему права не будет жесток, но кроток и снисходителен; что он не презирает сенат, но, почитая себя презираемым от него, приимет суд сей за честь и утешение, ему изъявляемое, и что с позволением подавать голоса свои он оставит весь свой гнев.
Марций, видя, что сенат находится в недоумении между благосклонностью к нему и страхом к народу, спросил трибунов, в чем обвиняют его и за что представляют его суду народа. Они отвечали, что обвиняют его в искании самодержавной власти и докажут, что он промышляет о достижении оной. Услышав это, Марций встал и заявил, что уже он сам предстанет пред народом для своего оправдания; что не откажется ни от какого суда и, если будет изобличен, – от любого наказания. «Но только в этом обвините меня, – продолжал он, – и не обманите сенат!» Они обещали и с этим уговором начали производить суд.
Народ уже собрался, и трибуны, во-первых, насильственно произвели то, что голоса были подаваемы не по центуриям, а по трибам; дабы бедный, беспокойный, ни о чем похвальном не помышляющий народ имел перевес над богатыми, знатными и военными*. Потом, оставя обвинение в искании верховной власти*, которого доказать не могли, опять они стали напоминать о том, что прежде говорил Марций в сенате, не допуская продавать дешевле хлеба и советуя уничтожить народное трибунство. Они выдумали еще новое обвинение – раздел выбранной в Антийской области добычи, которую он не внес в общественную казну, но роздал между теми, которые с ним были в походе. Это обвинение более всего смутило Марция, ибо он не был к тому предуготовлен и не мог тотчас прилично отвечать. Он начал хвалить тех, кто провожал его в походе, отчего зашумели те, кто за ним тогда не последовал и которых было гораздо больше. Наконец, трибы стали подавать голоса. Осудивших было три; он был приговорен на вечное изгнание*.
По объявлении решения народ разошелся с такою гордостью и радостью, каких не оказывал никогда по одержании победы над неприятелем. Сенат был погружен в горесть и уныние; он раскаивался и жалел, что не решился испытать все средства и все претерпеть, прежде нежели допустить народ ругаться над собой и обнаруживать такую власть. Не было нужды в то время в одежде или других знаках, чтобы распознать патриция и простолюдина; радующийся был простолюдин, печалящийся – патриций.
Лишь один Марций, непоколебимый, не униженный, с твердым видом, лицом и поступью, между всеми жалеющими о нем, сам о себе не жалел, не был тронут. Но это не происходило от силы рассудка, или кротости сердца, или от того, чтобы он терпеливо сносил происшедшее, но от того, что предался ярости и негодованию. Многие не ведают того, что это состояние души есть печаль. Когда она, как бы воспалившись, превратится в гнев, то теряет свою слабость и недеятельность. От этого то разгневанный кажется деятельным, так, как больной горячкой – огненным, потому что душа его воспалена, напряжена и приведена в волнение. Такое состояние души Марций тогда же обнаружил своими поступками. Он пришел домой, обнял мать и жену, плачущих и рыдающих, увещевал их сносить терпеливо случившееся* и тотчас удалился, направил стопы свои к городским воротам, куда все почти патриции провожали его. Он ничего с собой не взял, ничего ни у кого не просил; вышел из Рима, имея при себе трех из своих клиентов. Несколько дней провел он один в поместьях своих, волнуемый разными мыслями, какие внушала ему ярость. Она не вела его ни к чему хорошему и полезному; но устремляла единственно к тому, чтобы наказать римлян и возбудить против них жестокую войну, с каким-либо из соседственных народов. Он решился прежде испытать вольсков, ведая о богатстве их и крепости войск и полагая, что прежние их поражения не столько уменьшили их силы, сколько умножили ревность их и ярость против римлян.
Среди вольсков в то время имел власть почти царскую, по причине богатства, храбрости и знатного рода своего, некто по имени Тулл Аттий. Марций знал, что Тулл ненавидел его более всякого другого римлянина. Много раз в сражениях, грозя один другому, вызывали к бою друг друга, как обыкновенно бывает у молодых воинов, одушевленных славолюбием и соревнованием; к народной вражде они еще присоединили один к другому вражду частную. При всем том Марций приметил в Тулле некоторую высокость духа; знал также, что Тулл более всех вольсков желает сделать римлянам зло и ищет к тому случая. Марций подтвердил мнение того, кто сказал:
Как трудно укротить свой гнев! Он жизнью покупает то, чего желает!
Он надел платье, в котором нельзя было его узнать, и, подобно Одиссею, по словам Гомера:
Вступил во град мужей враждебных*.
Это было вечером; многие встречались с ним, но никто его не узнал. Он пошел прямо в дом Тулла и, вступив в оный, вдруг сел спокойно у очага*, покрыл голову и был в безмолвии. Домашние тому удивлялись, но не смели заставить его встать, ибо в его виде и в самом молчании видно было некоторое величие. Они возвестили о странном случае Туллу, который тогда ужинал. Тулл встал, пошел к нему и спросил у него, кто он и чего хочет. Тогда Марций открыл голову и, несколько помолчав, сказал: «Тулл! Если ты еще не узнаешь меня и, видя меня, не веришь глазам своим, то мне должно быть самому на себя доносчиком. Я Гай Марций, вольскам столь много зла причинивший и носящий название, не позволяющее мне от него отрекаться, – название Кориолана. За все свои труды и опасности я не приобрел другой награды, как это имя, знаменующее мою к вам ненависть, и оно одно остается у меня неотъемлемым. Все прочее я потерял по причине зависти и гордости народа, робости и предательства управляющих и мне равных. Я изгнан; прибегаю как умоляющий к твоему домашнему жертвеннику не ради безопасности, не ради спасения жизни своей – для чего бы идти сюда, если бы боялся смерти? – но для наказания гонителей моих; я уже наказываю их тем самым, что тебя делаю над собой начальником. Если ты столько смел, что можешь предпринять что-либо против неприятелей, великодушный человек, воспользуйся моими напастями! Сделай мое несчастье общим благом для вольсков. Я буду воевать в пользу вашу с большим успехом, нежели против вас: несравненно лучше ведет войну тот, кому известно, что происходит у неприятелей, нежели тот, кто этого совсем не знает. Но если ты не осмеливаешься начать войну, я не хочу более жить, и тебе неприлично спасать человека, издавна тебе враждебного, а теперь для тебя ненужного и бесполезного».
Тулл, услыша такие слова, чрезвычайно был обрадован. Он простер к нему руку, говоря: «Встань, Марций, и ободрись! Великое для нас счастье то, что ты к нам пришел и предал себя! Надейся большей помощи от вольсков». После того дружески угостил Марция; в следующие дни они советовались о войне между собой.
В то самое время неудовольствие патрициев к народу, происходившее особенно от осуждения Марция, возмущало Рим. Прорицатели, жрецы и частные лица говорили о предзнаменованиях, достойных особенного внимания. Одно из таковых было и следующее. Некто по имени Тит Латиний, человек незнатный, провождавший спокойную и честную жизнь, нимало не преданный суеверию, а еще менее тщеславию, видел во сне, будто Юпитер явился ему и велел сказать сенату, что послали ему пред священным шествием дурного и весьма неприятного плясуна. Тит, как сам говорил, в первый раз не обратил большого внимания на это видение. Когда же он оставил оное без уважения в другой и третий раз, то увидел смерть достойного любви сына, и собственное его тело так вдруг ослабло, что он не мог им более владеть. Он объявил о том сенату, будучи принесен туда на носилках. Как скоро все рассказал, то, говорят, почувствовал он возобновляющуюся крепость своего тела, встал и самостоятельно пошел домой.
Сенаторы были поражены и учинили великие разыскания в этом деле. Вот в чем оно состояло. Некто предал своего невольника другим невольникам с приказанием гнать его бичом через всю площадь, потом умертвить. Они исполнили его приказание и били несчастного, который между тем от боли вертелся, кривлялся и делал движения, обнаруживавшие претерпеваемые им муки. По случаю следовало за ними священное торжество. Многие из присутствующих показывали свое неудовольствие, не видя приятного лица и приличных торжеству движений; однако никто не воспрепятствовал мучителям бить его; только бранили и проклинали того, кто столь жестокое предписал наказание. В то время господа обходились весьма милостиво с рабами своими, ибо сами работали и сходство в образе жизни делало их ласковее к ним и снисходительнее. Самое большое наказание для провинившегося раба было то, чтобы заставить его поднять ту часть телеги, на которую опирается дышло, и ходить с нею по околотку. К рабу, наказанному таким образом перед глазами товарищей и соседей, никто не имел более никакого доверия; его называли фуркифером; «фурка» у римлян значит «подпорка» или «вилы».
Когда Латиний возвестил видение и сенаторы не могли понять, кто был этот неприятный и дурной плясун, предшествовавший торжеству, то некоторые вспомнили, по причине странности приключения, о наказании того невольника, которого били бичами, гоня через площадь, потом умертвили. Жрецы были согласны с таким мнением; господин невольника был наказан; торжественное шествие и зрелище вновь были совершаемы.