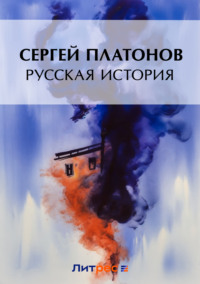Москва и Запад в XVI-XVII веках
Лучшую характеристику заслужили своим отношением к Москве Виниусы. Первый из них, Андрей Виниус, прибыл на Русь из Голландии около 1630 года, занялся хлебной скупкой и умел угодить московскому правительству тем, что купил казенные хлебные запасы «большой прямой ценой, без хитрости и без корысти». В 1631 году он уже имел жалованную грамоту на право свободного торга, а через два года добыл себе исключительное право на безоброчное производство железного промысла в Тульских местах. Широкий размах предприятий Виниуса создавал для него иногда финансовые затруднения и заставлял его искать компаньонов (в лице Марселисов, Тилемана Акемы и др.); но в общемблагосостояние Виниуса росло и он пользовался громкой известностью в деловом мире и доверием властей. Иноземцы находили, что он преданбыл русским больше, чем своим землякам, и, по-видимому, это было верно. Виниус перешел в православную веру, исполнял всякие поручения московского правительства дома и за границей и гордился своим титулом, который в полной форме произносился так: «его царского величества Российского государства комиссар и московский гость Андрей Денисов сын Виниус». Сын его Андрей Андреевич был еще заметнее отца: он получил широкую известность, как один из сотрудников Петра Великого. В нем правительственный чиновник закрывал собой купца и промышленника. Православный по вере, обруселый и рано взятый на службу, он вначале был «гостиной сотни торговым человеком», затем – переводчиком в посольском приказе, затем – московским дворянином и дьяком. Как переводчик, он не только «толмачил» при посольствах, но занимался литературными переводами, писал проекты (об учреждении флота), ездил с дипломатическими поручениями за границу. Впоследствии он перешел на административное поприще – управлял Аптекарским приказом и с 1675 года заведовал (после Марселиса) почтовым делом. Ко времени Петра Великого он совершенно сросся с русской административной средой и для Петра явился ценнейшим сотрудником, ничем не отличным от прочих «птенцов гнезда Петрова». В 1703 году Виниус лишился доверия и милостей Петра и под влиянием опалы в 1706 г. убежал было за границу, однако не выдержал «отлучения» и добровольно возвратился на русскую службу, на которой и умер в 1717 году.
С высокой степенью обрусения можно встретиться и в среде иноземцев, служивших в московских войсках. К концу XVII в. общее количество войск регулярного строя было не менее 90.000 человек. По официальному счету 1681 года было регулярной кавалерии (рейтар, копейщиков и драгун) 29.844 человека, а пехотных солдат – 59.203 человека. Командный состав этой армии состоял в значительном проценте из иностранцев. На взгляд одного из современников (германского посла Мейерберга в 1661 году), в Москву набралось «бесчисленное множество» военных иноземцев; одних генералов и полковников ему было известно более ста. Точный подсчет[28] иностранного офицерства, относящийся к 1696 году, дает число генералов и офицеров (до прапорщиков включительно) в коннице 231, а в пехоте 723. Переход от старых форм военного устройства к регулярным европейским создал в Москве и офицерский корпус европейского образца, в котором руководственная роль принадлежала естественно профессионалам военного дела с Запада. Этих последних в Москве вначале очень баловали, ибо в них нуждались: платили им большое жалованье (полковникам в коннице 400 рублей, в пехоте 250 рублей в месяц), давали им крупные поместья с крестьянами и всячески задерживали на службе, затрудняя выезд за границу. При этом условии много иностранцев «застарело» на московской службе и, обрусев, приняло вместе с православием туземное обличье. «В обществе офицеров заметно различие», говорит один современный иностранный наблюдатель (Шлейзинг) о служилых иноземцах в Москве: «одни из них называются старыми, другие новыми немцами. Старые немцы родились в России…. немецкая кровь в них испарилась; большею частью они с русскими манерами, ходят в русском платье и очень плохи в военном деле, мало понимают или даже ничего не понимают в нем. Для лучших офицеров эти несчастные залетные птицы точно спицы в глазу, так они им неприятны. Для них уже нет возврата на родину, потому что их отцы и деды вступили в вечное подданство (московского) государя и многие из них приняли русскую веру. Новые немцы – те, которые выписаны царем из-за границы и которые раньше служили королям шведскому, польскому и другим; между ними есть храбрые люди»… С течением времени, когда наплыв военных иноземцев стал очень велик и в Москве предложение их труда и знаний превысило спрос, начались некоторые ухудшения в условиях их жизни. Признали неудобным давать поместья с русскими крестьянами иноземцам, даже и тем из них, кто «крестился в православную христианскую веру благочестия ради для государской милости». Оклады денежного жалованья, которым исключительно довольствовали иноземцев, понемногу уменьшали, так же, как и пенсии вдовам и детям «начальных людей, побитых на войне или умерших на государевой службе». А в 1682 году 383 человека командного состава иноверцам просто объявили, что «им впредь государева жалованья без службы давать не доведется: кто из них пахочет остаться в Москве, пусть живет на своем дворе без жалованья, и как учинится войсковое дело, тем снова будет государево жалованье; а кто захочет куда ехать, тех государь велел отпустить без задержания». Таким образом, Москва к концу века оказалась в состоянии пополнять свой офицерский корпус исключительно обруселыми иноземцами, а выезжих офицеров принимать на службу лишь по особому выбору.
В этих новых условиях московской службы, требовавших того, чтобы человек прочно связал себя с Москвой, находились такие заметные люди, как Патрик Гордон и Павел Менезиус (иначе Менезес), – оба католики и оба в то же время доверенные люди Московской власти. Гордон всю свою молодость провел в боевой обстановке; рано покинув родную Шотландию, он служил шведам и полякам и участвовал во многих походах. Его храбрость, распорядительность и порядочность составили ему хорошую репутацию. В 1661 году, 36 лет от роду, он получил сразу два предложения – в службу австрийскую и русскую. Он выбрал последнюю и поехал в Москву, по условию на три года. Но эти три года превратились в десятилетия: Гордон прожил в России все остальные 38 лет жизни, дослужившись до высокого чина «генерала» и заслужив доверие правительства настолько, что ему было дано самостоятельное дипломатическое поручение в Англию. Из подробного дневника Гордона можно видеть, как хорошо обживались иноземцы в московской обстановке и как свободно они себя чувствовали, если только не пытались оставить московскую службу. Все попытки Гордона взять отставку и вернуться на родину отклонялись с гневом и даже с угрозами послать его с семьей в ссылку. Но в то же время высшие правительственные лица делали его своим интимным советником. Так, знаменитый князь В. В. Голицын часто звал к себе Гордона для политических бесед, имевших иногда «тайный» характер. В начале 1684 года он просил Гордона составить для него обстоятельную записку по вопросу о войне с Крымом, и Гордон на другой же день доставил ему свой мемуар, написанный без особых «цензурных» стеснений, с большой свободой мнений и выражений. Биограф Гордона проф. А. Брикнер отзывается об этом мемуаре очень одобрительно, говоря, что его обстоятельность и обширность «может служить доказательством того, что Гордон был в состоянии в самое короткое время изложить весьма ясно и отчетливо довольно сложные политические вопросы»[29]. Большая деловитость Гордона, его честность и порядочность, выдержанность и стойкость характера повели к тому, что смена властей и влияний в Москве не отзывалась на его положении. Близкий к любимцу царевны Софьи Голицыну, Гордон стал столь же близок к царю Петру, когда Петр устранил Софью и взялся сам за дела. Последние годы своей жизни Гордон находился в кругу высших московских сановников и, как известно, был одним из наиболее чтимых любимцев Петра.
Не столь удачлив был в своей карьере Павел Менезий «барон фон-Питфодельс». Ему не пришлось стать столь видным фаворитом, каким был Гордон. Но степень доверия к нему московского правительства была не меньшей. Несмотря на то, что он был добрым католиком («huomo dotto e bonissimo cattolico», как аттестовали его в Риме), он пользовался в Москве прекрасной репутацией и не раз исполнял дипломатические поручения, являясь представителем Москвы даже в Риме. Там при папском дворе он произвел большое впечатление своей образованностью и ловкостью. Его нашли человеком вполне образованным и отметили, что он владел языками французским, английским (он родом был шотландец), немецким и латинским; по-латыни он говорил будто бы с особенной ловкостью и изяществом. В Москве он пользовался твердым положением не только по своим деловым достоинствам, но и потому, что через своих шотландских родственников Гамильтом состоял в свойстве с Матвеевыми и Нарышкиными. Близость к этим двум семьям, почти родственная, стала твердой базой для Менезиуса. Именно на этой близости создалась известная легенда о том, что Менезиуса царь Алексей Михайлович назначил наставником своего сына Петра («le declare guverneur du jeune prince Pierre son fils, aupres duquel il a toujours demeure jusq'au commencement du regne du czar Jean»). Если даже в этом известии нет зерна фактической правды, то любопытна та его особенность, что в нем впервые является пред нами подставление о фаворите-иностранце в русском дворце.
В заключение заметок об иностранцах, действовавших в Москве во второй половине XVII века, необходимо упомянуть о положении в ту пору врачебного дела. Тогда уж отжил старый московский порядок, по которому выезжий заграничный врач и его аптека почитались принадлежностью исключительно царского обихода и ведалась наиболее приближенными к царю боярами. Для того, чтобы при царе Михаиле получить из этой царской аптеки лекарство, надобно было особое челобитье и особый «приказ государевым словом»[30], позднее в Москве открыли «новую аптеку» для вольной продажи из нее лекарств «всяких чинов людям» и на доходы с этой аптеки содержался, между прочим «Аптекарский приказ» или «Аптекарская палата». Из прежнего интимного дворцового «приказа» врачебное дело во второй половине века вышло в государственную сферу, составило особое ведомство и, по-видимому, стало развиваться довольно быстро. Аптекарский приказ занимался приглашением врачей из-за границы и образованием русских лекарей, ведал их службу и являлся для них судебной инстанцией, устраивал аптеки, сады и огороды для целебных растений, посылал в действующие войска врачей и врачебные средства. Врачебный персонал, состоявший в ведении приказа, быстро увеличивался. При царе Михаиле докторов (внутренние болезни) и лекарей (наружные болезни) было в Москве всего десятка два[31]. При царе же Алексее из-за границы было приглашено вновь не менее 13 докторов, 27 лекарей и окулист. В момент вступления на престол Петра Великого (1682 г.) в Москве на лицо состояло 6 докторов, 19 лекарей, 36 человек низшего врачебного персонала («лекарских учеников»), не считая докторов и лекарей в других городах и в войсках. Нельзя сказать, чтобы этот персонал был незначителен; правы были московские люди, когда они выражались, что у них есть «многие лекари от всех язык, которые живут на Москве». Правы они были и тогда, когда говорили, что «у государя есть дохтуры иноземцы многих земель и природные московского государства». Мы имеем достаточно указаний на то, что врачебную науку от иноземцев стали усваивать и русские люди. В Азовском походе 1695 года в войсках на 14 лекарей иноземцев приходилось 7 русских лекарей; в самой же Москве их считали десятками. В 1682 г. в ведении Аптекарского приказа состояло 44 человека русских лекарей и лекарских учеников. В чем заключался круг их знаний, определяется словами одного из таких московских специалистов: «раны стрельные, колотые и рубленные лечу и пульки вырезываю и руду (кровь) жильную и банками пущать умею, водки гнать, мази стирать знаю же, болезни нутряные лечить могу же и несколько очного и костоправного дела навычен». В одном лице, словом, встречаем хирурга, ортопедиста, терапевта, окулиста, фармацевта и, выражаясь по-современному, самогонщика. Современное состояние медицинских знаний и техники позволяет с улыбкой смотреть на опыты московского врачевания. Но необходимо отметить, что для той эпохи представляла большую важность некоторая эмансипация врачебной практики, допущенная московской властью. К концу XVII века русские люди могли лечиться не у одних туземных знахарей из «зеленого ряда» (москательных лавок), но и врачей, прошедших медицинские школы Запада и подготовленных к своему делу наукообразно.
IVОдновременно с наплывом людей из Западной Европы, в Москву лился людской поток с Украины. Выше уже указывалось на то, что в середине XVII столетия московские власти начали сами вызывать ученых украинцев в Московское государство как для работ по исправлению богослужебных книг, так и вообще для водворения в Москве православной богословской науки. Польская война царя Алексея повела к завоеванию Украины и, главным образом, Киева – центра украинской образованности. Те школы и монастыри, где сосредоточивались умственные силы края, оказались теперь, после московских побед, в московском подданстве. Сношения их с Москвой облегчились и упростились. С другой стороны, так называемая церковная реформа Никона требовала большего и большего числа сведущий лиц, которых одинаково звали с Греческого востока и с Украины. Совокупность этих обстоятельств обусловила появление в Москве массы малоруссов и отчасти белоруссов самых различных специальностей и типов – от высокоученых и литературно одаренных кабинетных и придворных людей до смиренных трудолюбцев, умеющих «водить всякую животину и птиц». В московских монастырях к исходу XVII века оказалось столько приходцев, что, по словам одного исследователя, «некоторые московские обители были заполонены ими». А во многих монастырях даже и настоятельство оказалось в руках зарубежных выходцев, что повело к упреку со стороны одного из восточных патриархов (иерусалимского Досифея в 1686 году). Он настаивал перед царями Иваном и Петром Алексеевичами, чтобы «в Москве сохранен бе древний устав, да не бывают игумены или архимандриты от рода казацкого, но москали». По мнению патриарха, нормален был бы такой порядок, чтобы был «москаль и на Москве и в казацкой земле, а казаки токмо в казацкой земле»; Москва же не выдерживала этого порядка и наплодила у себя украинцев даже в руководственных должностях по церковному управлению. И вне церкви, в дворцовом быту, при дворе и в дворцовом хозяйстве, украинцы также появились в большом числе. Это были, во-первых, представители разных прикладных знаний, искусство и ремесл: иконописцы, резчики, винокуры, садовники. В числе последних подвизались в царских садах виноградари и пчеловоды из южно-русских монахов. Затем, во дворце и в домах московской знати появились учителя из южно-русских ученых. Можно для того времени назвать много имен таких «педагогов», учивших не только в семьях, но в маленьких школах по частным домам (например, у известного нам Ф. М. Ртищева). Количество «педагогов» было столь значительно, что даже предполагалось, с устройством в Москве академии, воспретить их практику в частных домах, чтобы не создавать конкуренции академическому учению. Наконец, рядом с учителями и домашними наставниками, появились в Москве проповедники и ораторы – малоруссы и белоруссы. Они принесли с собой не только церковные проповеди, но и светские «орации» – речи поздравительные и панегирические. Обычай говорить речи в дни праздников и торжеств и славить в них героев и благодетелей очень привился в московском официальном быту. Проповедников и ораторов слушали не только в церквах, но и на парадных выходах и приемах, и притом на темы не только церковные, но и политические. Речи иногда заказывались заранее, как обычная и необходимая составная часть того или иного торжества; при этом в Москве заботились о воспитании собственных доморощенных «орацейщиков», не довольствуясь одними заезжими южанами. Мода на декламацию вызвала вместе с «орациями» и «вирши», которые в большом количестве стали слагаться на разные случаи жизни или же просто заимствоваться из южно-русского обихода. Их читали и распевали «мирским гласоломательным пением» на малорусский манер, то есть с разнообразием напевов светской народной песни, которыми умели тогда блеснуть музыкальные украинцы.
Мода на все малорусское, охватившая верхи московского общества, стала было остывать ко времени царя Федора Алексеевича под влиянием горьких разочарований в деле освоения Украины Москвой. Малоруссы оказались не столь верными «подданными», как представлялось москвичам в начале борьбы за Поднепровье; они были «непостоятельны» и изменяли. А в самой Москве они являлись нередко неискренними и своекорыстными! Один из самых блестящих представителей украинской культуры в Москве, Симеон Полоцкий, с горечью отметил в своей переписке перемену в отношении москвичей к малоруссам и сообщал, что сам он еще не пострадал от этой перемены, потому что «сидел спокойно в келье, не вылетая, как пчела на мороз», но что в общем украинцам стало в Москве хуже. Он пояснял, что во-первых, в Москве nemo ilium amat, gui «da, da, mihi» clamat, а во-вторых, «Украины нестатек одвроцил од нас их ласки остатек»[32]. Это он писал в 1669 году, а годом позже он выразился обстоятельнее, что к украинцам в Москве отношение, вследствие поведения легкомысленных людей, изменилось настолько, что иной из прилетающих в Москву, как пчелы летят на благовоние, готов удрать хотя бы целым. Известно, что длительный и очень специальный спор московских богословов с украинскими о «пресуществлении» закончился печально для последних, и собор 1690 года, собранный в Москве патриархом Иоакимом, осудил «хлебопоклонную» ересь латинствующих украинцев и их московских учеников. Этим осуждением брошена была на малороссов тень подозрения в том, что они и вообще неправославны, и положение ученых южно-русских в Москве было скомпрометировано настолько, что доступ в высшую иерархию был им на некоторое время закрыт. Однако жить без них Москва не могла, так как нуждалась в их знаниях, и все-таки ценила их культурность. Поэтому в течение всей второй половины XVII века мы видим и во дворце, и у патриарха влиятельных южноруссов из числа тех, в личном правоверии коих москвичи не сомневались. Весьма известны из них Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, оба киевские монахи.
Епифаний Славинецкий прожил в Москве не менее двадцати лет, там и скончался (1675 г.). Это был кабинетный ученый, не стремившийся к внешним успехам. По вызову московских властей, он состоял у книжного исправления, переводил и редактировал тексты св. писания и св. отцов, составлял проповеди, сочинял жития, выступал с учено-каноническими справками по разным вопросам церковной жизни и был редактором соборных «деяний» (протоколов) и определений московской церкви, а также переводов подобных же текстов восточных церквей. В его лице московская церковь имела сведущего эксперта по всем вопросам, возникавшим тогда в шумной и тревожной жизни церковно-общественной. Славинецкого поэтому весьма почитали и ценили, но не выдвигали его на арену практической деятельностью, для которой, по-видимому, не было данных в самой его натуре. Иначе сложилась деятельность в Москве Симеона Полоцкого, куда он явился в 1663 году. Живой, общительный, обладавший внешними данными, он охотно брался за самые разнообразные дела. Сначала он учительствовал, и, по-видимому, его педагогические таланты в Москве были оценены. С 1667 года он уже стал учителем в царском семействе, где обучал царевича Алексея и Федора, царевну Софию. Были у него ученики и среди московской знати. Далее, Полоцкий показал себя талантливым автором чисто литературных произведений в прозе и стихах. Он составлял речи и приветствия, пробовал силы в комедиях, вел обширную переписку в щегольских литературных формах с московскими южно-русскими корреспондентами. С другой стороны, его перо призывалось и на официальную службу. Ему поручалось составлять официальные речи от имени царя и иерархов в различных торжественных собраниях и встречах; поручалась редакция соборных определений и «деяний»; он вел официальную полемику с расколом и составлял опровержение мнений расколоучителей. С особой охотой занимался Полоцкий религиозно-назидательными сочинениями, составляя их или в виде поучительных виршей, или же в виде проповедей. Такого рода произведений Полоцкого сохранилось огромное количество. Успех талантливого монаха в Москве был необычаен. Обаяние его личности и большие связи в московском обществе создавали для него возможность не только процветать самому, но и помогать другим южно-руссам устраиваться в Москве. Реакция против киевской учености не повредила Полоцкому, хотя Славинецкий и указывал на то, что Полоцкий латинист: «знаяше нечто, но латински точию, гречески же ниже малейше что-либо знаяше».
Время этой реакции против «латинской» учености киевлян (то есть, последняя четверть XVII века) выдвинуло вопрос о замене культурного руководства южно-руссов руководством греков. Был такой момент в московской жизни, когда греческое влияние могло чрезвычайно укрепиться, именно в период господства Никона, в 50-х и 60-х годах того века. Склонный к резким увлечениям и решениям, Никон подпал всецело греческому влиянию и проводил свои церковные «новшества» по указке греков, перенимая у них даже внешние мелочи церковного чина. «Решив собственно привести в полное соответствие русские церковные книги, чины и обряды с современными греческими, – говорит проф. Н. Ф. Каптерев, – Никон кстати уже переносит к нам и греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие мантии и клобуки, греческие напевы, приглашает на Русь греческих живописцев, мастеров серебряного дела, строит монастыри по образцу греческих и дает им греческие названия, приближает к себе без разбора всех греков, слушает только их, действует по их указаниям, повсюду выдвигает на первый план греческий авторитет»[33].
То же отношение к грекам, подчиненно-послушное, сохраняет московская власть и после Никона до самого суда над Никоном. Казалось бы, что для греческой иерархии созданы наилучшие условия, чтобы подчинить Москву своему культурному воздействию, создать в ней свои школы, водворить в ней своих учителей, основать свои типографии для печатания богослужебных книг вместо того, чтобы печатать их в Италии… Но ничего такого греки не сделали; напротив, их влияние в Москве скоро совершенно ослабело. Тому были две основных причины.
Во-первых, греки не умели, да и не смогли бы сохранить за собой приобретенный ими авторитет. Личное увлечение греками Никона не давало простора для критики, и русские люди молчали. Падение Никона развязало языки, а поведение греков давало им обильную пищу. Прежде всего греков стали представлять морально низкими людьми, готовыми продать истину и пожертвовать святыней ради щедрой «милостыни», то есть субсидий и взяток. И надобно сказать, что такое представление было не безосновательно. А затем греческое правоверие, в которое так уверовал Никон, не обольщало других. Не только противники Никона, расколоучители, в него не верили, но и нейтральные люди отзывались о нем скептически. «Сами, насилия ради от безбожных, благочестие свое погубиша: чудотворные иконы, также и мощи святых разделивше, вся от себя отвезоша на Русь и свое благочестие пусто сотвориша», так отзывался о греках один из писателей той эпохи. Во многих умах крепок был взгляд побывавшего на Востоке русского монаха Аресения Суханова, который говорил грекам в глаза, что как папа не глава церкви, так и греки не источник веры, что если и были некогда греки источником всем, то теперь он пересох и они сами страждут жаждой; так где же им напоять весь свет своим источником! Самое большее, что допускалось в Москве после длительного общения с греческим духовенством в пору Никона, это – признание, что греческая церковь столь же православна, как и московская.
Во-вторых, в Москве убедились в том, что у греков нет никакой своей особой науки и что в сущности у них в этом отношении не существует никакого превосходства над учеными киевлянами и «немцами». Мало того, москвичи поняли, что если у греков и были ученые люди, то выучились они не в греческих странах, под турецким игом, а на латинском Западе и прежде всего в католической Италии, где они получали свое высшее научное образование и где печатали свои греческие книги. Таким образом, греки находились в такой же точно опасности «олатыниться», в какой и южно-руссы в своих на католический манер устроенных школах. И для тех, и для других языком науки была латынь, а не греческий язык. При этих условиях зачем было учиться у грека, когда легче можно было учиться у своего же русского учителя? И зачем было прилежать к изучению греческого языка, когда все равно необходимо было, с большей научной пользой, изучать латинский язык? Если бы ь таких условиях греки приложили со своей стороны особые усилия овладеть московской школой, они, быть может, и успели бы укрепиться в Москве. Но никаких усилий они в этом отношении не делали; история греческих школ в Москве в XVII веке открывает нам печальную картину того, что все попытки московского правительства получить учителей с греческого Востока оставались неудовлетворенными вследствие невнимания греческих церковных властей и или неумения их сыскать пригодных для дела людей. Возникавшие в Москве греческие школы неизменно закрывались по непригодности руководителей, и на Востоке равнодушно относились к этому постыдному для греков явлению. Даже в таком важном для всего православного мира вопросе, как основание в Москве высшей православной школы, греки сыграли плохую роль. Проект такой школы («академии») вышел из круга ученых киевлян, от Симеона Полоцкого и его учеников (Сильвестра Медведева). Он был утвержден правительством царевны Софьи в 1682 году, в ту пору, когда в высшем московском духовенстве шла полным ходом реакция против киевских ученых, как «латинствующих». Против их «латинского учения» патриарх Иоаким пытался даже создать «греческое учение» в особой школе, устроенный в 1679 году. Его стараниями в периоде своего осуществления и московская «академия» стала на путь учения греческого, а не латинского (1685 г.). Преподавание в ней было вверено выписанным с Востока грекам братьям Лихудам, а киевляне с их московскими учениками были от академии отстранены. Казалось бы, что дело крепко попало в греческие руки, и грекам надобно было только его не портить. Но они его испортили. Характер преподавания Лихудов не отличался в существе от преподавания «латинского», ибо сами они учились в Венеции и были докторами Падуанского университета. На это и указывали обойденные властями киевляне и их ученики. Они подвергали критике и самое достоинство преподавания Лихудов, находя его неуспешным. Личное же поведение Лихудов и их сыновей, далеко не нравственное, давало еще большую пищу для обвинений. На него указывал и тот самый патриарх Иерусалимский Досифей, который рекомендовал Лихудов московским властям. В результате всех обвинений, кляуз и интриг Лихуды бежали из Москвы, были пойманы и возвращены, но уже не попали в академию, а превратились в учителей итальянского языка. Академия же постепенно перешла в руки людей «латинского учения», питомцев Киевской академии, которые ввели в ее устройство и деятельность порядки, заведенные исстари в Киеве, и сообщили ей свой дух и направление. Так окончательно упрочилось в московской жизни духовное образование, принесенное с Украины.