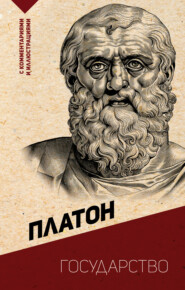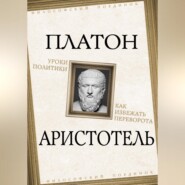По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Законы
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теэтет. Нет, нельзя.
Чужеземец. Ну хорошо. Должно ли, однако, утверждать, что в искусстве обучать существует один род, или надо говорить, что их больше и что в этом случае самые важные в нем – два каких-то рода? Рассмотри.
Теэтет. Рассматриваю.
Чужеземец. И мне кажется, что мы скорее всего могли бы найти их вот как.
Теэтет. Как?
Чужеземец. А рассмотрев, не допускает ли заблуждение внутри себя некоего разделения? Ведь будучи двояким, оно, очевидно, принуждает и искусство обучения иметь две части, по одной для каждого из своих родов.
Теэтет. Что же? Ясно ли тебе то, чти мы теперь исследуем?
Чужеземец. Мне, во всяком случае, кажется, что я вижу обособленным некий великий и тягостный вид заблуждения, равный по значению всем остальным частям заблуждения.
Теэтет. Какой именно?
Чужеземец. Тот, когда, не зная чего-нибудь, люди считают себя знающими это. Отсюда, по-видимому, у всех возникает все то, что составляет наши ошибки в мышлении.
Теэтет. Правда.
Чужеземец. Так именно этому одному виду заблуждения и присваивается, по моему мнению, имя невежества.
Теэтет. Уж конечно.
Чужеземец. Какое же, стало быть, надо дать имя той части искусства обучения, которая от него избавляет?
Теэтет. Я так думаю, чужеземец, что все другое называется ремесленным обучением, а эта часть, по крайней мере здесь, у нас, именуется воспитанием.
Чужеземец. Да и у всех почти эллинов, Теэтет, она именуется так. Но нам надо еще рассмотреть, не есть ли она уже неделимое целое, или же она допускает какое-либо достойное названия подразделение.
Теэтет. Конечно, это надо рассмотреть.
Чужеземец. Так мне представляется, что и эта часть некоторым образом расчленяется.
Теэтет. В каком отношении?
Чужеземец. В искусстве обучения с помощью речей один путь кажется более шероховатым, другой – более гладким.
Теэтет. Что же сказать нам о каждом из них?
Чужеземец. Один путь стародавний, путь наших отцов, которым они главным образом пользовались, да многие пользуются еще и теперь в применении к сыновьям, когда те в чем-нибудь провинятся, причем их то бранят, то более кротко увещевают. Всю эту часть правильнее всего можно назвать вразумлением.
Теэтет. Это так.
Чужеземец. Что же касается другого, то здесь некоторые, видно, по размышлении, пришли к выводу, что всякое неведение бывает невольным и если кто считает себя мудрым, он никогда не пожелает обучаться чему-либо из того, в чем считает себя сильным, способ же воспитывать путем вразумления при затрате большого труда приводит к малым достижениям.
Теэтет. Они правильно полагают.
Чужеземец. Поэтому-то за устранение подобного [само]мнения они берутся другим способом.
Теэтет. Каким же именно?
Чужеземец. Они расспрашивают кого-либо о том, относительно чего тот мнит, будто говорит дельно, хотя в действительности говорит пустое. Затем, так как он и ему подобные бросаются из стороны в сторону, они легко выясняют их мнения и, сводя их в своих рассуждениях воедино, сопоставляют между собой, сопоставляя же, показывают, что эти мнения противоречат друг другу касательно одних и тех же вещей, в одном и том же отношении, одним и тем же образом. Те же, видя это, сами на себя негодуют, а к другим становятся мягче и таким способом освобождаются от высокомерного и упорного самомнения, и из всех освобождений об этом освобождении слушать всего приятнее, да и для того, кто его испытывает, оно бывает самым надежным. Ведь те, кто их очищает, дитя мое, полагают, подобно тому как это признали врачи, что тело может наслаждаться предлагаемой ему пищей не раньше, чем будет из него устранено все то, что этому служит помехой; то же самое они думают и относительно души. Они считают, что душа получит пользу от предлагаемых знаний не раньше, чем обличитель, заставив обличаемого устыдиться и устранив мешающие знаниям мнения, сделает обличаемого чистым и таким, что он будет считать себя знающим лишь то, что знает, но не более.
Теэтет. Во всяком случае это состояние – наилучшее и разумнейшее.
Чужеземец. Вследствие всего этого, Теэтет, о таком обличении мы должны говорить как о величайшем и главнейшем из очищений и, с другой стороны, человека, не подвергшегося этому испытанию, если бы даже он был Великим царем, поскольку он не очищен в самом главном, должны считать невоспитанным и безобразным в том отношении, в каком следовало бы быть самым чистым и прекрасным тому, кто желает стать действительно счастливым.
Теэтет. Безусловно, так.
Чужеземец. Что же? Тех, кто занимается этим искусством, как нам назвать? Я ведь боюсь назвать их софистами.
Теэтет. Почему же?
Чужеземец. Как бы не приписать им слишком ценный дар.
Теэтет. Но ведь то, что теперь сказано, походит на нечто подобное.
Чужеземец. Да ведь и волк походит на собаку, самое дикое существо на самое кроткое. Но человеку осмотрительному надо больше всего соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый скользкий род. Впрочем, пусть будет так: ведь если определения четки даже в отношении мелочей, то никакого спора из-за них не возникает.
Теэтет. Да, вероятно, не возникает.
Чужеземец. Так пусть же частью искусства различать будет искусство очищать, от искусства очищать пусть будет отделена часть, касающаяся души, от этой части – искусство обучать, от искусства обучать – искусство воспитывать, а обличение пустого суемудрия, представляющее собою часть искусства воспитания, пусть называется теперь в нашем рассуждении не иначе как благородною по своему роду софистикою.
Теэтет. Пусть называется. Однако я, поскольку обнаружилось столь многое, недоумеваю, кем же, наконец, если говорить правильно и с уверенностью, следует признать на самом деле софиста.
Чужеземец. Твое недоумение естественно. Но и тот, софист, надо думать, теперь уже сильно недоумевает, куда ему, наконец, ускользнуть от нашего рассуждения. Ведь справедлива пословица, что не легко от всего увернуться. Поэтому теперь надо посильнее на него налечь.
Теэтет. Ты говоришь прекрасно.
Чужеземец. Давай-ка сначала, остановившись, как бы переведем дух и, отдыхая, поразмыслим сами с собою: вот ведь сколь многовидным оказался у нас софист. Мне кажется, прежде всего мы обнаружили, что он – платный охотник за молодыми и богатыми людьми.
Теэтет. Да.
Чужеземец. Во-вторых, что он крупный торговец знаниями, относящимися к душе.
Теэтет. Именно.
Чужеземец. В-третьих, не оказался ли он мелочным торговцем тем же самым товаром?
Теэтет. Да; и в-четвертых, он был у нас торговцем своими собственными знаниями.
Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Пятое же попытаюсь припомнить я. Захватив искусство словопрений, он стал борцом в словесных состязаниях.
Теэтет. Так и было.
Чужеземец. Шестое спорно; при всем том мы, уступив софисту, приняли, что он очищает от мнений, препятствующих знаниям души.
Чужеземец. Ну хорошо. Должно ли, однако, утверждать, что в искусстве обучать существует один род, или надо говорить, что их больше и что в этом случае самые важные в нем – два каких-то рода? Рассмотри.
Теэтет. Рассматриваю.
Чужеземец. И мне кажется, что мы скорее всего могли бы найти их вот как.
Теэтет. Как?
Чужеземец. А рассмотрев, не допускает ли заблуждение внутри себя некоего разделения? Ведь будучи двояким, оно, очевидно, принуждает и искусство обучения иметь две части, по одной для каждого из своих родов.
Теэтет. Что же? Ясно ли тебе то, чти мы теперь исследуем?
Чужеземец. Мне, во всяком случае, кажется, что я вижу обособленным некий великий и тягостный вид заблуждения, равный по значению всем остальным частям заблуждения.
Теэтет. Какой именно?
Чужеземец. Тот, когда, не зная чего-нибудь, люди считают себя знающими это. Отсюда, по-видимому, у всех возникает все то, что составляет наши ошибки в мышлении.
Теэтет. Правда.
Чужеземец. Так именно этому одному виду заблуждения и присваивается, по моему мнению, имя невежества.
Теэтет. Уж конечно.
Чужеземец. Какое же, стало быть, надо дать имя той части искусства обучения, которая от него избавляет?
Теэтет. Я так думаю, чужеземец, что все другое называется ремесленным обучением, а эта часть, по крайней мере здесь, у нас, именуется воспитанием.
Чужеземец. Да и у всех почти эллинов, Теэтет, она именуется так. Но нам надо еще рассмотреть, не есть ли она уже неделимое целое, или же она допускает какое-либо достойное названия подразделение.
Теэтет. Конечно, это надо рассмотреть.
Чужеземец. Так мне представляется, что и эта часть некоторым образом расчленяется.
Теэтет. В каком отношении?
Чужеземец. В искусстве обучения с помощью речей один путь кажется более шероховатым, другой – более гладким.
Теэтет. Что же сказать нам о каждом из них?
Чужеземец. Один путь стародавний, путь наших отцов, которым они главным образом пользовались, да многие пользуются еще и теперь в применении к сыновьям, когда те в чем-нибудь провинятся, причем их то бранят, то более кротко увещевают. Всю эту часть правильнее всего можно назвать вразумлением.
Теэтет. Это так.
Чужеземец. Что же касается другого, то здесь некоторые, видно, по размышлении, пришли к выводу, что всякое неведение бывает невольным и если кто считает себя мудрым, он никогда не пожелает обучаться чему-либо из того, в чем считает себя сильным, способ же воспитывать путем вразумления при затрате большого труда приводит к малым достижениям.
Теэтет. Они правильно полагают.
Чужеземец. Поэтому-то за устранение подобного [само]мнения они берутся другим способом.
Теэтет. Каким же именно?
Чужеземец. Они расспрашивают кого-либо о том, относительно чего тот мнит, будто говорит дельно, хотя в действительности говорит пустое. Затем, так как он и ему подобные бросаются из стороны в сторону, они легко выясняют их мнения и, сводя их в своих рассуждениях воедино, сопоставляют между собой, сопоставляя же, показывают, что эти мнения противоречат друг другу касательно одних и тех же вещей, в одном и том же отношении, одним и тем же образом. Те же, видя это, сами на себя негодуют, а к другим становятся мягче и таким способом освобождаются от высокомерного и упорного самомнения, и из всех освобождений об этом освобождении слушать всего приятнее, да и для того, кто его испытывает, оно бывает самым надежным. Ведь те, кто их очищает, дитя мое, полагают, подобно тому как это признали врачи, что тело может наслаждаться предлагаемой ему пищей не раньше, чем будет из него устранено все то, что этому служит помехой; то же самое они думают и относительно души. Они считают, что душа получит пользу от предлагаемых знаний не раньше, чем обличитель, заставив обличаемого устыдиться и устранив мешающие знаниям мнения, сделает обличаемого чистым и таким, что он будет считать себя знающим лишь то, что знает, но не более.
Теэтет. Во всяком случае это состояние – наилучшее и разумнейшее.
Чужеземец. Вследствие всего этого, Теэтет, о таком обличении мы должны говорить как о величайшем и главнейшем из очищений и, с другой стороны, человека, не подвергшегося этому испытанию, если бы даже он был Великим царем, поскольку он не очищен в самом главном, должны считать невоспитанным и безобразным в том отношении, в каком следовало бы быть самым чистым и прекрасным тому, кто желает стать действительно счастливым.
Теэтет. Безусловно, так.
Чужеземец. Что же? Тех, кто занимается этим искусством, как нам назвать? Я ведь боюсь назвать их софистами.
Теэтет. Почему же?
Чужеземец. Как бы не приписать им слишком ценный дар.
Теэтет. Но ведь то, что теперь сказано, походит на нечто подобное.
Чужеземец. Да ведь и волк походит на собаку, самое дикое существо на самое кроткое. Но человеку осмотрительному надо больше всего соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый скользкий род. Впрочем, пусть будет так: ведь если определения четки даже в отношении мелочей, то никакого спора из-за них не возникает.
Теэтет. Да, вероятно, не возникает.
Чужеземец. Так пусть же частью искусства различать будет искусство очищать, от искусства очищать пусть будет отделена часть, касающаяся души, от этой части – искусство обучать, от искусства обучать – искусство воспитывать, а обличение пустого суемудрия, представляющее собою часть искусства воспитания, пусть называется теперь в нашем рассуждении не иначе как благородною по своему роду софистикою.
Теэтет. Пусть называется. Однако я, поскольку обнаружилось столь многое, недоумеваю, кем же, наконец, если говорить правильно и с уверенностью, следует признать на самом деле софиста.
Чужеземец. Твое недоумение естественно. Но и тот, софист, надо думать, теперь уже сильно недоумевает, куда ему, наконец, ускользнуть от нашего рассуждения. Ведь справедлива пословица, что не легко от всего увернуться. Поэтому теперь надо посильнее на него налечь.
Теэтет. Ты говоришь прекрасно.
Чужеземец. Давай-ка сначала, остановившись, как бы переведем дух и, отдыхая, поразмыслим сами с собою: вот ведь сколь многовидным оказался у нас софист. Мне кажется, прежде всего мы обнаружили, что он – платный охотник за молодыми и богатыми людьми.
Теэтет. Да.
Чужеземец. Во-вторых, что он крупный торговец знаниями, относящимися к душе.
Теэтет. Именно.
Чужеземец. В-третьих, не оказался ли он мелочным торговцем тем же самым товаром?
Теэтет. Да; и в-четвертых, он был у нас торговцем своими собственными знаниями.
Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Пятое же попытаюсь припомнить я. Захватив искусство словопрений, он стал борцом в словесных состязаниях.
Теэтет. Так и было.
Чужеземец. Шестое спорно; при всем том мы, уступив софисту, приняли, что он очищает от мнений, препятствующих знаниям души.