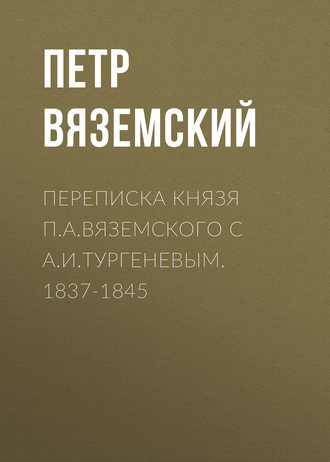
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1837-1845
Обними своих. Я уже и здесь знал, что Надине очень хорошо, а ты ни слова в Петербурге. Перецелуй у присутствующей и отсутствующих своих, у Карамзиных и прочих. Где же Саша? Я был у княгини Мещерской. Гоголь в большом затруднении с сестрами. Нужно поместить их, а он горд, и в России талант его дохнет. Добрая Свербеева хлопочет, по придется приняться за Муравьеву.
Пришлю завтра письмо к брату для Валлада. На бумаге 210 рублей отметил. Je vous enverrai les lettres de Circourt, de Fondras et les vers de Ronchaud.
838.
Тургенев князю Вяземскому.
20-го февраля 1840 г. Москва.
Я писал в тебе вчера, а сегодня посылаю два пакета для Баллада: один с письмом, весьма нужным, который прошу его отправить при первой оказии; другой – с тетрадками или с книжкой. Этот может быть и отложен до удобнейшего случая. Вот и записочка к нему об этом. Посылаю Баранту редкую книжку о Дмитрии Самозванце, на французском, здесь перепечатанную, с предисловием, князем Оболенским. Вот и тебе экземпляр.
Вчера узнал я об отъезде одного доктора в дальнюю Сибирь и в разные места. Мне удалось послать книг двадцать утешительных и забавных к двум из сидящих в сени смертней. Роншо, Туркети, Биньян и лежитимист-хлебник Ребуль etc., etc, etc. и новое издание Фонтана будут читаны в Сибири, вероятно, прежде Петербурга. И fichus парижские.
Здесь очень скучно и душно. Умные люди сделались православными; Чаадаев живот за Красными воротами; балы редки; многих баловников не знаю. Самарина ты угадал: он еще боится звать меня на вечера свои. Одна Свербеева неизменно мила и любезна со мною; к счастью, у ней траур, и она домоседничает. Сегодня обедаю у княгини Гагариной (Соймоновой) и на бале у князя Щербатова. Одно рассеяние – Тюремный замок и Архив, где вчера Малиновский любезничал со мною и осыпал меня приветствиями и услужливыми предложениями. Четверо уже для меня выписывают. Какие сокровища! Не знаю, с чего начать: все любопытно! Как умна была Екатерина и как безграмотна! Но и король-философ немногим перещеголял ее в орфографии. Фредерик II не умел или не хотел писать правильно своего имени. Как они друг другу фимиамничали! За «Наказ» он ее ставит выше Солонов и Ликургов; она его – выше Александра за победы. Но сама она называет свою бессмертную компиляцию просто компиляцией, большею частию из других выписанной и ей не принадлежащей. Иосиф II также ей подтрунивает; о – вассале Понятовском уж и говорить нечего: «падам до ног» да и только. Скажи Баранту, что часть французской новейшей история, особливо революции – здесь, в архиве. И право, все бы к чести и к славе России, по крайней мере здравомыслия Екатерины. Она лучше понимала кобланских выходцев и их интересы; первая заговорила за них и за свои царские интересы, но и пруссаки не устояли. Как трогательны собственноручные письма также безграмотной Марии-Антуанетты, умолявшей о спасении! Но братец и дядюшка венские были глухи, и она обратилась чрез Симолина нашего к нашей же Екатерине уже поздно! Я списываю письма со всеми ошибками: cela explique beaucoup les acteurs. Мария-Антуанетта сильно жалуется на Австрийского императора и еще более на тех, кои окружали братьев короля Лудвига XVI, то-есть, на эмигрантов. Советы королевы были едва ли не благоразумнее эмигрантских; она помышляла о собственном спасении и судила беспристрастнее по какому-то инстинкту; они часто увлекались и местию, и честолюбием. «Quand même avec des forces supérieures on pourrait entreprendre quelque chose, il faudrait encore que les princes et tous les franèais restassent derrière», писала она к императрице секретно, в 1791 году, 3-го декабря. Она хотела вооруженного конгресса; «Un congrès armé qui retenant les princes d'un côté, en impose aux factieux de l'autre et donne aux gens modérés de tous les côtés un moyen de force et un point de réunion». Она умоляла Екатерину уговаривать на это Пруссию, Данию, Швецию, Гишпанию, прибавляя: «Engagé aussi l'empereur а же montrer mon frère enfin». Писала с позволения короля. Барон Бретель пользовался полною их доверенностью в сие время. Особенною записочкой, в 1792 году, 1-го февраля, королева просит об отправлении из Парижа Симолина к Австрийскому императору для дезабюзирования на счет их императора. Симолин послушался и поехал в Вену, по императора не стало к его приезду. Вступил другой на Римско-Австрийский престол. Советы Екатерины королю и принцам и другим державам были благоразумные, но она и себя, и своих берегла и не экспозировала сил империи неверным планам и рассчетам. Она писала к графу Румянцову собственноручно: «II faut prêcher au baron de Breteuil et à m-r de Calonue que de haine particulières et des mésintelligences quand il y va du tout pour le tout est un vrai enfantillages indignes de gens de mérité et qu'ils doivent étoufer tout rancune pour le bien commun de la patrie et convenir а coeur net et ouvert des moyens de la sauver faisant abstraction de tout, autre idée. L'habilité en general ne consiste pas a être entier dans son opinion mais d'avoir ce liant qui ne gâte pas les choses. Se disputer presantement pour les plans du gouvernement futur c'est s'accrocher à l'ombre et laisser échaper le reel»: хоть бы Талейрану! Она посылает графу Румянцову два креста св. Владимира 4-й степени и пишет: «Il remettra ces deux roix aux princes frères du Roy, afin qu'ils eu revêtissent les Sieurs du Ripaire et de Miandre officiers gardes du corps du Roy qui ont sauvé la vie de la Reyne la nuit du 5 au 6 octobre et qui sont à Coblence présentement».
На разных лоскутках отметки её рукою: «Au lieu demandier un azile je ne serai point deguerpi du corps de Condé».
«Хотят сидеть за печкою, ждать, чтоб варенные жавренки им в рот в летели».
«Si le Roy etoit resté au corps de Coudé il n'aurait pas ou besoin d'errer de ville en ville».
Покажи это князю Александру Николаевичу Голицину.
Вот два письмеца со стихами, кои ты мне прислал сюда. Покажи стихи великой княгине Елене Павловне, если вздумаешь, и с выписками о Екатерине. Я отвечал Циркурлге: пусть присылает Фудрас свои басни и другой волгам с чем-то. Если удастся, то поднесем чрез кого-нибудь. Он, кажется, лежитимист и, следовательно, должен нравиться. Я часто помышляю писать и отсюда письма, в форме хроники московского архивариуса; но того и смотри, обмолвишься, хотя и порядочным стихом. Боюсь и похвалить не впопад, например, Екатерину. Было бы чем занять досуг и здесь, и в Париже, но глаза плохи, и архивская пыль с залежавшихся фолиантов, оживляя и просвещая ум, темнит глаза. Для моих занятий места довольно, особливо при бездействии чиновников Архива, но для размещения бумаг и самоважнейших места мало. Архив нужно расширить и взять дом, вмещающий дряхлого Малиновского, под столбцы и фолианты. Довольно стража для житья в Архиве; и от пожара безопаснее при малолюдии. Чем меньше варят и курят около архива, тем безопаснее: это везде наблюдается. Какой-нибудь деятельный поваренок может лишить Россию и Европу и Ангальт-Хербст Екатерининской славы и заслуг деятельного Безбородки или кунктатора Папина. Местоположение Архива выгодное; на пригорке, отделенном широким двором от соседних строений и владычествующим над историческою и памятниками полною Москвою, над монастырями, где живали началоположники наших архивских сокровищ и бытописаний, наши Несторы и Никоны. Кстати: обними Карамзиных. Сюда ожидают Андрея для конной закупки. Здесь расчитывают мой портрет и расхваливают живописца; все клеплят на тебя: его напечатал Краевский. Нельзя ли достать экземпляр этого листка? Спасибо милому Жуковскому за статью о Козлове. «Мой пострел везде поспел»: отпевает Пушкина и Козлова и скоро будет беседовать на Майне с Радовицем и любоваться немецкою стариною. Обними его, провожая, за меня. Подпишитесь за меня на десять экземпляров сочинений Козлова. Пришлю 150 рублей но первому востребованию. А propos (между нами): Гоголь здесь очень в тонком за сестер: не знает, что делать с ними, и в Москве ему не пишется. Хлопочет о их размещении по добрым людям; но жаль, что все одни и те же: Муравьева) да Муравьева; а у ней и без того пансион сирот. И Чаадаев помышляет удалиться в деревню к пьяному брату.
Сию минуту князь Оболенский привез ко мне с другими брошюрами и гравюрами и портрет Д. Фонвизина, гравированный с славного портрета Скотниковым, но изданный или отпечатанный только в малом числе экземпляров. Он купил и самую доску и уступает ее за 150 р. (а может быть и за 100 р.). Я вспомнил, что ты издаешь биографию Фонвизина и посылаю тебе портрет его, а если ты намерен приложить и портрет, то подарю тебе и доску. Уведомь!
Я получил от него и славный гравированный портрет, оригинальный, Димитрия Самозванца. Но роже его, с двумя бородавками, ясно видно, что он был не русский и, следовательно, не Отрепьев и не истинный Димитрий, а литвин; следовательно, воспитанный и предназначаемый на русское царство иезуитами. Портрет выйдет после и для других,
839.
Тургенев князю Вяземскому.
2й-го февраля 1840 г. Москва.
Честь имею поздравить с прошедшею масленицею и с наступившею четверодесятницею; ваш жандарм сыщик провел последний день первой во всем разнообразии потаскной его жизни: утро на Воробьевых горах и под Девичьим монастырем; пообедал в первый раз у здешней с отъезжающей кузиной; поехал на утренний бал к Апраксиной, где, увидев собрата твоего, дедушку Булгакова танцующего, не мог сам ни себе, ни графине Зубовой отказать в двух кругах вальса опять пообедал и уехал к вечерне домой; отслушал ее лежа в пастели, отряхнулся, оправился и на прощальную вечеринку к третьей кузине; оттуда к хворой Свербеевой и снова на бал к Апраксиной, где нашел тех же с утра и новых танцующих; красавицы или полукрасавицы: графиня Зубова, Каблукова, Оболенские, Оникеева (о чем доведено до сведения и её матери) да и Вадковская недурна. Увидел милый колосс Тимирязеву с чувством старинной приязни; расспросил о вас мужа; встретил и поклонился отцу хозяйки, который усадил меня; налюбовался, утомился, напился зельтерской воды и возвратился в Старую Конюшенную к полночи. Письмо твое из Италии читал, по отыщет твоего корреспондента разве Булгаков. Вот и тебе поручение в таком же роде: брат на своем бале узнал от Дежерандо (Фенелон нашего времени), что у него есть сын; что этот сын – повеса; что этот повеса был или и теперь еще в Москве; что Дежерандо желает, чтобы я справился о нем (по секрету) и сделал для него по возможности. Я расспрашивал князя Д. В. Голицына; узнал, что и Барант когда-то писал к нему о сыне Дежерандо; что он бывал у него; что он загулялся здесь, был в долгу, но определительного ничего о нем не помнит и обещал отыскать его; я просил об этом и моего нового приятеля Мюллера, который не вспомнил имени Дежерандо(что уже хороший знак для него). Не можешь ли, под рукою, спросить у Баранта, где мне отыскать сына Дежерандо? Известно ли что ему о нем, и не могу ли я быть для него на пользу и как? Я люблю и уважаю отца; одолжен им по желанию его быть нам полезным, хотя и безуспешно, и желал бы отблагодарить ему. Я и не знал до сей пори, что у Дежерандо есть сын, кроме парижского, ныне судьею. Дежерандо все время и почти все таланты посвящает благодеяниям и особенно страждущему человечеству и обрек на то же и свою племянницу; он – деятельнейший член и президент одного отделения Совета и, сбирая подаяния для глухих, немых, слепых и зябнущих зимою, в то же время читает лекции об администрации, секретарствует во всех христианских обществах, рядит в Совете, судит в Камере пэров и пишет историю философии, а некогда, при Наполеоне, заслужил благодарность почти всей Италии, и Перуза поднесла ему прекрасную картину. Вот еще поручение: Свербеевы очень просят тебя замолвить словечко у Сенявина, хотя чрез Велгурских, за армянина, о коем прилагается при сем записка. Ему бы хотелось из Института Лазаревых поступить на службу или в Азиатский департамент, или в училище восточное. Такие знатоки восточных языков – находка для наших азиатских правителей. Его очень хвалят, и похождения его и любовь к востоку – honny soit qui mal y pense – заслуживают одобрения.
Он – росту двух аршин с вершком,с глазами Боратынской и еретик григорьянского исповедания. Обними за меня Жуковского на прощанье, да скажи ему, не может ли он мне отложить у тебя те книги о Швеции и о Скандинавии etc. вообще, кои я отложил для себя в его библиотеке? Я не на шутку сбираюсь заняться моими путевыми записками, особливо если отставят короля, нашего доброго соседа. У Жуковского – два бюста батюшки: я бы желал, чтобы один сохранял он, другой – ты. По возвращении в Петербург, один из них я постараюсь отправить водою в Париж. Доложи Боборыкиной, что крестьянин её, в прошедшее воскресенье одурманенный, до самой полуночи кричал «караул», рвался и бесился; потом затих, потом заснул, образумился и на другой день цел и здрав отправился во свояси. Товарищ его, коего погнали к Таганке, также выздоровел; хлеб продал и возвратился в деревню.
840.
Тургенев князю Вяземскому.
29-го февраля 1840 г. Москва.
Я посылаю к князю Александру Николаевичу прекрасные стихи Хомякова: «Киев» и на кончину двух детей его малюток. Так как он отдает их Павлову для его кипсека, то Павлов и запретил мне и к вам посылать, опасаясь, что копия попадет в какой-нибудь толстый журнал; но, вероятно, я пошлю их к тебе, если успею списать. Можешь и от князя достать, но не выдавать и не издавать.
Вы уже, конечно, знаете, что Перовский возвращается. От 4-го февраля пишет он большое письмо к Булгакову, верст за 150 от Эмской крепости, что мороз и в палатке 32 градуса; что он, омокая перо в чернила, каждый раз разогревает его на свечке, и что уже из его верблюдов умерло 4000. Войско не унывает и готово идти далее, но он не хочет для своей славы им жертвовать и возвращается. Письмо его длинное, по я не читал его, а только видел и сообщаю со слов Булгакова. Теперь нужно бы заготовить хорошую статью для «Аугсбургской Газеты»: со всеми справедливыми подробностями и голою истиною обезоружить, елико возможно, готовых уже врагов и насмешников, видевших в нас будущих завоевателей Индии. Перовский может отвечать им как… (а кто не помню, хоть убей): «Я шел сражаться с врагами отечества, а не с природой». В девиз ему: «In magnis et voluisse sat est.»
Я только что вчера напал в Архиве на записку Бланкеннагеля о Хиве и Бухарии, хотя краткую, но довольно дельную. Не посылаю. К чему?
Здесь скончалась одна из дочерей, кажется, меньшая, Самарина. Отец может сказать с Хомяковым:
Теперь прихожу я – везде темнота,Нет в комнате жизни, кроватка пуста:Лампадки погас пред иконою свет…Мне грустно: малютки (ок) моей (их) уже нет,И сердце так больно сожмется.Вчера прожил я целый день по европейски: завтракал в 11 часов, работал в Архиве до четырех, визитничал до пяти и обедал в шесть у княгини Долгоруковой. Да и какой же обед! Фазаны с трюфелями и прочее, и вина подстать. Она велела тебе кланяться и жалеет, что тебя не было с нами. Вечер но обыкновению у Свербеевых.
Теперь я перебираю Потемкина, Безбородко и переписку с ними Булгакова из Царяграда и Варшавы. Первое письмо Булгакова, из Едикуля, тронуло меня. Он видел неминуемую гибель, прощался и просил за престарелого отца и за детей без воспитания. Какой-то екатерининский патриотизм одолевал в нем ужасы смерти. Провидение спасло его для Варшавы и для Немецкой слободы, где удалось мне пображничать с ним в так называемой библиотеке, то-есть, в погребу, с соседом, католическим ксендзом, коего держал он шутом и в воспоминание о своей польской жизни и службе. Я наблюдаю и формы тогдашних писем в подписи, в заглавии. Указ об уничтожении раба, а может быть и ода Капниста подействовали, если не на дух народный, то-есть, на массы, то на высший класс и на чиновников; вероятно, и польское «падам до ног» исчезло с республикою или с аристократическим деспотизмом.
Не худо бы справиться в польских архивах.
«Киев» Хомякова, право, прелесть! Достаньте и Карамзиным прочтите.
841.
Тургенев князю Вяземскому.
[Начало марта. Москва].
Не можешь ли ты, en causant avec Barrante, справиться: было ли напечатано письмо Караччиоли к д'Аламберу о Неккере и о его финансовых tours de passe-passe? Я сам помню кое-что из этого письма; но не знаю, было ли то, что я помню, известно по одному преданию или в книгах и в брошюрах того времени. Например, в этом письме нашел я ответ Караччиоли королю, когда он его поздравлял с важным местом в Неаполе: «La meilleure place pour moi serait la place Vendome». Здесь и о старой французской литературе не у кого и справиться. Один Салтыков, но он дремлет в Сенате и в Опекунском совете и на сенаторских обедах. В числе приложений, печатных и рукописных, к депешам, нахожу я много любопытного, по не знаю, перешло ли это тогда все в печать и в публику, или должен я обогащать этим мою котомку?
Сколько интересного нашел я о Неккере! Как он много значил в тогдашней истории Франции и Европы! Как существенно переиначили время и людей или их образ мыслей его женевские формы и его женевское и финансовое шарлатанство! Как в его шарлатанстве много дельного, и как много шарлатанства в делах его! Как в одно время ласкательством своим королю, им упоенному, он был близок к эпохе и к формам дореволюционным, и как в нем же самом олицетворялась уже вся французская революция! Как он был близок к (sécurité) беспечности народной и правительства французского во время оно и к бездне, поглотившей и финансы, и правительство! Как жаль, что тогда русские администраторы мало знали то, что происходило во Франции по части администрационной; мало пользовались ошибками французского правительства, и что голоса, кои и тогда уже кое-где слышались во Франции, голоса мудрых и постепенных исправлений, истинного патриотизма, заглушены были и для Франции, и для всей Европы бурею революции! Теперь бы, на досуге, собрать эти голоса, эти мнения добросовестные, беспристрастные и издать их к чести их авторов и на пользу нашу. Я имею в виду не политику, а только одну администрацию; но её попытки и безуспешные и пагубные приемы произвели и тогдашнюю политику разрушительную и буреносную, но и освежившую, и оживотворившую Францию.
Другая любопытная и умная брошюра (в рукописи) – «Les comment». Была ли и она напечатана? Это сильная и дельная критика Неккеровых операций и верная картина его шарлатанства; поучительна для тех, кои еще не подпадали подобным финансовым операциям. Наши прения о финансах в Гурьево-Сперансковскую эпоху как-то напоминают неккеризм, но грозу 1812 года и путешествие нашего Неккера докончи сам, а мне пора в Архив, И сам Неккер впоследствии сделался компилятором старых законов, за кои Россия останется ему благодарною.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
842.
Тургенев князю Вяземскому.
7-го марта 1840 г. Москва.
Что ты замолк? Ни ответу, ни привету на все мои письма. Что же портфель с портретами и с гравюрами? Вчера провел я вечер с А. Карамзиным у княгини Мещерской; тут были и ярославская Полторацкая, и княгиня Голицына (Ланская). Сегодня Карамзин едет во свояси. Ожидаем и закупщика коней. Здесь все по прежнему тихо и скучно. Начались концерты. В моем соседстве Киреева, но одна сам-друг; я еще не видал её. Из Парижа – ни слова. Узнал ли Веймара в «Revue des deux mondes» запрещенной?
Можно ли мне еще послать письмо чрез Баллада? Я пишу отсюда по почте, по не все. Правда ли, что и князь Иван Гагарин женихается? Уехал ли Жуковский? Поклон твоим и Карамзиным. Вчера был у Четвертинских. Прости!
Я продолжаю в архивском навозе собирать и нанизывать перлы. Навоза мало, а перл много, и самых драгоценных. Необходимо, чтобы каждое министерство прислало сюда депутата для выписки всего полезного по части каждого ведомства, не исключая и литературного. В мнениях Потемкина, Безбородки, Румянцова, даже в советских протоколах и записках много важных указаний и какой-то государственной мудрости. Военная история так же богата здесь материалами, как и дипломатическая. А биографические и характеристические черты! Я отыскал в записке графа Николая Ивановича Салтыкова к князю Зубову Козодавлева точно таким, каким сам знавал его и каким перешел бы он в потомство, если бы оно было у нас.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
843.
Тургенев князю Вяземскому.
11-го марта. [Москва].
Очень мне грустно, что и ты болен. Булгаков приезжал вчера читать мне письмо твое. Третьего дня. в Архиве, я так застрадал глазом, а вчера и другим, что поехал к больному глазному доктору Брозе: он велел пустить пиявочную кровь за ушами и дал лекарство. Лучше, по еще страдаю и пишу сквозь слезы, безустанно текущие.
Если трудно разобрать ящик, то конечно лучше не посылать. Но мне бы очень нужен был мой портрет, в Брейтоне писанный, с головы до ног, и другой – Саши, карандашевый, на почтовой бумаге; да гравюры (два листа) с bas reliefs Торвальдсена в Копенгагене. Я обещал все это, и ко мне пристают. Ключ у солдата, и он бы мог вынуть и не посылать большего портфеля, а один маленький из голубого картона, в коем Сашин и мой портреты. Глаза болят. Прости! Дай Бог тебе лучше! Будешь ли ты сюда и когда?
Отправь чрез Валлада письмо в Париж или с нашим курьером; оно очень нужное, и в нем документ с отпускной для графини Самойловой. Слышу, что она в Париже.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому.
844.
Тургенев князю Вяземскому.
15-го марта. [Москва].
Я все болен; два раза пускал кровь; сейчас приставил мазь Брюкпера за уши. Взял для тебя от Орловой прилагаемую книжку. Поблагодари ее. Писать более не могу. Просижу еще с неделю дома. Досадно! Каков ты?
Верно, Лермонтов дрался с Бар[антом] за кн.?[7] Скажи великому князю Михаилу Павловичу, что protégé его Richard, путешествовавший по России и описывавший и его, и все в ней, на днях был у Троицы с моими книжками; звонил там во все колокола, возвратился сюда, а третьего дня умер; завтра его хоронят и книги мои с ним и все, что написал и узнал о России, но что много поехало и в чужие край. Меня навещают дамы, и ввечеру раут.
На обороте: Князю Вяземскому.
845.
Тургенев князю Вяземскому.
16-го марта. [Москва].
Получил твое 11-е марта. О Фонвизине кое-что нашел и для тебя отметил, то-есть, его отношения можно угадать. Я прежде тебя об этом для тебя думал. О Панине у меня много: характеристика его в инструкции Бержена Вераку; это в Петербурге, а в Париже – оригинал. Достану тебе; но много о нем в депешах, о чем я и в моих письмах к князю Голицыну говорю. Разрешаю приложить и прошу. Мне никто этого запретить не может.
Пришли «С.-Петербургские Ведомости» обо мне, а то я не буду знать заслуг моих. Я посылаю кое-что любопытное сегодня князю Александру Николаевичу. Поздравляю с хорошим известием из Бадена. Спасибо за это. Тимирязев уехал. Глазам лучше, но и Брюкнера пластырь уже за ушами.
На обороте: Князю Вяземскому.
846.
Тургенев князю Вяземскому.
21-го марта 1840 г. Москва.
Ты меня надоумил писать чрез Баранта, и вот исполнение. Ежели он не едет, то опять отправь от моего имени к Валладу, для отправления с первою оказией. Письмо очень нужное.
Спасибо, что познакомил меня с моими заслугами. Посылаю рапорт Уварова в чужие своясы, дабы знали на чужбине, чем я там и здесь занят, и что я не шпион, а соглядатай исторический. Жаль, что о новейших приобретениях по новейшей истории ничего не упомянуто! Надобно мне, чтобы знали в Париже что и где и как я приобрел. Постараюсь, чтобы представили меня в настоящем виде.
Я еще не выезжаю; глазам лучше, но слабы очень. Завтра надеюсь выехать в Архив и к Свербеевым, кои ежедневно почти навещают меня с прочею братиею. Выкладываю для них на столе ежедневно новые штуки из исторической котомки, новые и старые книги любопытные, переписку сорока лет, «Débats» и «Allgemeine Zeitung», где много любопытного и не для всех открытого. Итальянская, полуофициальная брошюра об Унии очень любопытна: она ответ на нашу; нужен бы был и ответ на ответ. Но полно: в глазах Малиновского рябины. Здесь проехал недавно курьер Перовского к государю. Картона еще не получил; не привезут ли сегодня? Почта еще не пришла; 2 часа.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В С.-Петербурге.
Приписка А. Я. Булгакова.
Здорово, душа моя! Сегодня некогда писать к тебе.
847.
Тургенев князю Вяземскому
25-го марта 1840 г. Москва.







